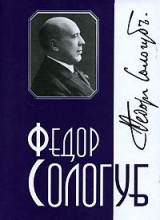
Текст книги "Том 8. Стихотворения. Рассказы"
Автор книги: Федор Сологуб
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 23 страниц)
Неутомимость
Был в конце нежаркого лета день праздничный, теплый, слегка туманный. Туман, пронизанный горьковатым запахом гари, стоял уже пятый день. Сегодня он рассеивался, небо вверху светло голубело, и призрачные очертания высоких туч уже выделялись на нем. Под пеленой редкого тумана поля, еще не пожелтевшие деревья и словно недвижная река, радостно голубая, казались легкими и блаженными. Если задуматься, замечтаться, забыть, то можно было вообразить себя перенесенным в обиталище блаженных душ. К тому же и людей не было видно. Над рекою недавно пронеслись свистки двух-трех пароходов, а теперь широкая грудь ее звучно дышала легкими отголосками прибрежной тишины.
Прислонясь спиною к березе на высоком берегу, на мшистой земле сидел мальчик смуглый, загорелый, босоногий, в короткой светлой одежде. По лицу ему можно было дать пятнадцать лет, да столько ему и на самом деле было. Он жадно читал книгу, быстро перелистывая странницы, нередко возвращаясь к прочитанному. Тогда он призадумывался на минуту, и складка умственного напряжения стягивала его черные, двумя тугими луками изогнутые брови.
Послышался шорох приближающихся шагов. Мальчик обернулся досадливо. Увидел подходящую девочку с кистью крупной рябины в руке и улыбнулся радостно. Как всегда, с любованием смотрел он на свою подругу, и ему было приятно, что она веселая, красивая и стройная. В красном сарафанчике, босиком. Только годом моложе его, и очень дружна с ним.
Поздоровались. Мальчик увидел на ее загорелой ноге обхватывающую подъем стопы неширокую белую повязку. Он спросил:
– Что, Катышок, «порезала ноженьку голую»?
Катя засмеялась. Села рядом с мальчиком и говорила:
– Вчера в поле. Серпом неловко махнула. Хочешь рябины? Она уже вкусная. Нарочно для тебя сорвала.
– Спасибо, Катышок. Косолапые мы с тобою, Катышок, неловкие пока. А туда же, помогать пошли. Ну да ничего, в будущем году, пожалуй, у нас дело лучше пойдет.
Катя прислонилась плечом к его плечу и сказала:
– Я, Лаврик, и этим летом очень довольна.
– Оно лучше прошлого? – спросил Лаврентий.
– О, да! – с убеждением отвечала Катя. – Я и представить не могла, что это – так трудно, тяжело до изнеможения и в то же время так радостно.
Лаврентий улыбаясь смотрел на нее и говорил:
– Пятьсот лет тому назад сюда к реке выходил паренек вроде меня и горланил звонко:
Во поле цветочки
Расцветали,
Во лузях девочки
Гуливали.
А тысячу лет назад только волки здесь рыскали, да лес дремучий шумел. От лета к лету на земле все становится лучше, от века к веку. Сама природа учится у нас, и теперь она тоньше, духовнее, больше знает и благосклоннее к нам, чем тогда, когда на земле жил наш человекоподобный предок.
Катя улыбнулась. Покачала головою. Сказала:
– Расхвастался ты что-то уж очень, Лаврик. Разве мы лучше наших отцов?
– Не лучше, а счастливее, – уверенно сказал Лаврентий, – удачливее.
– Послушать маму, – говорила Катя, – мы гораздо поплоше. Очень по земле ходим, вверх не полетим.
Лаврик вспыхнул. Заговорил горячо:
– Ну да, знаю. Это наши старшие братья и сестры много лишнего наболтали. Насчет своей практичности, своей близости к жизни, своего отвращения к всему неясному. Но это не то, совсем не то. Между нами есть всякие, по-разному смотрящие на жизнь. Но главное у нас то, что мы просто удачливее вышли.
Дети часто беседовали на такие темы. Они сходились часто и зимою, и летом. Жили рядом и в городе, и здесь на даче. Родители были дружны. А мальчик и девочка почему-то были уверены, что они так и родились друг для друга, и любили один другого чистою и тихою любовью. Настроения у них были добрые и спокойные, хотя грозовой год коснулся их семей опаляющим дыханием: Катин отец, артиллерийский прапорщик запаса, был ранен и взят в плен; отец Леврентия, пехотный капитан, долго лежал в лазарете, где ему отрезали правую ногу до колена. Искусственная нога была сделана очень хорошо; Алексея Николаевича отпустили домой, в отставку. Здесь он учился все лето владеть ногою, хотя до последних дней не решался расстаться с костылем, и не столько потому, что нога служила плохо, сколько потому, что еще чувствовал себя нервно, не окрепшим после чудовищных потрясений войны.
– Вот хоть бы то взять, – сказал Лаврентий, еще более краснея и волнуясь, – как наши отцы были не тверды и не уверены в своей любви.
Катя опустила глаза. Она знала, что у ее отца есть дети от другой женщины. Знала и то, что Людмила Павловна, мать Лаврентия, вышла за Алексея Николаевича после того, как развелась со своим прежним мужем. Да, она знала, что родители их изменчивы и в чувствах, и в мнениях своих.
– А мы? – тихо спросила она.
– А мы не разлюбим, не изменим, и ты сама это знаешь, – уверенно сказал Лаврентий.
Катя подняла глаза, – и глаза их встретились. С минуту они смотрели друг на друга, точно в роковом поединке скрестив испытующие взоры. И потом они разом вдруг улыбнулись уверенно и нежно. Острая сладость пронизала сердца их, и они поняли еще раз, что их две жизни сплетены навеки. Так радостно было им ощутить в себе верное биение мужественных сердец, готовых ответить на всякий зов быстро проносящейся жизни.
Легкие тени призрачно легли на высокий берег, на влажную траву, и заблистали радостные росинки, точно по заре утром. На небе, сквозь мглистый туман пламенея, неяркое, но еще высокое стояло солнце, благостно глядя в смеющиеся глаза детей, не ослепляя поднятых к нему детских взоров. Было все вокруг благостно, тихо и чисто, как в обители блаженных. И с простодушным восторгом смотрела Катя на своего друга.
Послышались невдали звуки домашнего колокола. Лаврик хмуро улыбнулся, и в голосе его слышался оттенок досады, когда он говорил:
– Зовут обедать. Сядем за стол, Даша и Надя будут нам служить, и будут господа и рабы, и никому это не странно.
– Не господа и рабы, а богатые и бедные, – сказала, Катя.
– В совершенном обществе так не будет, – сказал Лаврентий. – Только коллектив может быть богат, а люди все до одного должны жить в радостной, беспечной нищете. В народных домах пусть будет блеск, великолепие и веселье, а в наших домах – уют, покой, простота.
– Теперь не так, – сказала Катя.
– Мы, Катя, все это переменим, когда будем хозяевами в нашем дому.
Катя улыбалась и молча смотрела на него. Лаврик подумал вдруг, что еще не скоро им быть хозяевами в их дому. Ну, что же! – подумал он, – подождем, ведь не мы дом строили.
– Научимся, построим новый, – сказал он вслух.
Катя понимала. Не первый раз о доме своем говорили они, – о недостроенной храмине русского бытия.
– К нам вечером придете? – спросила она.
– Да. Сегодня весь день дома, завтра опять в поле.
– И отчего это такой туман? – досадливо спросила Катя.
Лаврентий засмеялся.
– Я читал в здешней газетке, – это оттого, что в Сибири тайга горит.
– Ну? Так далеко приполз? – с удивлением спросила Катя.
– Может быть, и правда, – говорил Лаврентий. – На земле все связано одно с другим. Здешние мужики говорят, что там, где-то за Волгой, торфяные болота горят. А мне, знаешь, Катышок, нравится этот туман. Так сквозь него все красиво, как во сне праздничном. Словно что-то лучше жизни.
– Лучше жизни нет ничего, – с убеждением сказала Катя.
Лаврентий посмотрел на нее строго. Она повела тонким плечиком и сказала:
– Если понадобится, я отдам жизнь за других. Скупиться не стану, но все-таки это самое лучшее, что у нас есть.
По узкой тропке поднялись они на дорогу и разошлись, каждый к себе.
Лаврик поднялся на террасу, где обедали. Отец в серо-зеленом кителе стоял в дверях из гостиной, прислонясь к косяку двери, и улыбался. От улыбки его суровое, исхудалое лицо совсем переменялось и казалось добрым, простым и таким красивым, что становилось понятно, как в этого человека должны были влюбляться женщины.
– Где же твой костыль? – опасливо спросил Лаврик.
– Да что, брат, костыль, – дома остался. Учусь пользоваться искусственною ногою. Ничего, хожу понемногу. Отдохнул, нервы стали покрепче, и уж не тянет каждую минуту, как прежде, за костыль хвататься, чтобы не упасть.
Говоря это, Алексей Николаевич почти совсем ровно подошел к столу и сел радом с женою. Людмила Павловна была, очевидно, озабочена чем-то, и лицо ее под легким северным загаром показалось Лаврентию побледневшим и осунувшимся. Она смотрела на мужа с неопределенным выражением. Лаврик удивился, хотел что-то спросить, но удержался. Мать слегка вздохнула, окинула Лаврентия привычно-внимательными, привычно-заботливыми глазами, и, заметив в его руке, вместе с книгою, полуощипанную ветку рябины, спросила:
– С Катею был?
– Да, мамочка.
Отец был оживлен, неспокоен. Ему хотелось говорить, спорить. Он сказал жене, указывая на Лаврентия:
– Ты знаешь? Он тебе развивал свои теории? Как же, у него уже есть своя собственная теория насчет нового поколения. Он уже на нас немного свысока смотрит.
Лаврентий слегка покраснел.
– Избави Бог, папочка. Вы – герои.
– Да, да, герои, но… Где твое но? – с легкою насмешливостью говорил отец. – Вот в этом твоем но и заключается вся соль. Ну, говори, говори, стесняться нечего.
Лаврентий легонько пожал плечами и говорил:
– Вы – герои, но не воины. Вы способны на такие подвиги, которых устрашились бы славнейшие герои древности, но все же вы слишком герои. Вы годитесь для подвигов, для самопожертвования, ваша цель – слава, и вы если победите, то случайно. А вот мы будем воинами. Не героями, а машинами для побед. И нас никто не победит. Нами Россия будет сильна и непобедима. И нам никто не изменит, – мы доглядим.
Алексей Николаевич засмеялся.
– Какая великолепная самоуверенность! Ну а что ты сделаешь, если тебе твоя Катя изменит?
Лаврик самоуверенно улыбнулся.
– Я знаю, что этого не будет, – спокойно сказал он. – Ведь мы не потому будем друг другу верны, что я очарован ею, а она мною.
Людмила Павловна спросила досадливо:
– Любовь без очарования? Это что же такое?
– Чистая любовь, – опять легко вспыхивая, сказал Лаврентий. – У нас все будет без печалей: нравственность без угрозы, долг без принуждения, любовь без безумства.
– Вино без алкоголя? – спросил отец.
– Опьяняться не будем, – отвечал Лаврентий. – Просто и верно проживем. Катышок для меня, я для нее, – иного нам не нужно. Влюбляться в красавиц и в красавцев не станем. Красоты нам не надобно.
Отец вздохнул. Сказал:
– Что будет, этого никто не знает. Нам достаточно знать, чего мы сами хотим. Вот мне отняли ногу, поставили искусственную, но я хочу ходить, и хожу. Хочу воевать, и буду. Если хочу, значит, и могу. Долг без принуждения, – это, Лаврик, не ваше изобретение; этому вы у нас научились.
Мать с укором посмотрела на Лаврика. Он покраснел и опустил глаза в тарелку.
Туман над рекою становился гуще. По реке бежал пароход, большой, пассажирский, тяжело и равномерно дыша стальными легкими своей машины, сверкая веселыми огнями. Когда он прошел, тени в саду точно еще более сгустились, и вдруг на белые стволы берез упали мелькающие багровые отсветы. Горничная Даша воскликнула:
– Батюшки, да никак это горит где-то!
И в эту же минуту загудели тревожные звуки набата в ближней церкви.
Лаврик выскочил из-за стола и с легкостью лесного проворного зверька бросился в свою комнату одеваться. Через минуту он уже выбежал опять на террасу, на ходу поправляя завернувшийся неловко под правым коленом серый чулок.
– Уже готов? – спросил Алексей Николаевич.
– Всегда готов! – крикнул Лаврик.
Он бежал по боковым дорожкам к дороге в село.
– Всегда готов, – тихо повторил отец.
Он подвинулся к жене, взял ее руку, пожал крепко. Людмила Павловна молча, сдержанно улыбаясь, глядела на него. Плечи ее слегка дрожали.
– Тебе холодно, Людмила? – спросил он тихо.
– Нет, – так же тихо ответила она.
Помолчали. И опять тихо заговорил офицер с суровым, загорелым лицом:
– Что ж, Людмила, нога служит очень хорошо. Я думаю, меня возьмут. Куда-нибудь пригожусь. А, Людмила, что скажешь? Отпустишь меня?
Она нагнулась, заплакала. Потом посмотрела на мужа. Страдание было на лице ее, но лицо ее было светлое. Алексей Николаевич обнял ее за плечи, привлек к себе и глядел на нее сурово и нежно.
– Когда же это кончится, Алексей? – сказала она. – Но ты не думай, я не ропщу. Боже мой, если так надо, – что же я? Ведь я такая же, как и все эти миллионы солдатских и офицерских жен. От Бога, от людей, от родины мы взяли долю счастья, нам надо взять и долю печали и трудов.
– Надо, Людмила, надо, – с суровою нежностью говорил Алексей Николаевич, тихонько поглаживая жену по спине. – Потерпим до конца, Людмила, чтобы нашим детям было легче.
– Алексей, – спросила она, глядя на мужа усталыми, печальными глазами, – может быть, нашим детям будет еще труднее?
– Может быть, Людмила, – спокойно ответил он. – Потому-то мы и должны воспитывать их так, чтобы им всякая тягота жизни была в подъем.
День встреч
I
В жизни мирных обывателей России, Германии, Франции и Англии в начале лета 1914 года ничто не предвещало близости и неизбежности войны. Все, как всегда, занимались своими делами и делишками, а если иногда и заходили разговоры о войне, то она все же казалась еще очень далекою. Европейцы привыкли к своему домашнему миру, и он казался им незыблемым. Жили спокойно, как у подножия давно дремавшего вулкана накануне внезапного извержения. И не знали, что скоро все они будут захвачены могучим потоком мировых событий. Но уже еле зримая тень этих событий зловеще ложилась на дела и на помыслы людские…
Розовые и белые цвели каштаны. В воздухе тихой чистенькой деревни Розенау мило звучали птичьи щебеты и звонкие голоса только что отпущенных из школы детей. Бледно-красная черепица кровель на темно-красных кирпичных домиках казалась только что вымытою прилежными хозяйками, но вымыта была она прошедшим вчера веселым теплым дождиком, хозяйки же в этот час мыли плитяные ступеньки своих домов.
В саду и в огороде около школы песочные дорожки были гладки, и грядки были ровны, и яблони, обещая хороший урожай, радовали глаз. И все было чисто и прибрано в комнате молодой учительницы Гульды Кюнер.
Гульда стояла у окна и рассматривала свои башмаки, наклонившись слегка и приподнимая немного спереди свое платье. Вешние очарования в этот милый день не радовали Гульду. Не потому, чтобы она очень устала, – она была сильная, здоровая девушка с красными щеками, с высокою грудью, с большими руками и ногами, и школьные занятия не утомляли ее. Выросшая в трудовой крестьянской семье и в бедности, она считала свою работу легкою и свое положение очень хорошим.
Весь этот день Гульда испытывала жестокое беспокойство и страх. От этого ее красивое, крестьянское, грубоватое лицо с правильными и крупными очертаниями, смягченными милою полумаскою веснушек, иногда багряно вспыхивало, словно наливаясь кровью, уши были очень красны, и красивые руки, только что чисто вымытые, более обыкновенного, – от холодной воды, – красные, крупные, унаследованные от многих поколений немецких мужиков, дрожали заметно.
Гульда волновалась потому, что сегодня утром получила неприятное письмо. Школьный инспектор ее округа, господин Адольф Веллер, приглашал ее для неотложного, весьма важного разговора сегодня от трех до четырех часов дня. Весь день для Гульды был этим письмом испорчен. На уроках Гульда была очень рассеяна и невнимательна, и вела себя с детьми очень неровно, – то не замечала шалостей, то с удвоенным усердием принималась шлепать мальчишек и девчонок линейкою по спинам и по пальцам.
Едва отпустив детей, Гульда стала собираться в город Кельберг, где жил господин школьный инспектор. До города считалось четыре с половиною километра.
Гульда, пытаясь обмануть себя и отвлечь внимание от беспокойных предположений, думала о своих поношенных башмаках. Новых у нее не было, – новые она купит из того жалованья, которое получит на днях. Гульда получала достаточно для нее самой, но она уделяла кое-что на воспитание и обучение младшего брата, помогая в этом старой матери. Поэтому ей приходилось быть очень бережливою, и весь ее годовой бюджет был расчислен вперед по месяцам, – когда что можно купить.
Наконец Гульда решила, что башмаки еще достаточно крепки. Было без пяти минут два. Пора идти, а то ведь, пожалуй, и опоздаешь. Сердце Гульды сильно забилось, когда она, стоя перед маленьким зеркальцем, стала надевать свое праздничное светло-розовое платье и соломенную желтую шляпу с голубою лентою.
Что же так волновало и страшило сегодня бедную Гульду?
II
Дней пять тому назад случилась с Гульдою в школе неприятная история. Один из ее учеников, непоседливый краснощекий мальчишка Антон Шмидт рассердил Гульду какою-то глупою, надоедливою шалостью. Гульда нашлепала его по спине линейкою, а так как ей показалось, что эти шлепки недостаточно вразумили шалуна, то она вдобавок дала ему пощечину, да так неосторожно, что у него из носу пошла кровь. Гульда смутилась, – она не ожидала таких последствий. Мальчишка, утирая нос грязным кулаком, сердито пробормотал что-то. Гульда не расслышала. Она спросила притворно-спокойным голосом:
– Что ты там бормочешь?
Антон опасливо покосился на нее и промолчал. Мальчики смеялись, радуясь внезапному развлечению. Девочки сидели скромно, с таким видом, как будто это их не касается. Кто-то услужливый из мальчишек поторопился сказать Гульде:
– Он говорил, что пожалуется.
Смущенная Гульда ярко покраснела. Она стояла посреди класса в неловкой позе и не знала, что сказать.
Антон искоса кинул на нее быстрый, хитрый взгляд и принялся отпираться:
– Я этого не говорил. Очень мне нужно жаловаться! Я и не думаю жаловаться. Я – не девчонка. Мне в прошлом году Эрих Реннер тоже нос расквасил, однако, я никому не жаловался.
Гульда спросила:
– А что же ты говорил сейчас?
Антон отвечал:
– Я говорил: простите, больше не буду.
По смешливому тону его голоса и по хитрому взгляду его зеленовато-серых глаз было видно, что он говорит неправду. Мальчишки смеялись. Заулыбались и девочки.
Гульда наконец сообразила, что надобно сделать. Она отправила Антона умыться холодною водою, чтобы остановить капающую из носу кровь.
Весь остаток того дня Гульда провела очень неспокойно. Она все ждала, что вот-вот постучатся в дверь и войдет мать Антона, почтенная вдова Марта Шмидт. Войдет и начнет говорить неприятные, укоряющие и угрожающие слова. С грубостью и с мелочностью, свойственными богатым мужикам во всех странах земного шара, скажет она много такого, что совсем к этому случаю не относится, но чем можно уколоть и унизить. Скажет, например:
– Такая бедная девушка, как вы, должна была бы дорожить таким местом.
Или:
– То-то приятно будет вашей матери, когда вас выгонят с этого места.
Но госпожа Марта Шмидт не пришла. Мало-помалу Гульда стала забывать об этой истории, – и уже думала она, что все это прошло и позабыто. И вдруг сегодня письмо от школьного инспектора.
Зачем зовет ее Веллер? Неужели из-за этой глупой истории? Как не перебирала Гульда в уме все свои школьные и служебные обстоятельства, она никак не могла найти другое правдоподобное объяснение этого вызова. Ведь если бы это было что-нибудь обыкновенное, Веллер мог бы сказать третьего дня на кладбище, во время похорон одной из городских учительниц, Анны Крафт. Единственное, что оставалось предположить, – Антон пожаловался своей матери, а та, со скрытностью старой крестьянки, никому не сказав ни слова, сходила в город и пожаловалась школьному инспектору, – и вот последствия этой жалобы.
Гульда боялась верить этому и старалась найти другое объяснение. Если это так, то страшно и подумать о том, что могут сделать с Гульдою. Еще хорошо, если дело кончится строгим выговором. А то могут перевести в другую школу, – Гульде было бы это очень неприятно, – или и вовсе уволить от службы. Что же тогда скажет гофлиферант Гейнрих Шлейф, дядя ее милого? Он и без того уж сколько времени упрямится дать согласие на их брак. А без согласия господина гофлиферанта обойтись невозможно, – жалованье Карла Шлейфа слишком невелико.
Испуганное воображение Гульды рисовало ей будущее в самых мрачных очертаниях. Если госпожа Шмидт нажаловалась школьному инспектору, то, конечно, ее уволят. Даже не дадут другой школы. Правда, Гульда почти никогда не навлекала на себя никаких замечаний, и была вообще на хорошем счету. Но сегодня она думала, что школьный инспектор Веллер воспользуется этим случаем, чтобы свести кое-какие личные счеты с нею.
Одна только и была надежда на то, что Антон ничего не сказал матери, и что ее вызывают по какому-то другому делу.
III
Гульда взяла дождевой зонтик, – на всякий случай, – и отправилась в дорогу. Дорога предстояла приятная и легкая, – полями и перелесками. Нанимать экипаж и лошадь на такое небольшое расстояние в такой прекрасный, теплый день Гульда не хотела. Зачем делать лишний расход, если можно идти пешком? Притом же поездка в экипаже привлекла бы общее внимание, и вызвала бы разные толки, тогда как пешком можно пройти гораздо незаметнее.
Встречалось больше людей, чем бы хотелось Гульде. Пока она шла по улице деревни, все еще было ничего и имело вид обычной прогулки. Выдавал только дождевой зонтик, вызывая любопытные взгляды.
Встречные кланялись Гульде, как всегда, приветливо, с тем особенным оттенком покровительственной ласки, который свойственен всякому собственнику по отношению к тому, кто, стоя в каком-нибудь отношении выше его, имеет мало денег. Но Гульде иногда казалось, что на нее так смотрят потому, что уже все в деревне знают о ее деле и смеются над нею. Ласково-приветливые лица взрослых и детей казались ей насмешливыми.
Антон Шмидт попался ей навстречу. Здесь, вне школьных стен, на вешнем солнце, у изгороди, за которою весело и буйно зеленели кустарники, Антон казался еще более румяным, веселым и хитрым, чем всегда. Кланяясь Гульде, он так махнул шапкою, словно в его руке был неистощимый запас сил, делающий каждое его движение чрезмерным.
Гульда подозвала его. Ей захотелось поскорее проверить, жаловался ли он. Знать бы наверное, зачем зовет ее Веллер. Но как спросить мальчика? Чуть было не спросила прямо, но удержал какой-то самолюбивый расчет. Она подумала, покраснела и, слегка запинаясь, сказала:
– Ну что, Антон, твоя мать довольна твоим поведением?
Антон весело засмеялся и со всем благонравием, к какому только был способен, отвечал:
– Да, госпожа Кюнер, мама уже давно не бранила меня.
Он держал шапку в руке. Его круглая голова ежилась во все стороны остриженными рыжеватыми вихрами, и крутой лоб блестел от капелек пота и от усердных усилий говорить, как по книжке.
Гульда спросила:
– Разве твоя мать не знает, как ты шалил в школе?
Антон отвечал:
– Уже несколько дней, госпожа Кюнер, я не получал от вас ни одного замечания.
Гульда сказала:
– А разве ты забыл, как я наказала тебя в прошлую пятницу? Разве ты скрыл это от своей матери?
Антон живо спросил:
– А разве вы, госпожа Кюнер, хотите пожаловаться?
Напускное благонравие соскочило с него, и на его лице отразились страх и злость. Он думал:
«Нос расквасила, да еще жаловаться хочет!»
И это он считал большою несправедливостью. Дело казалось ему поконченным, и вновь поднимать его было не к чему.
Гульда увидела по его лицу, что он боится ее жалобы. Значит, – подумала она, – он не сказал. На короткое время ей стало весело. Но вдруг пришло ей в голову, что ведь об этом случае могли рассказать его матери другие. Опять ей стало тоскливо, и она быстро пошла вперед.
Антон шел за нею и упрашивал, чтобы она ничего не говорила его матери. Чем ближе подходили они к дому вдовы Шмидт, тем плаксивее становился его голос. Гульда думала, что хитрый мальчишка только притворяется испуганным, а в душе смеется над нею. Она строго поглядела на него и сказала:
– Антон, не иди за мною. Я твоей матери не видела с тех пор, и пока еще не собиралась с нею говорить. Не воображай, что у меня только и заботы, что о твоих шалостях.
Антон остановился. Гульда почувствовала на своей спине его внимательный взгляд.
IV
Марта Шмидт стояла на высоком крыльце своего дома. Как у всех крестьян в той местности, это был кирпичный дом под черепицею, и стоял он, как у всех, между садом, выходящим на дорогу, и огородом сзади дома. Марта Шмидт вязала чулок и смотрела на дорогу.
Остановившись у калитки сада, Гульда первая сказала:
– Добрый день, госпожа Шмидт.
И ей самой стало стыдно, что в голосе ее звучали заискивающие нотки. Марта, улыбаясь, как любезная хозяйка, сказала:
– Добрый день, госпожа Кюнер. Погода хорошая, а у вас зонтик в руках. Не собрались ли вы в далекую прогулку? Но отчего вы не взяли с собою кого-нибудь из детей?
Гульда отвечала:
– Я иду в Кельберг.
Марта удивилась.
– За покупками? Но отчего же вы так нарядились? И вы без мешка.
– Нет, госпожа Шмидт, не за покупками и не на прогулку. Меня приглашает господин инспектор Веллер.
Говоря это, Гульда внимательно и тревожно смотрела на Марту. Марта сказала приветливо:
– Зайдите же, госпожа Кюнер, посидите немного.
Любопытство засветилось в узких глазах старой женщины. Гульда сказала:
– Благодарю вас, госпожа Шмидт. Я посижу минутку с вами на крыльце, но я должна не опоздать. Господин инспектор будет ждать меня только до четырех часов, и позже придти было бы невежливо, да господин инспектор, может быть, не будет дома или будет занят.
Марта, усмехаясь с видом человека, пожившего на свете и видевшего людей, сказала:
– Не беспокойтесь, госпожа Кюнер, вы имеете достаточно времени и придете в назначенное время. Вы можете посидеть у меня четверть часа. Скажите, зачем же вызывает вас господин школьный инспектор?
Гульда отвечала:
– Не знаю. Может быть, какая-нибудь жалоба?
Голос ее слегка дрогнул при этих словах. Марта махнула рукою:
– Что вы, госпожа Кюнер! Кто же может жаловаться! Все в Розенау довольны вами.
Гульда нерешительно сказала:
– Да уж я не знаю.
Она взошла на ступени крыльца и села на скамейку у двери. Марта села рядом с нею и говорила:
– Уж не хочет ли господин школьный инспектор предложить вам должность учительницы в Кельберге на место покойной госпожи Крафт?
– Этого не может быть, – сказала Гульда. – Госпожа Крафт только пять дней назад скончалась, и господин школьный инспектор не успел еще об этом подумать. При том же, я думаю, что есть и другие желающие, старше меня.
Поговорив с Мартою минут пять о разных деревенских новостях, Гульда пошла дальше. Так она и не узнала, жаловалась ли на нее Марта или нет.
V
Гульда торопилась. Плотно убитая пешеходная дорожка вдоль шоссе казалась ей нескончаемо-длинною. И уже когда, пройдя липовую рощу над рекою, у проезда к усадьбе богатого землевладельца, барона фон Танненберга, она завидела издали белые домики города, она с отчаянием подумала, что еще остается два километра.
За рекою дорога круто поворачивала и снова шла рощею. Здесь совсем неожиданно Гульда встретила молодого человека, высокого и сильного. Она зарумянилась радостно. В глазах ее засветился тихий восторг. Это был ее жених, Карл Шлейф, племянник гофлиферанта Генриха Шлейфа. У него были голубые, ясные глаза, румяное лицо, мягкие, русые усы, широкие плечи, и он казался Гульде олицетворением мужской красоты и силы. Он говорил:
– Какая приятная встреча! Мой патрон поручил мне уладить одно очень важное дело с бароном фон Танненберг, но я могу проводить тебя немного. Ты гуляешь или по делу? Ты такая сегодня нарядная и такая красивая.
Гульда, дрожа и краснея от волнения, могла только слабо обрадоваться похвале ее милого. Она сказала:
– Мне надо в Кельберг.
Карл вынул часы, подумал немного и сказал:
– Я могу пройти с тобою десять минуть по направлению к Кельбергу, но затем я принужден буду продолжать свой путь. А зачем тебе надо в Кельберг?
Гульда рассказала Карлу о случае с Антоном Шмидтом и о своих опасениях. Карл нахмурился. Он сказал:
– Гульда, ты поступила очень неосторожно. Конечно, мальчишек нельзя не бить, но не надо бить их по носу.
Гульда жалобным голосом сказала:
– Я боюсь, Карл, что меня уволят.
Лицо Карла приняло неприятное, жесткое выражение. Казалось, что его усы жестко топорщились, забыв свою мягкую холеность, и глаза вдруг посерели, когда он говорил:
– Мой дядя, гофлиферант, и так не хочет согласиться на наш брак. Я надеялся его уговорить. Но его самолюбие не позволит ему помириться с тем, чтобы я женился на девушке, которую выгнали со службы за то, что она дурно исполняла свои обязанности.
Гульда воскликнула:
– Я хорошо исполняла свои обязанности. Он сам виноват, – он вертелся, когда я его наказывала, тогда как он должен был стоять смирно.
Разговор кончился взаимными упреками. Расстались, холодно простившись. Гульда плакала. Но некогда было долго заниматься этим, – близок был уже и город.
VI
И вот новая встреча. Товарищ Карла, Отто Шарф. Он тоже ухаживал за нею. Но ей не нравилось, что он небольшого роста, черноволосый, и что он похож на еврея. Он казался ей насмешливым и черствым, и она даже побаивалась его. И теперь, когда он вежливо поклонился Гульде, ей казалось, что он с насмешливым вниманием смотрел в ее глаза и догадывался, что она только что плакала.
Отто Шарф спросил ее, почти теми же словами, как и Карл:
– Какая приятная встреча! Госпожа Кюнер, куда вы идете?
Робея, как школьница перед учителем, Гульда сказала:
– К господину школьному инспектору.
Улыбаясь, говорил Отто Шарф:
– Я это знаю.
Гульда досадливо покраснела и сказала:
– Если вы бываете у господина Веллера, то неудивительно, что вы это знаете.
Отто Шарф спросил:
– А знаете, зачем приглашает вас господин Веллер?
– Нет, – сказала Гульда. – А зачем?
Забыв свою досаду, она с любопытством смотрела на него, – уж очень хотелось поскорее узнать. Продолжая улыбаться насмешливо, как казалось Гульде, а на самом деле робея и волнуясь почти так же, как она, он сказал:
– Я бы вам сказал, госпожа Кюнер. Но вы так неприветливы со мною.
Гульда упрашивала:
– Скажите, прошу вас!
– Улыбнитесь мне ласково, – настаивал Отто Шарф.
Гульда улыбнулась ласково, сложила руки ладонями вместе и молящим голосом говорила:
– Прошу вас, скажите, милый господин Шарф.
Любуясь ее смущением и ее любопытством, Отто Шарф радостно улыбнулся и сказал:
– Хорошо, только не говорите господину Веллеру, что я вам сказал это: господин Веллер хочет предложить вам лучшее место.
Гульда сердито воскликнула:
– Вы надо мной смеетесь!
Покраснела и быстро пошла дальше. Отто Шарф в недоумении смотрел за нею. Он не мог понять, почему Гульда не верит ему.
VII
Подходя к дому Веллера, Гульда встретила двух его дочерей, девушек лет семнадцати-шестнадцати. Их простенькие белые платья и светлые шляпы показались Гульде очень нарядными, и ущемили ее внятным томлением зависти.







