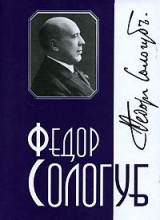
Текст книги "Том 8. Стихотворения. Рассказы"
Автор книги: Федор Сологуб
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 23 страниц)
Обручальное
Мама и Сережа долго спорили:
– Все наши знакомые дамы так сделали, – говорила мама. – И я так сделаю.
– Нет, мама, – возражал Сережа, – ты так не должна делать.
– Почему я не должна, если другие делают? – спрашивала мама.
– Они не хорошо делают, – спорил Сережа, – и я не хочу, чтобы ты это сделала.
– Да это – не твое дело, Сережа! – говорила мама, досадливо краснея.
Тогда Сережа принимался плакать. Мама стыдила:
– Четырнадцатилетний мальчик, а плачешь, как совсем маленький.
И так продолжалось несколько дней, – все из-за кольца обручального. Мама хотела его пожертвовать в пользу раненых. Говорила Сереже:
– Так все делают. Из этого большие деньги можно собрать.
Сережа настойчиво требовал, чтобы его мама так не делала.
– Папа сражается, а ты его кольцо отдашь! – кричал он.
– Пойми, для раненых, – уговаривала мать.
– Отдай что-нибудь другое, а не кольцо обручальное, – говорил Сережа. – Деньгами дай.
Мать пожимала плечами.
– Сережа, ты знаешь, у нас не так много денег. Штабс-капитанское жалованье, – на него не раскутишься.
– Не покупай яблоков, накопишь побольше, чем за колечко дадут; да и мало ли на чем можно сберечь!
Спорили, спорили. Мама почему-то не решалась сделать по-своему, отдать кольцо, – уж очень горящими глазами смотрел на нее Сережа, когда об этом заходила речь.
Каждый раз, когда мама уходила, Сережа решительно говорил ей:
– Мама, без кольца не смей приходить.
Наконец, решили написать отцу, – как он скажет, так и сделать. Мама написала, а Сережа в своем письме отцу ничего о кольце не писал: что-то скажет сам папа?
Перестали спорить. Но Сережа все посматривал на мамины руки. Из гимназии придет, – к маме: блестит колечко? блестит, – и успокоится Сережа. Мама откуда-нибудь вернется, Сережа бежит к ней навстречу, нетерпеливо смотрит, как мама снимает перчатки: блестит колечко? блестит, – и успокоится Сережа.
Прошло несколько дней, пришли ответы из армии от Сережина отца, и Сереже, и маме. Почтальон принес письма вечером, когда сидела мама с Сережею за чаем. Сережа свое письмо распечатал, а читать не может: сердце бьется от нетерпения узнать, что в том письме написано, которое мама читает. Мама письмо прочла, обрадовалась, улыбнулась.
– Папа согласен.
Покраснел Сережа, стоит перед мамою потупясь.
– Вот, читай сам, – говорит мама.
Сережа читает:
«Насчет кольца делай, как хочешь. Дело, конечно, не в кольце, я знаю, что ты меня любишь, ты обо мне тоже знаешь, а все остальное – ерунда, не суть важно».
И дальше о другом.
Сережа прочел, улыбнулся. Спросил:
– Тебе, мама, этого достаточно?
Мама слегка повела плечом, сказала:
– Ну вот видишь, папа согласен.
– А ты, мама, умеешь между строчек читать? – спросил Сережа. – Невесело было папе тебе так писать о колечке. Он свое носит, не снимает.
Посмотрел Сережа на маму внимательно. Мама покраснела, но все-таки спорила:
– Да ведь согласился же папа!
– Мама, пойми, – убеждающим голосом говорил Сережа, – ведь если и кольцо, и всякая памятная вещь – ерунда, не суть важно, то подумай, что же в душе-то у человека должно быть! Милая была вещичка, памятная, – ерунда! Хороший был собор в Реймсе, – не суть важно!
– Сережа, – строго сказала мама, – нельзя сравнивать: там всенародная святыня, много поколений…
– Мама! – воскликнул Сережа, перебивая ее, – то для всех свято, а это свято только для нас, но свято, свято! Если в каждом доме нет святого, заветного, так как же оно для всего народа вырастет, из чего? Все – ерунда, не суть важно, – из чего же большое, великое накопится! Ты думаешь, когда папа это писал, что он чувствовал?
– Что чувствовал! – нерешительно сказала мама. – Чувствовал, что я для раненых…
– Нет, мама, – горячо говорил Сережа, – очень ему горько было. Шутливые слова писал нарочно, чтобы не показать тебе, и другим не показать. Пойдет в сражение, подумает: ну, что ж, у вдовы моего колечка не будет, кто-нибудь наденет ей на пальчик другое.
Мама вскрикнула:
– Сережка, противный, не смей так говорить!
И заплакала горько. Сережа стоял перед нею на коленях, целовал ее руку, – где еще блестело обручальное, – и говорил:
– Мама, милая, мы сбережем для раненых на другом. Можно вместо белого хлеба есть черный, не покупай мне новых башмаков, я дома босиком ходить буду; можно мало ли какой расход сократить, но колечка не смей отдавать.
– Хорошо, не отдам, – тихо сказала мама. – Только о раненых надо же подумать?
– Подумаем, мама, – весело сказал Сережа.
Сберегли колечко для себя, сберегли для раненых на другом. Мама с Сережею сильно сократили все свои расходы, и каждый месяц удавалось им немало отдавать на раненых. Маленькая, домашняя святыня теплилась на маминой руке, радовала Сережу, и утешала его за маленькие лишения. В уюте милых комнат босые Сережины ноги светились, как восковые свечи и радовали маму.
А отцу мама и Сережа написали в тот же вечер, что с колечком передумали и не отдадут его ни за что.
Танин Ричард
Было раннее утро в начале августа. Таня Горная, молоденькая дочь полковника, проснулась радостная и счастливая. Ей было стыдно, что она так радостна, – ее отец и оба брата ушли на войну, и мама каждый день плакала, а обе старшие сестры ходили с грустными и озабоченными лицами. Но Таня знала почему-то, что отец и братья вернутся благополучно и что ее самоё ждет большое счастье. Знала она это по тому особенному чутью к будущему, которое жило в ней с детства и никогда не обманывало ее. Сестры смеялись иногда над ее предвещательными снами, и она избегала рассказывать о них.
Сегодня уже под утро Тане приснился светлый, лучистый сон. В озарении необычайного света предстал пред нею воин в блистающих латах, с огненным мечом в руке. У воина этого было лицо ее молодого друга, англичанина Ричарда Тайта. Воин приблизился к ней и сказал:
– Ничего не бойся, Таня.
– Я ничего не боюсь, – ответила ему во сне Таня. Она привыкла к постоянным спорам с Ричардом, и потому и теперь не могла удержаться от того, чтобы не возразить на слова неведомого воина, похожего на Ричарда. Но, сразу же вспомнив, что это – воин, а не инженер Ричард, и что он только похож на Ричарда, и, догадавшись, что он послан возвестить ей нечто, она застыдилась того, что спорит, и стала на колени перед светлым воином. Тогда воин, ласково улыбаясь ей, сказал:
– Мы победим, и я принесу тебе великую радость.
И на этом Таня проснулась и увидела в незанавешенном окне своей спальни еще совсем низкое солнце.
Тане стало радостно. Она проворно оделась, заплела свои косы и вышла босая в сад. Щеки ее горели, и ей весело было чувствовать, что она сильная и здоровая. Весело вспомнились вчерашние нянины слова:
– Как ни молись, Танечка, а в монастырь тебя не возьмут. Ты что больше молишься, то толще делаешься.
Таня весело подумала: «Бог меня любит, посылает мне здоровье».
И вдруг опять ей стало стыдно этой хвастливой мысли. Она закрыла ярко покрасневшее лицо полными загорелыми руками, стала на песок дорожки голыми коленями и молилась.
Уже она хотела подняться с колен, как вдруг подумала, что мысли ее о только что увиденном сне были грешные. Грешными в них было то, что лицо светлого воина показалось ей похожим на лицо Ричарда. Она опять закрыла лицо руками и молилась долго.
Когда она встала и пошла по сырым еще пескам дорожек к садовой решетке, чтобы смотреть на широкую там, далеко внизу, реку, ей все же было весело и радостно, и лицо Ричарда припоминалось ей. И уже она не упрекала себя за это.
«Что ж такое! – думала она. – Ведь я же его не люблю. А если он любит быть со мною, то это, может быть, потому, что он любит спорить и дразнить меня, а я должна это терпеть. Может быть, потому у дивного воина было Ричардово лицо, чтобы дать мне понять, что я не должна так много с ним спорить и так отстаивать правоту моей веры. Кротостью и смирением я скорее достигну того, что он меня поймет, – ведь он очень добрый и милый человек».
Никого не было в саду, и по дороге за решеткою никто еще не шел. Таня стояла долго, и уже легкая дрема упала на ее глаза. И вдруг за решеткою сада послышались быстрые, уверенные шаги, скрипнула калитка, – и, похожий на видение утреннего сна, в светлой летней одежде перед Танею стал, весело улыбаясь, Ричард.
– О, как вы рано сегодня встали! – сказана Таня, протягивая ему руку.
– Как всегда, милая Таня, раньше вас, – отвечал Ричард.
– Ну, – начала было Таня спорить, но вспомнила свои недавние мысли, стала еще румянее и засмеялась.
– Что вам сегодня снилось? – спросил Ричард.
«Хочет надо мной посмеяться? – подумала Таня. – Ну и пусть смеется».
Но, всмотревшись в его лицо, Таня увидела на нем необыкновенное выражение серьезности и значительности. Сердце ее предвещательно забилось, и она почувствовала, что голос ее звенит трепетно, когда она говорила:
– Представьте себе, Ричард, я видела во сне вас, в светлой одежде, в одежде воина.
Ричард и не думал засмеяться. Он смотрел на Таню очень удивленными глазами.
– Таня, – сказал он, – вы видите удивительные сны. – Я ведь затем и пришел к вам, чтобы рассказать вам новость, – я поступил добровольцем в русскую армию.
Таня задрожала.
– Вам холодно? – участливо спросил он.
Она молча покачала головою. Сердце ее билось больно и тревожно. Она рассказала Ричарду, что сказал ей светлый воин ее сна.
– Таня, – спросил Ричард, нежно заглядывая в ее глаза, – а больше ничего он вам не сказал?
– Нет, ничего, – тихо отвечала Таня.
Страшно, стыдно и сладко стало. Знала, что он сейчас скажет ей.
– Не сказал, что я вас люблю? – опять спросил Ричард.
Тане стало вдруг весело. Еще стыдящимися глазами она посмотрела на него, как смотрят на солнце, со страхом и с радостью, и сказала:
– Ричард, мне этого не надо говорить, – я это сама знаю.
Ричард покраснел. Взволнованным голосом, – первый раз такой голос слышала Таня у своего обычно флегматичного друга, – он спросил:
– А вы, Таня?
Она опустила глаза. Тихо, тихо сказала:
– А разве это надобно говорить?
И сказала громко и смело:
– Ричард, мое сердце меня еще никогда не обманывало. Я верю в Бога и молюсь Ему, и Бог ко мне милостив, – я знаю, что ты вернешься ко мне, что тебя не убьют.
И вдруг застыдилась, закрыла лицо локтем милой руки, подражая стыдливому движению деревенской девушки.
«Что же это я говорю?» – подумала она.
И только теперь поняла, как взволнована и обрадована ее душа тем, что ее милый спорщик Ричард захотел сражаться за Россию, которую она так богомольно любит. Обрадована ее душа и словно развязана, и теперь она смеет и хочет его любить.
Смеясь и плача, – не от горя, от высокой радости, – она почувствовала на своем жарком локте его сильную руку. Сопротивлялась было, да недолго, – как она ни сильна, а он все-таки сильнее, отвел ее локоть, прямо в радостные ее глаза смотрит.
Таня засмеялась, протянула ему руку.
– Желаю тебе счастливого пути и успехов, – сказала она и сильно пожала его руку.
– Таня, а разве ты меня не поцелуешь? – спросил он, привлекая ее к себе.
Она обвила его шею руками, заплакала разнеженно и счастливо и целовала долго, долго. Без конца целовала бы, да послышались на ближних дорожках голоса и шаги сестер.
Три лампады
С тех пор, как полковник Косоуров уехал на войну, в квартире Косоуровых теплились каждый день три лампады. Теплились они с утра, а к вечеру опять подливалось масло, так, чтобы всю ночь лампады не гасли.
Первая лампада теплилась в спальне вдовы генеральши Анны Павловны Косоуровой, перед темным ликом Николы Угодника. У генеральши на войне был сын; он был еще молод, но делал хорошую карьеру, довольно рано получил полк, а теперь на войне нередко бывал в опасных сражениях и скоро должен был получить генеральский чин и бригаду.
Генеральша вставала рано, долго и старательно выполняла все домашние обряды, а после завтрака выезжала, сначала в лазарет, потом в попечительство, потом к кому-нибудь из знакомых, чтобы не порывать давно налаженных хороших связей и отношений. Что бы она ни делала, она всегда думала о сыне, о том, что он в опасности, что его могут убить. И потому на ее красивом и умном лице еще не старой женщины лежала печать особой значительности, которая заставляла всех ее знакомых обращаться с нею еще почтительнее, чем всегда.
Двойное чувство горело в ней: скорбный страх за нежно любимого сына и великая гордость матери, сын которой совершает подвиги. Если бы ей пришлось надеть траур, ее горе было бы неутешно, но оно достойно и прекрасно наполнило бы остаток ее дней. У нее в жизни было достаточно счастья и в меру горя. Вся ее жизнь, в меру трудная и в меру радостная, научила ее мудрому, величавому спокойствию.
В первый же день, проводив на вокзал сына, она призвала горничную Дашу и дала ей обстоятельные наставления, когда и как теплить лампаду, как следить за тем, чтобы огонь светился ни слишком ярко, ни слишком слабо, и чтобы он никогда не погасал.
– Понимаешь, Даша, – негасимая лампада.
Горничная Даша, пожилая степенная девица, сильная, как деревенская баба, и вышколенная долголетнею службою в генеральском доме, выслушала и запомнила твердо все, что генеральша ей говорила. Она знала, что генеральшу нельзя не слушаться, и что она не любит повторять одно и то же дважды. Даша заботилась о генеральшиной лампаде добросовестно, и каждый раз, подливая в нее масло, клала перед темным ликом строгого Угодника три земные поклона, – каждый раз с чувством своего недостоинства вспоминая свое бурное прошлое.
Генеральша молилась перед своею лампадою с тихою и смиренною надеждою, – Милостивый Бог, быть может, до конца будет милостив к ней и вернет ей сына.
Жена полковника Косоурова, Евгения Алексеевна, теплила вторую лампаду, перед образом Спасителя, серебряная риза которого блистала над двумя кроватями, ее и мужа, на стене посредине. День Евгения Алексеевна проводила внешне так же, как и ее свекровь, но вся душа ее была возмущена страхом и тоскою. По ночам она долго не могла заснуть, плакала и молилась. Днем она старалась прилепиться к кому-нибудь, чаще всего к старой генеральше, чтобы хоть немного заглушить свою тоску, отогнать свой страх. Но стоило ей остаться одной, чтобы слезы неудержимо лились из ее глаз. Только беседы с дочерью Валентиною утешали ее, и после них было на время легко и сладостно.
За ее лампадою ходила тоже Даша. Но Евгения Алексеевна не доверяла ей, постоянно ходила смотреть, не убывает ли масло, и часто звала Дашу поправлять огонь.
– Даша, – говорила она, – никак ты забыла сегодня о моей лампадке? Мамочкину хорошо заправляешь, а мою как-нибудь.
– Простите, барыня, – степенно говорила Даша, – я вашу лампадку никогда не забывала, и она в полной исправности. А если вы беспокоитесь, то я сейчас прибавлю масла, – мне не в труд.
Шла за маслом и сердито ворчала про себя:
– Нагрешишь только с вами.
Валентинина лампада ясно и ровно горела перед иконою Божией Матери Скоропослушницы. Валентина зажигала ее сама и даже сама на свои деньги покупала для нее масло. Даше не нравилась такая самостоятельность барышни. Даша каждый день поглядывала на Валентинину лампадку с тайною надеждою увидеть, что барышня забыла подумать о масле или о фитиле. Но ясно и ровно горел огонь перед кротким ликом Скоропослушницы, и Даша думала завистливо, что ей так не заправить лампадок, как заправляет барышня. А если Даша заметит, что масла в бутылке остается уж очень мало, она говорила Вале:
– Забыла про масло, молитвенница. Дала бы мне покупать масло, исправнее было бы.
Валя краснела и говорила:
– Спасибо, Даша, что напомнила.
И вынимала из кошелечка монеты на масло.
У Валентины в армии было двое, отец и жених, но Валентина не боялась ни за одного, ни за другого.
Валентина была веселая и здоровая девушка. Ей мила была дружба стихий, она любила обжигающие поцелуи небесного Змия-Солнца, и буйное веяние морского ветра, и объятия ледяной холодной воды, и суровые ощущения земных глин и песков под ногами. Она любила свое тело в движении, в работе, в милых ощущениях дружеских стихий, и любила свою мысль, вечно деятельную и что-нибудь придумывающую. И очень любила молиться. Скоропослушница, юная и прекрасная, увенчанная жемчужною короною, смотрела на нее благостно, и Младенец на ее руках сидел прямой и спокойный, Господь бодрых и неунывающих.
Валентина знала, что все будет к лучшему, надобно только предаться воле Господней. В ней была уверенность, что и отец, и жених вернутся к ней, – но она не смела предаваться этой уверенности, потому что будущее в руках Господних, и Бог не хочет, чтобы люди думали о будущем и знали. Эту уверенность в благополучном возвращении милых Валентина таила от самой себя в глубине души, но от этой уверенности ей было всегда спокойно и радостно. И еще она знала, что надобно иметь непрерывное молитвенное общение с Богом, – надобно, чтобы душа всегда открыта была перед Господом, и тогда молитва ее будет хранить ее милых, так что если Господь и пошлет ангела брани по их души, то все же смерть их будет легка и непостыдна, и легка-легка будет ее скорбь. И она плакала, молясь, но в слезах ее была радость.
Она одна из трех была всегда ясна, терпелива, и всегда спокойно поддерживала домашний порядок, и заботилась о матери и о бабушке. Ее ясное спокойствие всегда успокаивало и утешало ту и другую, и когда матери или бабушке было очень грустно, они звали к себе Валю, или чаще сами приходили посидеть с нею, посмотреть на ясный и ровный молитвенный огонь лампады перед благостными взорами Скоропослушницы.
Вечером, помолившись со слезами перед своими лампадами, мать и бабушка ложились спать. Бабушка засыпала скоро, мать долго плакала, Валя приходила утешать ее. Иногда мать и в самом деле утешалась и засыпала, иногда притворялась, что засыпает, и отсылала Валентину спать. Валентина шла к себе, раздевалась и становилась на колени перед Скоропослушницею, – молиться.
Наступал лучший, блаженный час ее жизни. Не отрывая тихо мерцающего взора от нежного лика вечно юной Скоропослушницы, она шептала слова с детства знакомых и всегда волнующих молитв. Ее белая сорочка казалась торжественным одеянием, эмблемою горней чистоты. Ее обнаженные ноги смиренно лежали на светло-синем коврике, как ноги молящегося на небесах светлого существа. Она поднимала руки к благостному лику, и всем телом тянулась к нему, и улыбалась, и плакала.
Вдруг вспоминала она: «Мама спит ли? Пожалуй, опять плачет».
Она вставала с колен и тихо шла к матери. Почти всегда Валентина заставала мать плачущею горько. Валентина садилась к ней на постель и говорила ей утешные слова. И унимались слезы, и утихала скорбь. Говорила мать:
– Валечка, иди, спи. Что ты босиком ходишь по холодному полу! Еще простудишься.
– Приучена, мамочка, – отвечала Валя.
Мать улыбалась.
– Ты у меня сильная и крепкая, Валечка, – говорила она. – Без тебя мы с мамочкой совсем бы от слез истаяли. Ты и молишься за нас, ты и утешаешь нас.
– Спи, мама, спи, – говорила Валентина.
Дожидалась Валя, что мама заснет, крестила ее неторопливым движением стройной руки и шла опять к себе. И опять молилась, и поднимала руки, и всем телом тянулась к пресветлому лику, предаваясь на волю Господню. Иногда и засыпала тут же, свернувшись светлым комочком под образом.
Горничная Даша спала чутко. Комната Валина была рядом с людскою. Всегда около двух часов ночи Даша просыпалась и шла взглянуть, спит ли барышня. Если Валя стояла еще на коленях, Даша подходила к ней, молча брала ее за руку и вела к постели. Валентина не спорила, знала, что Даша непременно уложит ее. Иногда думала: «Уйдет Даша, уснет, я еще помолюсь».
Но едва голова ее касалась подушки, как Валентина засыпала безмятежно-спокойным сном.
Если Валя лежала белым комочком под образом, Даша пыталась поднять ее. Иногда Валя просыпалась и шла спать. Иногда же, усталая за день, Валя продолжала спать. Тогда Даша, сердито ворча, трясла Валю за плечо, а иногда, если это не помогало, то она сильно рабочею рукою шлепала Валентину по крепкому телу. Тогда Валентина, не открывая глаз, поднималась и шла к постели.
Ясно и ровно горел над ее постелью огонь лампады, и Скоропослушница благостно улыбалась и ясно засыпающей девушке, и ее усердной служанке. Даша крестилась на образ, клала перед ним земной поклон и уходила к себе.
Три лампады теплились перед тремя иконами, и три ангела-хранителя бодрствовали над тремя изголовьями, навевая на спящих утешающие сны.
Сердце сердцу
I
Вера Липинская весь день чувствовала какую-то неопределенную тревогу, тягостную тоску, и эти ощущения тоски и тревоги все усиливались и не давали ей ничем заняться. Весь день она была на людях, как и всю эту неделю. Так случилось, что уже больше недели каждый вечер она куда-нибудь выезжала, и потому этот вечер она хотела провести дома, почитать. Но беспокойство и тоска так томили ее, что она и сегодня решилась куда-нибудь уйти. Вера вспомнила, что старшая сестра ее, Надежда, звала ее сегодня на вечер к Незнаевым. Вера отказалась ехать, но после обеда передумала.
Она вошла к сестре, когда та уже оделась на вечер и внимательно смотрела в зеркало, соображая, прибавить ли губной помады или пудры. Ей приятно было смотреться в зеркало, – она была румяная, веселая, и знала, что сегодня за нею будет ухаживать адвокат Кадымов, будет наливать ей за ужином вино и говорить забавные комплименты. Полные, приоткрытые Надеждины плечи почему-то были досадны Вере, и она уже опять хотела передумать и остаться. Но сейчас же тоска больно схватила ее за сердце.
– И я пойду с тобой, – сказала Вера.
Надежда весело улыбнулась. Вдвоем приятнее ехать, чем одной, туда. А обратно ей не захотелось, чтобы Кадымов провожал ее. Все-таки не надо, чтобы он слишком много воображал о себе.
– И отлично, развлечешься, – сказала Надежда.
Бросила на Веру быстрый взгляд. Сказала:
– Ты сегодня что-то очень бледна. Будешь переодеваться?
– Нет, – сказала Вера.
– Как хочешь, – сказала Надежда, – только в этом черном ты кажешься очень бледной.
– Ну и пусть, – упрямо говорила Вера.
– Как хочешь, – повторила Надежда. – Что-то ты сегодня неспокойна. Ну, ничего, даст Бог, все обойдется хорошо, и твой Сергей Николаевич вернется благополучно.
– Я ничего не думаю, – тихо сказала Вера. – Я только молюсь. А если убьют, – надо же кому-нибудь.
Губы ее дрогнули. Она с трудом удерживалась от слез. Надежда весело говорила:
– Бери пример с меня, – мой Володя тоже на войне, а я носа не вешаю.
Вера засмеялась невесело.
– Твой муж в штабе, мой жених в строю. Разница!
– Ну, не такая уж большая, – беззаботно сказала Надежда.
II
Вечером было весело и шумно. Много разговаривали, передавали разные неожиданные слухи, спорили, больше о войне, о наших интеллигентских отношениях к ней. Потом дочь Незнаевых пропела несколько романсов. Потом молодой человек с длинными и прямыми волосами сыграл несколько пьес Скрябина. Потом опять спорили.
Многие уже ушли, а Вера и Надежда оставались до самого позднего часа. Спорили, спорили. О войне, о культуре, о достоинствах германцев и о недостатках русских. Одни говорили, что надобно победить внешнего врага, другие говорили, что еще более необходимо изменить то, что в наших порядках осталось нехорошего. Как всегда, люди неискренние и слабые восклицали, восторгались и негодовали, а люди искренние и сильные старались разобраться в том, чего нам не достает. Как всегда, холодные эгоисты казались пламенными патриотами и произносили красивые слова.
Вера принимала горячее участие в спорах.
– Четыре месяца прошло, – говорила она, – пора и разобраться во многом.
Был уже пятый час утра, почти все гости ушли. Вера вдруг почувствовала страшный приступ тоски и слабости. Синий цвет обоев и мебели прокинулся в ее глазах фиолетовым дымом, и лица гостей мерцали зеленовато-палевыми пятнами.
Точно кто-то сказал Вере: «Тебе-то что до всего этого, до этих споров и разговоров? Русские, германцы, – что тебе? Разве ты забыла о милом своем?»
И вдруг темный глубинный голос сказал ей, что милый ее ранен. Вера не поверила, но страшно побледнела и стала собираться домой.
Хозяйка, молодая полная дама, наклоняя к Вере слишком крупные на белом лице синие глаза, откуда полились на Веру фиалковые блестки, участливо спрашивала:
– Что с вами? Вы так вдруг побледнели.
Вера говорила что-то побледневшими губами, – а что именно, и сама не помнила. Собрала всю себя, кое-как прогнала фиолетовые дымы. Надежда говорила:
– У тебя голова кружится. Поедем домой.
III
Верин жених, поручик Сергей Николаевич Блатов, был ее женихом не потому, что был влюблен в нее: он почти никогда не говорил Вере о своей любви, ни в чем не уверял ее и не давал ей никаких обещаний. И она не казалась безмерно влюбленною в него. Они сошлись только потому, что на земле не было для него более близкого по душевному строю человека, чем Вера, и потому, что на земле не было для нее более по душевному строю близкого человека, чем Сергей.
Оставаясь наедине, они не торопились наговориться. Они улыбались друг другу, и смотрели друг на друга, и держали друг друга за руки, и словно невидимый ток переливался от нее к нему и от него к ней.
Они молчали иногда подолгу, но им казалось, что они думают об одном и том же. Когда кто-нибудь из них начинал говорить, это всегда было как бы ответом на мысли другого. Их даже не удивляло, что они могли читать мысли друг у друга, – такое слияние душ казалось им совершенно естественным.
Случалось, что он, приходя утром в дом Липинских, рассказывал Вере, что с нею вчера случилось. И Веру не удивляло, что он говорит о ее делах, мыслях, надеждах и мечтаниях, словно читает в ее душе, как в открытой книге. Ведь и она так же свободно читала в его душе.
IV
Вера ехала на извозчике и краем уха слушала оживленную болтовню Надежды, которая перебирала все впечатления и сенсации вечера. Надежда из детства, как все мы, была очарована Европою, и была рада тому, что многие из говоривших заступались за германцев.
Кто-то тихий и темный приник к Вере, и ей казалось, что она явственно слышит тихие слова:
«Тебе-то что до всех этих разговоров? Милый твой тяжко ранен. Он умирает, а ты болтаешь и не хочешь удержать его на этой милой земле».
Вера вздрогнула, осмотрелась. Никого. Только оживленный Надеждин говор слышится.
– Да что с тобой? – спросила Надежда. – Ты дрожишь? Тебе холодно? Ты простудилась?
– Нет, – сказала Вера. – спать хочется только.
Но, как всегда, не слушая ответа, Надежда быстро говорила:
– Как только приедем домой, примешь хинину. Если так плохо себя чувствовала, не надо было выезжать. Хотя тебе, конечно, полезно иногда развлечься, – ты уж очень впечатлительна. И надо признаться, сегодня были довольно интересные разговоры. Мне, например, очень понравилось, что говорил Погорельский.
И опять полилась живая, веселая Надеждина речь. А в Верином сердце была своя тоска, и в уме ее свой вопрос:
«Воля наша к жизни так ли сильна, чтобы можно была удержать уходящего?»
V
Вера спала тревожно. Тяжелые сны мучили ее. Ей снился идущий где-то на далекой галицийской железной дороге слабоосвещенный вагон с ранеными. Кто-то стонал, кто-то бредил. Какой-то солдат, блестя яркими, лихорадочными глазами, худой и желтый, оживленно рассказывал стоявшему перед ним чернобородому еврею-санитару о том, как его ранили.
– Спи, гопубчик, спи, – уговаривал его санитар.
Выбегал на площадку, хватался за голову, дышал тяжело и поспешно, словно запасаясь воздухом, и опять возвращался в вагон.
И вот знакомое, милое лицо. Вера видит Сергея. Он лежит, прикрытый шинелью. Под его головою заботливая рука еврея-санитара положила подушку, но подушка измятая и томная. Сергеевы глаза открыты, но сознание в них только иногда вспыхивает. И тогда он чувствует духоту вагона, истому лихорадочной ночи, скрежет колес и толчки на стыках. Потом в его сознании тупо и медленно вползает боль плохо перевязанной раны. Эта боль возрастает, разгорается, становится острожгучею. Он стискивает зубы и невольно, сам того не замечая, стонет. Измученное, бледное лицо санитара наклоняется над ним. Чужой голос участливо спрашивает его:
– Что с вами, голубчик? Воды не хотите ли выпить?
Сергей смотрит на него мутными глазами, и вдруг вагон, ночь, санитар, – все это тонет в каком-то море мрака, и боль забыта, и томления душной вагонной ночи отошли. Ему снится далекий, холодный, милый город на севере, снится Вера. Он видит, как она мечется в тоске на своей постели. Вот она встает, подходит к образу, становится на колени, молится и плачет.
Сергею отрадно смотреть на белую ризу образа, на слабый огонек голубой лампады. Из серебряного оклада виден благостный лик Богоматери, – благостный и утешающий, такой далекий от жизни и так утоляющий все печали. Младенец на ее руках, и в глубоких очах его обещания небесных наград. Жажда жизни отходит, – жить, умереть, не все ли равно?
Говорит кто-то тихий и светлый:
– Ты душу свою отдал за других, и разве есть на земле большая любовь?
Но под образом, на холодном полу, мечется и стонет бедная девушка. И плачет, и молится:
– Я люблю его, люблю. Приснодева Мария, спаси его, сохрани его, верни его мне.
И молится, и плачет, и вся тянется к светлому лику. И уже мутный зимний день глядит в окно. Приходит старая няня, берет Веру за руку и ведет ее на постель, приговаривая ласково:
– Спи, голубушка моя, спи.
Снится Вере далекий вагон. Смутный свет зимнего утра льется в узкие вагонные окна. Сергей открывает утомленные болью мутные гпаза и смотрит на нее.
VI
За завтраком Надежда спрашивает:
– Что с тобою, Вера? На тебе лица нет?
Вера смотрит на нее испуганными глазами и говорит:
– Ах, Надя, я знаю, с Сергеем что-то случилось.
– Полно, Вера, откуда ты это можешь знать? Мы только что получили от него письмо, – он здоров и весел.
– Я знаю, что его вчера тяжело ранили.
– Вера, если его ранили вчера, то об этом сегодня здесь еще нельзя ничего знать. Так скоро известия о раненых не приходят. Все это твое воображение. Прими брому и успокойся.
Надежда дает Вере бром, – много брому, – и Вера весь день ходит, как свинцом налитая. Равнодушие и тоска. Тоска спокойная, тяжелая, домашняя, словно навеки угнездившаяся в сердце. Такая тоска, от которой лицо бледнеет и губы улыбаются.
И вот опять ночь. Вера одна, долго не спит. То она молится, то вдруг встает перед нею сон не сон, греза не греза, явь не явь.
Сергея привезли на место. Он лежит на лазаретной койке. В палате белые стены, большие окна, завешенные гладкими, белыми шторами. Ровно и невесело горит одна электрическая лампочка, и свет ее отражен фарфоровым щитком на потолок, и уже от потолка рассеян ровно на палату, где шесть кроватей. Пять заняты, одна пустая.







