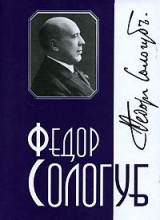
Текст книги "Том 8. Стихотворения. Рассказы"
Автор книги: Федор Сологуб
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 23 страниц)
Тихий зной
I
Хотя Яков Леонидович Бреднев уже два года тому назад получил звание лекаря, но еще он был так молод, что ему все нравилось в жизни. Как мальчик в нравоучительной сказочке Круммахера, он находил очаровательными каждое время года и каждую хвалимую местность на земле, не думая о других временах и местах и не сравнивая. Поэтому ему очень нравилась и дачная деревушка Мягарраги в Эстляндии, на берегу Финского залива, и дачники, и местные эстонцы, и милая природа этого края.
Бреднев совсем не был озабочен толками о том, что скоро начнется война. Но когда стали говорить, что из-за войны придется уехать с побережья в город раньше обычного, он опечалился и решился действовать энергично: ведь он же был влюблен в Ольгу Шеину, влюблен уже два месяца, но роман его все еще оставался открытым на первой странице.
Бреднев встал рано утром и пошел на морской берег. Он знал, что в этот час на берегу, если пройти за деревню версты полторы на запад, не встретишь никого, кроме Ольги и ее двух племянников, мальчиков семи и шести лет. Малыши не помешают, а с Ольгою надо поговорить наконец решительно и прямо.
Из-за рощицы на песчаном прибрежном бугре слышались голоса и смех Ольги и детей. Радостное ощущение силы, здоровья и веселости охватило Бреднева, – то самое ощущение, которое он испытывал всегда, когда приближался к Ольге. И это ощущение было тем сильнее и милее, что и Ольгина сестра Катя и ее муж Николай Борисович Ложбинин были самые подлинные столичные нервники и нейрастеники.
У самой воды на камне сидела Ольга, девушка лет двадцати четырех. Ее глаза были устремлены на даль морскую с выражением детского любопытства и веселого удивления, – широкие, голубые, глубокие глаза. Широко разрезанный алогубый рот улыбался нежно, лукаво и доверчиво, и от этой улыбки все ее милое лицо, бронзово-загорелое, казалось озаренно-хорошеющим с каждою минутою. Пригретая на мелком песке вода обнимала загорелые так же темно, как и лицо, почти до колен приоткрытые стройные ноги. Ее простая белая одежда казалась такою нарядною, сквозной зеленовато-синий шарф на ее черных волосах был завязан так мило, – и от всего этого Бреднев почувствовал умиление и нежность, и ему казалось, что он не посмел бы поцеловать ни ее алых губ, ни ее смуглых рук.
Два мальчика в купальных костюмчиках, с голыми руками и ногами, в соломенных шляпах, весело загорелые, плескались и бегали по воде у берега, радостно занятые водою и камешками. Ольга почти не смотрела на них, но чувствовалось, что они водятся ее волею. Услышав шаги, Ольга обернулась, встала, улыбнулась радостно и ласково. Бреднев поздоровался с нею и с детьми, – и мальчики опять занялись своею игрою.
– Да, так правда, что будет война? – спросила Ольга. – И германцы могут сюда придти?
Бредневу мило и забавно было видеть на Ольгином лице это выражение вопроса и удивления. Он улыбался и уже хотел сказать что-нибудь пугающее, но вовремя вспомнил, что Ольга вовсе не робкая, что она ничего не боится. Желание подразнить Ольгу быстро погасло в его душе. Он сказал:
– Германцев сюда не пустят, и опасности нет никакой.
– А мы собираемся уезжать, – сказала Ольга.
И на лицо ее легла тень печали. И вдруг оно стало таким, словно никогда и не знало улыбки, и от этого еще более очаровательным.
– Сестра Катя очень беспокоится и боится, – говорила Ольга, – и все порывается поскорее ехать в город.
– А Николай Борисович? – спросил Бреднев.
Ольга опять засияла улыбками, и на этот раз в ее улыбке было милое слияние радости и печали. Неясное предчувствие тихо ужалило влюбленное сердце молодого человека. Предчувствие чего? Он ждал, что скажет Ольга. Она говорила:
– Николай Борисович – прапорщик запаса. Его возьмут, а сестра Катя уже воображает, что мальчики останутся сиротами.
Слезинки блеснули в Ольгиных глазах.
– А вы? – спросил Бреднев.
Лицо его стало мрачно. Ольга подняла на него удивленные глаза.
– Что я? – спросила она.
– Послушайте, Ольга Григорьевна, – тихо говорил Бреднев, – мне надо сказать вам кое-что. Пройдемте немного подальше от детей.
– Дети нас не слушают, – отвечала Ольга.
Но Бреднев смотрел на нее такими умоляющими глазами, что Ольга улыбнулась, посмотрела, на детей внимательно, с внезапным выражением строгой воли, и пошла вдоль берега. Мальчики, занятые игрою, не заметили, что она отошла. Казалось, что они и не позовут ее, пока она сама о них не вспомнит.
Бреднев шел за Ольгою, смотрел на то, как ее загорелые голые стопы легко и спокойно ступали на сыроватый, теплый песок, оставляя на нем легкие, красивые следы, – и сердце его замирало от любви к этой тихой девушке с любопытными глазами на смуглом лице.
Ольга остановилась, улыбнулась, поглядела на Бреднева вопросительно.
– Так вы о чем? – спросила она.
Спросила так спокойно, точно ждала, что он заговорит о завтрашней прогулке. Но ее голубые глаза потемнели. Бреднев понял, что она уже знает, о чем он с нею будет говорить, и сердце его замерло от страха. Точно проваливаясь в бездну, он сказал поспешно:
– Я вас люблю, Ольга.
Ольгины глаза потемнели еще более и стали испуганными. Но за мгновенным выражением испуга в ее глубоких глазах явственно было на широком разрезе алогубого рта выражение воли, уже решившей все свои пути. Под тонкою тканью белой одежды Ольгина грудь поднималась высоко и торопливо. Ольга смотрела прямо на Бреднева и говорила:
– Друг мой, я боялась, что вы мне скажете это. Боялась. Но ведь вы знаете, что я только с детьми. Я их не оставлю, пока они не подрастут. И я совсем не стремлюсь к семейной жизни.
Бреднев смотрел на нее с удивлением. Слишком спокойно звучал ее голос. Как будто уже готов был ее ответ на все подобные случаи. Самолюбивая досада отразилась в чертах его слишком добродушного лица.
– Я так и думал, – досадливо сказал он. – Дело не в детях, а в их отце.
Ольгины глаза гневно зажглись.
– Как это глупо! – сказала она и быстро побежала к мальчикам.
Бреднев не решился идти за нею. Стоял на берегу.
II
– Пора завтракать, дети! – сказала Ольга.
Мальчики побежали по песку и мшистой подстилке прибрежного песка к своей даче на окраине эстонской деревни. Ольга тихо шла вдоль берега, думая о своем и мечтая. Она знала, что дети найдут дорогу и что с ними здесь ничего не случится. Скоро их звонкие голоса перестали доноситься до нее. Тогда она вдруг всплеснула руками, повернулась лицом к морю, и по милому лицу ее потекли быстрые слезы. Не вытирая слез, она постояла с минуту, потом вздохнула, улыбнулась и пошла своею дорогою.
Она думала о том, кого она любила давно и безнадежно, о муже своей сестры. Знал ли он, что она его любит? Кажется, в последнее время он стал догадываться об этом. Иногда его усталые, рассеянные глаза останавливались на ней с внезапным и пристальным вниманием.
Ольга думала, что женитьба Николая Борисовича на ее сестре Кате была ошибкою, и что он был бы счастливее с нею. Уж очень была раздражительна и взбалмошна сестра Катя. Да и не так уж сильно любила она мужа. Так, только держалась за него с чувством собственницы. Дорожила им больше, как отцом своих детей и как нескупым мужем. Но так же охотно вышла бы и за другого, если бы не подвернулся в свое время этот. А Ольга могла любить только одного. И что ей ее молодость и красота? Пройти, отцвести, склониться затоптанным цветом придорожным.
Каждый раз, когда кто-нибудь из молодых людей подходил к ней с вниманием и ласкою, она замирала от страха. Что она скажет на слова чужой любви?
Лучше было бы ей уехать далеко, жить одной. Но не слышать милого медленного голоса, не видеть этого нервного лица с мерцанием тихих глаз, – это было бы ей уж очень тяжело. И она жила с сестрою. Зимою давала уроки в школе. Присматривала за племянниками. Настаивала на том, чтобы их воспитывали в суровой близости к природе, в дружбе с чистыми стихиями.
Сначала сестра Катя боялась, что Ольга простудит, заморозит ее детей. Потом поверила, оставила детей на попечение Ольги и занялась своими делами и развлечениями, суетною жизнью женщины, у которой не так уж мало денег, чтобы стоило тратить время и заботы на их добывание.
Ольга говорила ей и Николаю Борисовичу:
– Посмотрите на себя в зеркало, – ведь вы не живые люди, а просто комки слабых нервов. Подумайте, как вы живете: вам противно встать утром рано, и вы оживаете топько тогда, когда зажигается электричество.
Катя отвечала:
– Зимой утром вставать рано! Да это же невозможно, – темно, холодно, тоскливо. Нет, я только к вечеру чувствую себя хорошо.
– Слабое, нервное поколение, – говорила Ольга. – Одна только надежда, что дети будут иными. Я хочу, чтобы ваши дети были сильными, смелыми.
И часто спорили о детях. Катя сердито кричала:
– У тебя нет своих детей, ты не можешь понять чувств матери.
Ольга смотрела на нее спокойно и думала:
«Твои дети – дети холодной, вялой любви, – полулюбви. Без меня они были бы полулюдьми. Только моя любовь, любовь моя без меры, сделает этих детей детьми радости и счастья».
Настойчиво и терпеливо добилась она того, чтобы дети воспитывались, как она хотела.
III
Дома – шум, крик. Еще издали услышала Ольга Катин крик и детский плач и побежала к дому.
– Что такое? Что случилось? – спрашивала она, вбегая на террасу.
Эмилия, эстонка за немку, по титулу бонна, а на деле нечто среднее между экономкою и горничною, миловидная молоденькая девушка в белой блузке и синей юбке с кожаным поясом, босая и загорелая, как Ольга, пугливо отвечала:
– Екатерина Григорьевна сердится, зачем дети долго гуляли. А я не могла за детьми сходить, мясник приезжал, белье гладить, варенье варить надо, так много дела по дому.
Видимо радуясь, что можно уйти от детей плачущих и от хозяйки рассерженной, Эмилия быстро побежала через сад в кухню, поправляя на бегу воткнутые в прическу желтые целлулоидные гребенки. Прическа у нее была такая же, как у Ольги, и во всем она старалась подражать Ольге.
Ольга подумала: «Отчего я, так легко накладывающая на других печать моей воли, все-таки волею моею не могла взять его любви, не заразила его моею любовью? Или только тот и силен, кто силен не о себе, чья любовь не разделена и чиста?»
Ольга неспеша вошла в комнату. Мальчики бросились к ней и прижались к ее юбке, боязливо посматривая на рассерженную мать. Катя ходила по комнате, дымила папироскою, постукивала высокими каблуками и кричала:
– Разбалованные, скверные мальчишки!
Кое-как причесанная, кое-как одетая, слабо зарумянившаяся на летнем солнце, – Катя, по всему было видно, только недавно встала с постели.
– Что случилось? – спросила Ольга.
– Что случилось? – закричала Катя, останавливаясь перед Ольгою. – Скажи, пожалуйста, Ольга, что это значит, что дети целое утро пропадали Бог весть где и наконец пришли одни?
– Мы были вместе, – отвечала Ольга, – потом дети побежали домой, я отстала.
– Воплощенная кротость! – язвительно сказала Катя. – Но я знаю, где ты была и с кем любезничала.
– Эмилия Карловна! – крикнула Ольга, подходя к двери из столовой в сени, за которыми была кухня, – возьмите детей, побудьте с ними часок. Дайте им есть.
Эмилия торопливо вышла из кухни, оправляя рукава на покрасневших от кухонного жара руках, и увела детей в сад, в беседку, где завтракали и обедали в хорошую погоду.
– Николая Борисовича нет дома? – спросила Ольга.
– А ты не знаешь, где он? – сердито говорила Катя. – Я завтракала одна в то время, как вы изволили прогуливаться.
– Я с утра не видела Николая Борисовича, – спокойно возразила Ольга. – Уверяю тебя, ты ошибаешься. Если я с кем разговаривала, так только с Бредневым.
Катя язвительно захохотала.
– Сказки рассказываешь, милая.
Ольга улыбнулась.
– Бреднев сказал мне, что любит меня.
Катя зажглась нетерпеливым любопытством.
Даже папиросу оставила, положила в пепельницу.
– Ну и что же? Что же ты? Сказала да?
– Сказала нет, – ответила Ольга и заплакала.
Катя ярко покраснела.
– Вот как! Сказала нет! – с тихою яростью говорила она. – Скажите, пожалуйста! Мы любим другого! Но только другой – чужой муж. Да тебя это не останавливает? Ну что ж, нарушай чужое счастье, отнимай у сестры мужа.
– Катя, Катя, зачем ты это говоришь? – плача сказала Ольга. – Я никогда ему ни слова не сказала о моей любви, и он никогда не узнает, что я его люблю.
– Зачем же ты живешь с нами?
– Только для детей.
– Чтобы сделать их грязными, царапанными дикарями?
– Чтобы сделать их господами и повелителями жизни, кующими свою судьбу по своей воле. Но если ты не хочешь, ты можешь сказать мне, чтобы я ушла, – твои дети, делай с ними, что хочешь. Расти их такими же неврастениками, как ты и Николай.
Катя засмеялась. Села на диван. Задумалась, успокоилась.
– Ты – хитрая, – сказала она. – Уйдешь и его за собой потянешь. Нет, пока ты с нами, я все-таки спокойна. Я знаю, что ты – честная, что ты меня не обманешь.
Сестры обнялись и плакали.
IV
Вечером газеты принесли известие о мобилизации. События пошли быстро. Через несколько дней Катин муж был призван на войну, быстро собрался и уехал. Сестры остались на даче. Катя хотела уезжать в город, а Ольга уговаривала ее остаться хоть до половины августа.
– Пойми, – говорила она, – что, раз Англия объявила войну, так германский флот ничего не может сделать. Здесь совершенно безопасно, высадка невозможна.
Катя ей бы, пожалуй, и не поверила и настояла бы на немедленном отъезде в город. Но разговор с Бредневым дал ее мыслям другое направление.
Проводив мужа до станции, Катя возвращалась домой на извозчике вместе с Бредневым.
– А Ольга Григорьевна не провожала? – спросил Бреднев.
– Она осталась с детьми, – отвечала Катя.
– Собирается в город?
– Ей не хочется в город, она настаивает, чтобы мы остались здесь до конца лета.
Бреднев засмеялся. Его добродушные серые глаза вдруг стали злыми. Он говорил:
– Не может быть! Ольга Григорьевна поступит на курсы сестер милосердия и постарается попасть поближе к Николаю Борисовичу.
Катя побледнела.
«О, хитрая, хитрая! – думала она про сестру. – Нет, ты не поедешь в город».
И они уехали самыми последними из дачников, когда уже ночи стали совсем темны, и когда уже велено было не зажигать вечером огня в комнатах, окна которых видны с моря.
Переехали в город, и Катя стала тревожиться ожиданием, когда же Ольга поступит на курсы. Но Ольга занималась с детьми. Катя стала бояться, что Ольга и так найдет возможность уехать в армию, увидеть Николая Борисовича и увлечь его. Прочтя в газете рассказ о женщине, надевшей мужской костюм и попавшей в ряды армии, Катя очень испугалась.
«Вот так и Ольга поступит, – думала она. – Встретится с Николаем, и он влюбится в нее».
Не стерпев страха, Катя решила объясниться с сестрою. Детей отправила с Эмилиею на улицу, а Ольге сказала:
– Мне надо с тобою поговорить.
Когда сестры остались одни, Катя прямо приступила к делу. Она сказала:
– Ольга, не скрывай. Я догадалась. Я знаю, что ты хочешь сделать.
И заплакала. Ольга смотрела на нее, широко открывая глубину голубых, удивленных глаз.
– Катя, милая, что ты? О чем ты догадалась! Что ты обо мне думаешь? О чем плачешь? – спрашивала она, обнимая сестру.
Катя говорила:
– Ты обрежешь волосы, оденешься мальчишкою, достанешь паспорт и поступишь в солдаты.
Ольга засмеялась. Потом нахмурилась. Спросила:
– Зачем мне все это сделать?
– Ты сама знаешь, зачем.
– Зачем же? Воевать с германцами? Быть с твоим мужем? – спрашивала Ольга.
– Да, да, вот именно все это, – сухим от злых слез голосом отвечала Катя.
Ольга обняла ее, поцеловала крепко и сказала:
– Катя, милая, поверь мне, я никогда не говорю неправды. И то, и другое я уже сделала, мне не надо резать волосы и поступать в солдаты, – я и так воюю с врагами, мне не надо ехать туда, где Николай – я и здесь с ним. Ты меня понимаешь?
– Нет, – тихо сказала Катя.
– Пойми, Катя, – говорила Ольга, – я воспитываю в твоих детях волю к господству над жизнью, научаю их хотеть и достигать, и если они и другие дети, теперь растущие, станут такими, как я хочу, тогда никакой враг не будет страшен нашей родине.
– В этом, Ольга, я тебе давно поверила, – отвечала Катя. – Помнишь, как я испугалась, когда первый раз увидела детей голыми на снегу, на морозе? Теперь я за них не боюсь, я тебе верю. Но я того боюсь, что ты тянешься к моему Николаю, и наконец отнимешь его от меня.
– Это могло бы быть, Катя, – отвечала Ольга, – если бы не было детей. Но ведь я, когда с его детьми, живу с ним и для него. Разве ты не понимаешь, какое это высокое счастье – быть с любимым в том, что живо и молодо, в его детях и на этом мосту между ним и мною целовать его целованием чистым и без горечи?
Катя подняла голову, положила руки на Ольгины плечи и долго смотрела в ее дивные, навеки удивленные высокою тайною жизни и любви глаза. Долго смотрела и плакала. Потом стала перед Ольгою на колени и приникла губами к ее рукам, и целовала их, целовала их упоенно и самозабвенно. И в эту минуту сердце ее открылось для любви, которой раньше она не знала.
Свет вечерний
I
Морозом дышали ночные просторы. На темно-синем небе горели звезды, и такими близкими казались они земле. Вниз опрокинутый высокий серп луны был тих, чист и ясен.
Тот, кто шел в лучах луны, поднимая порою глаза в лунную непорочность, так больно и трепетно чувствовал, что он все еще только человек. Человек, которому горестно и трудно, – может быть, потому, что в этом ясном и непреклонном сиянии только ему мглистым является его путь.
Иван Петрович Травин возвращался домой по одной из окраинных улиц маленького западного городка, где мороз был редким явлением. Чтобы не думать ни о чем, Иван Петрович смотрел на снег. Из-за длинных заборов пустынной улицы пушистые и белые от снега ветки деревьев бросали на снег сквозные тени. Странно было думать, что этот снег белого цвета, – так он синел, темнел в тенях, таинственно мерцал в лунном свете и неожиданно яснел в колеях и выбоинах.
Грустные думы, обычные спутницы Ивана Петровича, и теперь не покидали его, томили и отрадно утешали. Он думал о жене, которая его оставила, и о подростке сыне, который остался с ним.
Жена его оставила потому, что перестала верить в его святыню, в его надежды, и поверила в механически-правильные мысли тех, кто ждет преобразования мира от фабричного города. Не потому, что разлюбила его, что полюбила другого. Он чувствовал, что она разлюбила не его, а эту всю почвенную жизнь, милую для него.
Сын остался. Его надо воспитать в той же любви, чтобы сердце его было пламенеющим и ревнивым, иногда ненавидящим любимое, но не выносящим хулы на родное. Но как трудна эта любовь!
Вот за этими заборами таятся дома бедняков, евреев, поляков, русских, выходцев из-за рубежа. Таится жизнь, то безумно-дерзкая, то безумно-робкая. Таится много вражды и злобы. И злоба от нищеты и непонимания.
Родина, жена, сын – дом малый, свой, и дом большой, отечество. И переход от одного к другому, гимназии, где Иван Петрович давал уроки, и городок, взбаламученный войною, недалекою от этих мест, но все же уверенный, что враг сюда не доберется. В этом кругу вращались мысли Ивана Петровича, когда он услышал за собою чью-то робкую и торопливую побежку. Иван Петрович остановился и, досадливо поеживаясь, ждал, чтобы прохожий обогнал его. Как это бывает иногда у очень нервных людей, Иван Петрович не терпел чьих-нибудь шагов за спиною.
Всмотрелся в прохожего, узнал его по тощей фигуре, приподнятым плечам, рыжей острой бородке, по беспокойному, внятному и в полумраке, блеску вспыхивающих и потухающих, усталых глаз, по утомленной улыбке тонких, опущенных в углах книзу, губ, – узнал и удивился: это был еврей-портной Тейтельбаум, о котором много в городе говорили в последние два дня, и говорили так, что Иван Петрович никак не мог ожидать встречи с ним на улице.
– Это вы, господин Тейтельбаум? – воскликнул Иван Петрович.
Тейтельбаум, суетливо кланяясь, приподнял фуражку.
– Ну, это таки я, – говорил он, – и иду к вам, несу заказ. Вы себе думали, Иван Петрович, что вашего Сережи панталоны уже пропали, и что Тейтельбаум болтается на веревке, а Тейтельбаум таки жив, и ничего такого с Тейтельбаумом не случилось.
– Пойдемте вместе, господин Тейтельбаум, – сказал Иван Петрович, – я иду домой. Да скажите, это такое в самом деле было?
Тейтельбаум рассказывал:
– Вы тоже подумали, что Тейтельбаум – шпион, что Тейтельбаума поймали? И это же мне все говорят, куда я ни приду: господин Тейтельбаум, разве вас еще не повесили? Но скажите, пожалуйста, за что меня вешать? Какой-то шарлатан донес, что ко мне пришел подозрительный человек, и ко мне пришли брать этого подозрительного человека, ну и что же вы думаете, оказалось? Это наш таки еврейчик, раненый солдат. Он ко мне пришел, вот и все.
Иван Петрович сказал:
– Говорили, что этот подозрительный человек был одет как-то странно, не то солдат, не то цивильный.
– Ну, так он же только что вышел из лазарета, – отвечал Тейтельбаум, – я же не знаю, что он себе думал, зачем он отстал от своей команды. Его взяли и отправили, куда следует. Скажите, пожалуйста, из-за чего такой скандал делать? Сам господин комендант сказал мне: «Ну, идите себе, господин Тейтельбаум, я знаю, что вы – честный еврей и занимаетесь своим делом».
Ивану Петровичу не хотелось расспрашивать Тейтельбаума о подробностях этой истории с легкомысленным солдатом. Он сказал:
– Вот и хорошо, господин Тейтельбаум, – значит, вас ни в чем не подозревают.
– И что вы тут видите хорошего? – жалующимся голосом говорил Тейтельбаум. – Начальство знает, в чем дело, а в городе все говорят, – шпиона поймали и на базаре повесили, зачем шпион. Это очень нехорошо, Иван Петрович.
– Да, это скверно, – согласился Травин.
Тейтельбаум продолжал:
– Ну, я таки ваш заказ исполнил, Сережи вашего панталоны починил. Правда, очень короткие вышли, потому что я низочки взял отрезал и положил заплатки, где надобно, но при длинных чулках дома очень хорошо будет.
II
Дошли до того дома, где жил Травин. В одном из трех окошек деревянного домика светился огонь. Иван Петрович стукнул палкою в это окно, и поднялся на крыльцо. Скоро дверь открылась; на пороге стоял двенадцатилетний гимназист в серой мягонькой одежде и в рыженьких мягких валенках. Он радостно и ласково улыбался отцу, но, увидев Тейтельбаума, воскликнул от удивления:
– Господин Тейтельбаум, это вы.
– Ну и кто же, как не я! – с кислою улыбкою отозвался Тейтельбаум. – Я принес вам вашу вещь, чтобы вы ее примерили. И носите себе дома на здоровье, а Тейтельбаум еще долго будет на вас работать.
– А у нас, в гимназии, говорили, – начал было Сережа.
Иван Петрович строго посмотрел на него.
Мальчик покраснел и замолчал.
III
Иван Петрович и Сережа сидели в столовой, и пили чай. Был седьмой час вечера. Раздался звонок, потом второй.
– Пелагеюшка наша опять спит, не слышит, – сказал Сережа и побежал открывать дверь.
Через минуту он вернулся, и вслед за ним в столовую вошла пятнадцатилетняя красивая девочка, ученица Ивана Петровича по женской гимназии, Сарра Канцель. По ее раскрасневшемуся лицу было видно, что она сильно взволнована чем-то и даже напугана. И потому в томном взоре черных, больших глаз и в дрожащей улыбке устало алых губ особенно ярко выявлялся еврейский скорбный облик. Она заговорила поспешно и тревожно:
– Простите, Иван Петрович, что я так поздно, но мне очень, очень надо с вами поговорить.
Сережа придвинул стул. Сарра села и вдруг заплакала, закрываясь руками.
– Саррочка, что с вами? – растерянно спрашивал Иван Петрович. – Ах, Боже мой, да о чем вы плачете?
Он неловко суетился около девочки, не зная, что сказать.
– Мне уйти? – тихо спросил Сережа.
Но Сарра услышала. Вдруг перестала плакать и сказала громко и точно со злостью:
– Нет, пусть и Сережа послушает, что я буду рассказывать. Пусть он скажет мне, за что, за что?
И опять заплакала горько.
– Саррочка, – говорил Иван Петрович, – успокойтесь, выпейте воды. Расскажите, что случилось.
Он ласково и неловко гладил по голове плачущую девочку. Она взяла его руку, порывисто поцеловала ее и сказала:
– Вы такой умный и добрый, и все понимаете, а я не знаю сейчас, что я сделала, поцеловала или укусила. Я не знаю, что со мною, и за что, за что? Слушайте, я вам расскажу, и вы объясните мне это. Мы пошли на станцию встречать раненых, я и Лиза Беляева, и Катя Нахтман, и еще несколько наших подруг, и гимназисты были, и Сергей Павлович, и еще были люди, уж я не помню сейчас, кто еще был. Но это все равно. Ну вот слушайте, – мы знали, что в наш город сегодня должны привезти раненых в новый барак, и мы приготовили им кофе и угощенье. Но вот раненые приехали, и сначала все было хорошо, мы разливали кофе и сами разносили его, и все были довольны и благодарили. Ну вот я подошла к одному солдату и подала ему стакан кофе, говорю ему: «Кушайте себе на здоровье!» А он посмотрел на меня так сердито, спрашивает: «Ты – жидовка?» Я ему говорю: «Да, я – еврейка, но я – русская». А он замахнулся, вышиб у меня из рук стакан и крикнул: «Жидовка проклятая!» За что, за что?
Сарра упала головою на стол и плакала, плакала мучительно и долго. Сережа стоял и слушал. Щеки его ярко раскраснелись.
– Саррочка, – говорил Иван Петрович, – не судите его строго; он ранен, болен, устал, может быть, бредит; кто-то насказал ему злых слов, и он поверил. Он – бедный и темный человек, и сам не знает, что делает.
– Но за что, за что нам это? – плача, говорила Сарра. – Отчего никто за нас не заступится? Ведь мы же русские! У нас нет другой родины, кроме России! Мы родились здесь и выросли, мы любим Россию и все русское, мы учимся в русской школе, читаем русских писателей, мы во всем, во всем хотим быть с вами. Полмиллиона евреев в русской армии, – за что же нам это?
Иван Петрович слушал Сарру, говорил ей какие-то бледные, неумелые слова утешения. Голова его кружилась и болела. Вдруг припомнился вчерашний кошмар.
Вчера он пришел из гимназии очень усталый и расстроенный. После обеда стал было просматривать тетрадки. Но такая была усталость, что, посидев с полчаса, пошел в спальню и лег на кровать, как был в пиджаке. Даже крахмального воротничка не снял. Покрылся халатом. Лежал на правом боку, лицом к стене, подложив руки на подушку под голову. Заснул. Через час проснулся от какого-то шума в доме. Но встать не мог. Лежал в тяжелой дремоте, чувствуя, как обескровлен усталый мозг. Вдруг чья-то рука просунулась из-за изголовья к его лицу, мягкая, серая, с длинными пальцами. Чей-то издевающийся голос тихо говорил:
– Здравствуй, здравствуй.
Иван Петрович знал, что это кошмар, но не мог пошевелиться. Ему было страшно, и казалось, что он грызет эту вражью руку. Но враг смеялся и не уходил. К счастью, вошел Сережа, тихо сказал что-то, – и вражьи чары рассыпались. Он встал с постели и чувствовал, как холод входит в его кости.
«Скоро я умру!» – подумал он. Но эта мысль не была ему страшна. Он смотрел на светлую Сережину улыбку, на его сильные, стройные ноги, и думал:
«Когда мы все отойдем, наши дети спасут Россию».
IV
И вдруг опять звонок. Сережа побежал отворять. Из передней послышался его крик, радостный, пронизанный радостными слезами:
– Мама, мамочка!
Иван Петрович побледнел. Сарра сказала:
– Я не вовремя пришла. Я уйду.
Иван Петрович улыбнулся печально и насмешливо:
– Останься, Саррочка, Надежда Николаевна сумеет тебя утешить.
И пошел в переднюю, встречать жену. Сам не понимал, рад ли ей.
Сарра перед зеркалом, висевшим на стене, вытерла слезы, поправила прическу и отошла к сторонке. Пред ее глазами словно плыл туман, и, как далекие, звучали радостные голоса.
Молодая, смуглая, черноглазая, быстрая женщина оживленно говорила:
– Я тебе не успею надоесть, завтра же еду дальше. Ну да, можешь представить, я выдержала все экзамены, какие полагается, и еду на войну сестрою милосердия. Ты мне позволь только переночевать у тебя. Ты спрашиваешь о Виталии Андреевиче? Но разве ты не знаешь, – ведь мы же с ним разошлись! Он оказался таким черствым и сухим человеком. Вот то уж полная противоположность тебе, – совершенно машинная психология, твердо верит в свои теории, ходит в шорах и всегда счастлив, туп и глуп. Ну, пои меня чаем. Сережка, наливай! Мороз отчаянный, пока с вокзала ехала, чуть не замерзла, – ведь там в Питере все больше шлеп-морозы, а у вас южнее, да похолоднее. Я вообразила, что у вас здесь чуть ли не розы цветут, поехала налегке, в осеннем. Или это только сегодня так холодно? Да ты не думай, что я после войны тебе на шею сяду, – слава Богу, прокормлюсь. А это что за тип там на диване? Учащаяся девица? Пришла побеседовать о Лермонтове? Поди-ка сюда. Ах, Боже мой, да это – Сарра!
Иван Петрович и Сережа улыбаясь смотрели на говорливую гостью. Даже Сарра улыбнулась, подходя к Надежде Николаевне.
– Что, плакала? – всмотревшись в девочку, спросила Надежда Николаевна. – Иван Петрович тебе двойку влепил, хочешь выплакать отметку получше?
– Видишь, Надя, – осторожно заговорил Иван Петрович, – это очень тяжелая история. Видишь в чем дело.
И он передал рассказ Сарры. Надежда Николаевна выслушала внимательно, тряхнула головою и сказала решительно:
– Стоит обращать внимание! Очевидно, больной, расстроенный человек. Верьте, Саррочка, все это пройдет, русский народ разберется во всем этом. Я сама, когда уезжала отсюда, была в кислых и злых чувствах. Потому и уехала. А как пожила с этими машинно-думающими людьми, так вдруг почему-то опять поверила в русского человека. Верь и ты, Сарра. Садись, поговорим по душам.
V
Часа через два Иван Петрович и Сережа вышли проводить Сарру до ее дому. Сарра была уже спокойна и весела. Да и Иван Петрович и Сережа шагали бодро и говорили весело. Неожиданная гостья сумела всех утешить и заразить своею вдруг опять загоравшеюся верою.







