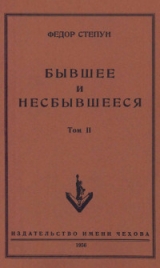
Текст книги "Бывшее и несбывшееся"
Автор книги: Федор Степун
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 46 страниц)
Наряду с Ходе в те времена самым популярным в городе профессором был историк Эрих Маркс. Хотя он и начал свою научную карьеру с архивных работ во Франции и Англии, на нем, как мне всегда казалось, лежала печать какого–то досадного шовинистического провинциализма. Слушал я у него самые различные курсы, но в памяти остался один только Бисмарк, да и тот не живой, а какой–то бронзовый с сытым голубем на плешине. Я знаю, что написанная Марксом биография железного канцлера, выдержавшая 23 издания, считается классическим научным трудом. Я этого труда не читал, но уверен, что он ниже своей славы: вряд ли Эрих Маркс, малорослый живчик с красивыми, кукольными глазами, мог внутренне осилить вулканическую природу бисмарковского гения.
Охотнее Маркса я слушал Георга Еллинека, меланхолического, рыжего австрийца с кривым пенсне на нервных ноздрях и снулым взором поверх него. В равной мере историк и юрист, Еллинек был одним из первых социологов среди немецких государствоведов. Его живые и в научном отношении весьма поучительные лекции отличались стереоскопическою рельефностью научного анализа и не лишенным творческого пафоса полемическим задором.
Первые семестры я не только слушал лекции, но и с жадностью набирался всевозможных новых впечатлений. С типичным «рейнландцем» Платцбекером, который как–то появился у меня с просьбой давать ему уроки русского языка, мы одно время каждое погожее воскресенье уходили в горы, или в разбросанные по долине Неккара деревни. Страстный патриот и народник–почвенник Платцбекер с восторгом вводил меня в душу и быт своего народа, историю которого он прилежно изучал у Маркса. На наших прогулках мы тщательно осматривали старые крестьянские дворы, заходили в церкви и подолгу просиживали в кабачках, оставаясь иной раз ночевать в приветливых деревенских гостиницах. Первое время я никак не мог освоить того факта, что бритые люди с подчас очень интересными лицами не то актеров, не то ксендзов, в цилиндрах и длиннополых сюртуках – всего только приодевшиеся ради воскресенья мужики–пахари. Лишь выпив с ними не одну кружку пива и присмотревшись к их мозолистым, коричневым рукам и обветренным изборожденным морщинами лицам, я кое–как связал их со своим русским представлением о мужике.
Будучи ненавистником социалистов и евреев, Платцбекер, от которого я впервые услышал знаменитое моммсеновское определение сущности еврейства, как фермента декомпозиции, настойчиво внушал мне, чтобы я не поддавался сентиментальной болтовне профессора Киндерманна и на его «социально–политических экскурсиях» старался бы на все смотреть своими собственными глазами. Я старался и, невольно сравнивая жизнь немецких рабочих на больших химических заводах в Людвигсхафене с жизнью наших кондровских упаковщиков и ломовых, для которых французская булка была такою диковиною, что фабричная администрация считала ее подходящим коронационным угощением, соглашался с Платцбекером, что социалисты действительно сильно преувеличивают. Тем не менее, я по врожденной жадности ко всему, происходящему вокруг меня, ходил на все социал–демократические лекции и митинги. Помню не очень понравившуюся мне Клару Цеткин, в каком–то сером мешке вместо платья, хрипло ораторствовавшую на тему о разрушении пролетарской семьи под влиянием капиталистической эксплуатации. Гораздо более благоприятное впечатление произвел на меня маннгеймский присяжный поверенный, впоследствии видный член социал–демократической фракции рейхстага Людвиг Франк. Этот блестящий оратор с большелобым лицом, обрамленным пышными кудрями, изяществом черной визитки и государственным пафосом своего ревизионистического социализма напоминавший Лассаля, был любимым вождем социалистической молодежи – Sozialistische Jugendbewegung[6]6
Социалистическое движение молодежи.
[Закрыть]). Вскоре после объявления войны 1914–го года он записался добровольцем на фронт и пал в первом же сражении под Люнневиллем. Через год после него пал в Галиции высокоталантливый молодой философ Эмилий Ласк, как и Франк – еврей, социалист и доброволец.
Единственным совсем крупным человеком и оратором, Божьей милостью, среди всех приезжавших в Гейдельберг лекторов, был Фридрих Науманн, основатель и вождь христианско–социальной партии. Социально–педагогическая задача Науманна с полною ясностью определялась заглавиями его первых работ: 1) «Как нам бороться против неверующей социал–демократии», 2) «Социальная программа евангелической церкви».
В связи с появлением третьего издания книги Науманна «Демократия и монархия», его имя было в 1903–4–м годах у всех на устах. В среде «свободного студенчества» и в окружении знаменитого социолога Макса Вебера горячо обсуждалась проблема христианско–национальной и вместе с тем и социально–демократической монархии. Русскому, почти сплошь русско–еврейскому социалистическому студенчеству, теория пастора Науманна представлялась, конечно, сплошною очевиднейшею нелепицей. Я, как умел, защищал Науманна, но защищать его мне было очень трудно, так как никто из моих тогдашних оппонентов не читал его большой работы. Если бы гейдельбергские социалисты хотя бы мельком просмотрели главу о евреях в его "Demokratie und Kaisertum"[7]7
«Демократия и монархия».
[Закрыть]), они, быть может, и простили бы Науманну его тогдашний политический союз с антисемитом Штеккером; в этой весьма интересной главе Науманн высказывает парадоксальную мысль, что ферментом национальной декомпозиции окажется не еврейство, а скорее антисемитизм, который в будущем объединится не с правыми элементами Германии, а с лево–демократическими и социалистическими. Все это никак не интересовало наших партийцев: слепые и глухие ко всем особенностям и сложностям свершавшейся вокруг них жизни, они варились исключительно в своем соку, жили скопом, читали по шпаргалке и узнавали о Германии только то, что печаталось в «Форвертс».
Центром русского партийного студенчества была знаменитая гейдельбергская читальня, помещавшаяся под крышей темноватого, трех или четырех–этажного дома на Мерцгассе. Признаюсь откровенно, что от первого посещения этого русского культурного очага у меня осталось малоприятное ощущение. О существовании читальни–библиотеки я ничего не знал. Случайно проходя по Мерцгассе, я увидел небольшую вывеску на русском языке; очень обрадовавшись, я тут же решил посмотреть, что за читальня и что за народ в ней читает. Первый же взгляд в «читальный зал» сразу разрушил мои радостные ожидания. В небольшой комнате, небрежно увешанной портретами русских писателей и «борцов за свободу», сидели, осторожно шурша тонкою бумагою конспиративных изданий, какие–то сплошь хмурые люди. Никакого привета себе, как русскому, я в быстрых, исподлобья брошенных на меня взорах, не почувствовал. Прочтя на двери, ведущей в соседнюю комнату, надпись: «Правление, часы приема такие–то», я постучался и тут же услышал «herein». В двух задних комнатах, заваленных книгами в истрепанных дешевых переплетах и, главным образом, журналами, курило несколько, по всей своей культурно–бытовой сущности совершенно инородных мне молодых людей. Я просмотрел каталог, записался в члены и вышел из читалки более одиноким, чем вошел в нее.
С течением времени мы с братом и вся наша компания беспартийных москвичей сблизились с такою чуждой поначалу средой западно–русского социалистического еврейства, но совсем своими мы в этой среде так до конца и не стали.
Русские социалистические партии вели за границей регулярную революционную работу, выражавшуюся в партийных собраниях, публичных лекциях и устройстве открытых благотворительных вечеров. Вначале мы на лекции с прениями не ходили, не по сознательному бойкоту, а просто потому, что мало интересовались революцией. Но вот читалкинский улей как–то уж очень разволновался. До нашей компании дошли слухи, что готовится нечто весьма важное, что в качестве докладчика ожидается некая значительная и в каком–то отношении даже таинственная личность. Передавали, что ожидаемой личности будто бы даже запрещен въезд в Германию, но что ее все–таки как–то привезут. Председатель читалки, нищий, чахоточный идеалистический марксист, сговаривался с известным ему носильщиком социал–демократом о конспиративной встрече приезжающего докладчика. (Этот носильщик, к слову сказать, очень обрадовался, увидав меня в 1924–м году на перроне гейдельбергского вокзала. Перекинув через плечо мои чемоданы, он с места же пустился в воспоминания и философию. Вера в то, что в раскрепощении России он, в качестве присяжного рассыльного революционной гейдельбергской читалки, сыграл далеко не последнюю роль, была в нем так же сильна, как ненависть к коварной Англии, втравившей Россию в войну с Германией и убеждение, что после свержения Романовых и Гогенцоллернов, завещанная Бисмарком Германии дружба с ее великим восточным соседом уже никогда не будет нарушена. Получая хороший «на чай» и крепко пожимая мою руку, он все твердил, очевидно, доставлявшую ему громадное удовольствие фразу: «да, кто бы мог подумать, чтобы социалист Ленин стал осуществителем бисмарковских заветов о сближении Германии с Россией»). Так вот, ввиду всех этих приготовлений,и как бы бенефисного характера предстоящего вечера, как выражался Саша Поляков, студент–медик, племянник известного московского мецената–издателя и обладатель прекрасного баритона (ученик Оленина), мы и решили сменить гнев на милость и почтить вечер своим присутствием. Одевшись понаряднее и воткнув, в пику красным социал–демократическим гвоздикам, по чайной розе в петлицы, мы заняли места под самым носом у докладчика, заказав, вместо полагавшейся дешевой кружки пива, какие–то более благородные напитки. Во всем этом не было и намека на какую–нибудь политическую борьбу или просто демонстрацию. Мы всего только сопротивлялись, как умели, тому бесспорному презрению, которое питали к нам, беспартийным академикам и буржуям, идейные представители революционного социализма. Дело, по правде сказать, осложнялось еще тем, что наша компания не гнушалась общением с некоторыми явными черносотенцами, среди которых был забавный парень, приехавший в Гейдельберг уже после 1905–го года и ходивший по городу с солдатским георгиевским крестом и в бобровой николаевской шинели внакидку.
Таинственным докладчиком вечера, имя которого от нас тщательно скрывали, оказался Лев Дейч. Ни содержания, ни даже темы доклада не помню, помню лишь, что в прениях выступал приехавший вместе с Дейчем Столпнер, совершенно лысый, подслеповатый человек в потертом сюртуке, сразу же поразивший меня своим умом и тою глубокою серьезностью, с которою он развивал свою революционную идеологию. Вскоре после Дейча, очевидно в порядке партийного соревнования, были в том же ресторане «выпущены» эсерами А. Гоц и И. Бунаков. Оба приятеля, с которыми я познакомился уже в свой первый семестр в семинаре профессора Элзенганса, показались мне очень переменившимися. Было очевидно, что за истекшие три года они в чем–то весьма преуспели, что–то совершили и заслужили. Перемена эта ощутилась мною с такою силой, что я как–то даже постеснялся запросто подойти к ораторам и поздороваться с ними, как с товарищами студентами. Надо сказать, что революционное подполье умело создавать авторитеты и внушать к ним уважение даже и среди инакомыслящих.
Абрам Год, приговоренный в качестве члена эсеровского Центрального комитета в 1918–м году большевиками к смертной казни, но помилованный, а потом, после долгих лет заключения, все же убитый, – и сейчас как живой стоит перед глазами: вместо галстука – громадный черный бант, длинные до плеч черные волосы; в этом черном обрамлении бледное, обаятельное, очень умное лицо, с почти не сходящей с него улыбкой и устремленными вдаль глазами. От красноречивого доклада в памяти осталось немногим больше, чем от лекций Дейча: всего только, как–то особенно звучавшее у Гоца многократно повторяемое им слово «марево». Произнося «марево», Гоц видел солнце. В эсерах всегда было много мечтательности.
Вместе с Гоцем, не то в качестве корреферента, не то в качестве застрельщика против марксистов, выступал Бунаков; если не ошибаюсь, уже и тогда по аграрному вопросу. Он говорил менее лирично, чем Гоц, но зато более горячо, умело пользуясь сухими статистическими данными, как хворостом для своего революционного костра. Эсеры восторженно хлопали, эсдеки насупленно пожимали плечами. Я, конечно, выступал в прениях, как против Дейча, так и против эсеров. Доказывая марксистам неверность их социологического метода и нападая на эсеров за отсутствие у них всякого метода, я выдвигал в качестве положительного начала религиозно–идеалистическую теорию, начавшую у меня вырабатываться под двойным влиянием немецкой романтики и Владимира Соловьева. В 1905–м году, в самый разгар первой революции, я выступил с докладом на тему: «об идейной немощи русской революции». В этом докладе я проводил параллель между французской и русской революциями, доказывая, что французская была первою попыткою практического осуществления последнего слова философии, русская же собирается строить новую жизнь на основе давно уже опровергнутых немецким идеализмом и русской религиозной мыслью материалистических задов философии. Возлагать какие бы то ни было надежды на сочетание политической революционности с духовною реакционностью, я решительно отказывался. Доклад имел успех, но, конечно, лишь успех скандала. Прения длились целых два вечера. Социалисты всех партий с полным единодушием разносили мои тезисы. Большую помощь на втором вечере оказал мне своим выступлением и своим авторитетом прославившийся в Гейдельберге своею выдающеюся докторскою работой Богдан Александрович Кистяковский.
Такие сложные отношения с партийцами были из всей нашей компании только у меня одного. Остальные, все больше естественники, главным образом медики, не только не занимались общественностью, но даже и не интересовались ею. Мы все без малейшего раздумья над правильностью нашего поведения и при гробовом молчании «классового сознания» помогали читалке добывать нужные ей для революции деньги: из года в год наша компания ставила благотворительные спектакли с балом в пользу эсеров, эсдеков и Бунда. И не только в Гейдельберге, но также в Дармштадте и Карлсруэ.
Почему мы – и не социалисты, и не революционеры, – принимали хотя и косвенное, но все же деятельное участие в партийной жизни, объяснять не приходится. То, что сейчас представляется очень сложным вопросом, не содержало для студенческой психологии начала века решительно никакой проблемы. Мы, не задумываясь играли в пользу партий совершенно по той же причине, по которой действительный статский советник и антисемит Ковальциг не считал за евреев Натана и Леммериха, по которой штабс–капитан Головин сочувственно намекал на нашу не существующую конспиративную квартиру, по которой тетя Зина чуть ли не за образами прятала подпольную литературу, одна почтенная знакомая нашивала белые коленкоровые лозунги на кумачевые знамена, а проживающая сейчас в Германии страстная поклонница Гитлера[8]8
Эту главу автор писал в 1938–39 г.г.
[Закрыть]) читала революционные стихи Скитальца на национально–еврейском празднике. Таков уж был дух времени: самая таинственная, самая неуловимая и все же реальная сила истории.
Революционность эпохи имела, конечно, и свою обратную сторону: некоторую никчемность рядовых представителей консервативного лагеря. Помнится, что в продолжение одного или двух семестров, лишь изредка заходя в университет, в Гейдельберге шумно веселилась теплая компания дворянской сановной молодежи. С читалкой эта компания, конечно, не общалась, но и с нами, интеллигентами–академиками, сближалась с осторожностью и с большим выбором. Постоянно видался с блестящими молодыми людьми лишь мой приятель, недавно умерший за границей Трифон Георгиевич Трапезников, талантливый историк искусств, нервный, тонкий, всегда изысканно одетый человек, с подлинно аристократической, несмотря на купеческое происхождение, внешностью. За эту внешность известный читалкинский остряк Борис Эммануил при каждой встрече неизменно называл его Трифон–Трапезников. Трифон Георгиевич считал Эммануила наглецом, но втайне радовался его остроте.
Политикой эта компания, конечно, не занималась. Интеллигентского интереса к нелегальной России и подпольной литературе не проявляла, словно не против нее оттачивались в читалке революционные «топоры». Веселилась же она не только шумно, но и с вывертом, с теми причудами, которые никогда не могли бы прийти в голову студентам–корпорантам. Идея вынести мертвецки пьяного, почти раздетого товарища в два часа ночи на улицу и двинуться похоронной процессией к вокзалу с ведром холодной воды для воскрешения обмершего, была столь чудовищным превышением таких традиционных в Германии студенческих шуток, как кошачьи концерты под окнами спящих бюргеров, тушение фонарей, влезание на памятники, что совершенно сбила с толку уютных гейдельбергских шуцманов, решивших поначалу, что тут не веселье, а чуть ли не убийство. Кончилось, впрочем, все благополучно, хотя проделка и обошлась довольно дорого; дороже всех Трапезникову, который ни с того ни с сего взял на вокзале билет и уехал без шляпы и без денег в Париж, проверять все время мерещившиеся ему во время процессии «мистические треугольники» на нескольких любимых картинах Лувра.
Говоря о Трапезникове, не могу не вспомнить нашего общего приятеля, Михаила Ивановича Катарджи, постоянно проживавшего в двух прекрасно обставленных комнатах лучшей гостиницы. Сын крупного помещика и предводителя дворянства Бессарабской губернии, Михаил Иванович был типичным русским западником–космополитом. Блестяще образованный, свободно говорящий на четырех или пяти языках, Михаил Иванович постоянно вращался среди переполнявших Гейдельберг иностранцев. Несмотря на сильную сутулость, которую Катарджи умело скрывал, он иной раз выезжал верхом с герцогом веймарским и принцессой Софией.
Научная карьера Михаилу Ивановичу не улыбалась, он скорее подумывал о дипломатической, но готовился к ней не спеша. Как настоящий русский барин, он был полон жизни, но лишен того, что ныне стали называть «динамизмом». Его большой и блестящий ум тяготел к Гегелю (Михаил Иванович был учеником гегельянца Куно Фишера), его скептическая душа тянулась к Монтэню, а сердце благоговело перед Паскалем. Наши беседы, прогулки и позднее сидение в маленьком винном погребке были неизменно полны подлинного воодушевления. Я с удовольствием и благодарностью вспоминаю их. Особенно интересно проводили мы время в гостях у Михаила Ивановича, когда к нему приезжал земляк и приятель Базилевич, как и Михаил Иванович, ученик Фишера. Очень начитанный и талантливый, но все же никчемный человек (излишняя роскошь русской культуры), Базилевич до смерти любил разговаривать, вернее балагурить. Балагурил он не без шутовства, но все же и не без высшего смысла. Витийствовал он и жестикулировал всегда на несколько тем сразу, сам себя слушая, сам себе подмигивая и сам на себя радуясь.
Пригласив Трапезникова и меня к себе, Михаил Иванович благодушно показывал нам своего забавного приятеля, как болгарин показывает свою обезьянку: «а покажи, как девица за водой ходит, как пьяный мужик валяется»… Базилевич все охотно показывал, говорил и острил без умолку. Тут были и дерущиеся кошки, которых он еще лежа в постели дразнил сырой печенкой для того, чтобы начать свой день со «здорового» смеха, были и мужики, будто бы спросившие его с телеги – «а что, барин, далеко ли до царствия небесного?» и даже плащаница, к которой ему, Базилевичу, с детства было неудобно прикладываться: «к лику, – заливался он своим барским грассирующе–шепелявым говором, – не достоин, к ногам – смирения не хватает, а к пупку, как–то неловко». Свои юмористические рассказы Базилевич беспрестанно пересыпал то богословскими парадоксами, то философскими афоризмами. Словно из рукава сыпал он цитатами и изречениями Блаженного Августина и Фомы Аквинского, Гегеля и Шлейермахера, Гёте и Чехова…
Михаил Иванович Катарджи, конечно, не был революционером. В нем были сильны государственное сознание и сословное самоутверждение. Тем не менее и он не только брал билеты на читалкинские вечера, но и хорошо платил за них. Заартачился он только один раз, но не по политической, а по эстетической причине. Читалкинский комитет постановил, чтобы распространители билетов обходили «знатных соотечественников» в наивозможно шикарном виде. Во исполнение этого постановления я и явился к Михаилу Ивановичу в визитке, котелке и светлых перчатках, а моя дама в костюме «tailleur» по тогдашней моде, с огромной бутоньеркой на груди. Катарджи не на шутку сконфузился и рассердился: «Я всегда с удовольствием, но при чем этот маскарад… простите, не могу». Пришлось еще раз вечером запросто придти к нему и продать билет, как обычно, втридорога.
Не удавшийся по отношению к Михаилу Ивановичу «костюмный нажим» дал в Баден–Бадене очень хорошие результаты. Тщательно изучив по курортным спискам русское население Баден–Бадена, мы объезжали гостиницу за гостиницей. Самое важное было твердым тоном и хорошим «на–чаем» помешать телефонному докладу швейцара о нашем желании видеть наших соотечественников. Неизвестных молодых людей, ждущих в вестибюле гостиницы ответа, примут ли их, или нет, мало кто примет. Не принять же внезапно появившихся в раскрытых дверях номера вслед за докладывающим коридорным прилично одетых людей гораздо труднее. Приняв же – еще труднее отказать в каких–нибудь двадцати марках за билеты на благотворительный вечер. Должен сказать, что «знатные соотечественники» почти никогда не отказывали и, не зная что творят, поддерживали нашу «великую и бескровную».
Первым номером появлялся на эстраде великолепный Саша Поляков во фраке и лаковых штиблетах. Его действительно прекрасный голос, ухарство и задушевность покоряли всех: и украинцев, и армян, и грузин, и даже евреев. Меньшинственной ненависти к русской музыке в те времена никто еще не испытывал. После Саши выступали обыкновенно я или мой брат, изумительно читавший Чехова. Чтение сменяла музыка, обычно русское трио из Дармштадта, состоявшее из аристократического поляка, лупоглазого, белозубого румына и грустного местечкового еврея.
По окончании программы все устремлялись в буфет, за которым несколько лет подряд торговала Наталия Осиповна Коган–Бернштейн, вдова расстрелянного социалиста–революционера, и ее неразлучная подруга, как впоследствии выяснилось, провокаторша Жученко, которую в читалке все любили за тихий нрав и преданность делу. И действительно, спокойный голос и разумные советы этой, скромно одетой и гладко причесанной худощавой женщины с маленькими, желто–карими и слегка как будто косившими глазами, часто улаживали семейно–партийные споры по устройству вечеров.
Несмотря на то, что читалкинские балы устраивались наследниками нигилистических отрицателей эстетики, дамы–организаторши старались обставить их со всею доступною колонии роскошью. По углам зала и у колонн живописно разбрасывались киоски, т. е. декорированные растениями и цветною папиросною бумагою столы. Особенною искусницей в безвкусном деле превращения столов для продажи шампанского, цветов и лотерейных билетов в пестрые бумажные беседки, слыла Сонечка Левине, весьма буржуазная по всем своим жизненным привычкам сестра расстрелянного в 1919–м году, в качестве, члена мюнхенской советской республики, Евгения Юльевича Левине, которого я близко знал.
Покинув Гейдельберг в 1910–м году, я совершенно потерял Левине из виду; где он был во время войны 1914–го года и что она из него сделала – я не знаю. В студенческие годы – это был невероятно мягкий, даже сентиментальный человек, воспевший в стихах барабанящие по крышам пролетарских мансард осенние дожди и чистых благородных проституток. Его бескровный и отвлеченный социализм носил скорее этически–педагогический, чем революционный характер. Одно время он стоял близко к немецкому обществу «Ethos" и объезжал по его поручению немецкие города с лекциями о Максиме Горьком. Ни фанатизма, ни догматизма в нем не было. Думаю, что в мое время он вообще не был определенным и стойким марксистом.
Немецкий энциклопедический словарь называет Евгения Юльевича русским социалистом, это вряд ли верно. Раннее детство, правда, он провел в России, но учился в Германии. Стихи и драмы писал на немецком языке, который он считал своим родным языком. По подданству он был итальянцем, по миросозерцанию – гуманитарным атеистом, по внешности типичным евреем. Во всем облике не было ни малейшего намека на идейно–волевую жизнь и на трагически–героическую смерть. Самое страшное в этой смерти то, что она, как мне по крайней мере кажется, была не судьбою, а случайностью.
Какая страшная мысль, что не только Левине, но и мы, беспартийные организаторы благотворительных Гейдельбергских вечеров, во всем, что случилось с Россией, виноваты. Мы, конечно, хорошо знали, что выручаемые деньги поступают «в распоряжение революционных партий», но над смыслом этих слов не задумывались. Не задумывались над ним, в конце концов, и сами партийцы; суетливо, но не без важности живя своею «идейной» жизнью, – собраниями, прениями, рассылкой литературы – они образа той революции, которую готовили, перед собою не видели. Если бы их глазам хотя бы на минуту предстала возможность того, что сталось с Россией, на наших благотворительных вечерах вряд ли могло господствовать то задушевно–обывательское веселье, которое по своему психологическому тембру мало чем отличалось от обычных провинциальных вечеринок.
Так же, как в Калуге или Коломне, под жиденький оркестрик в пять человек, кружились мечтательно вальсирующие пары. Под оглушительные французские возгласы так же путанно выделывала свои фигуры лихая кадриль и несся по залу бешеный галоп. Для мазурки и венгерки у немецких музыкантов не хватало темперамента. Тогда поддать пару за рояль садился, похожий на Антона Рубинштейна, Джемс Шерешевский. Топот, шарк и скок сразу же усиливались. Печальноокий армянин Телетов, талантливый молодой ученый со слегка седеющими висками, изящно чертил миниатюрнейшей ножкой блестящий паркет зала. Пышным, тюлевым колоколом плыла рядом с ним его дама, желто–розовая, как марципанное яблоко, Сонечка Левине. Острым циркулем выкидывал в стороны свои длиннейшие ноги, задушенный крахмалом председатель читалки Товбин, вислощекий, вислоносый юноша с совершенно заросшим густым волосом лбом. Широкою «московскою масленицей» скользил по залу, счастливый своим артистическим успехом уже сильно подвыпивший Поляков, большой специалист по части мазурки и венгерки. Аристократический Три–фон–Трапезников не танцевал, т. е. не прыгал и не крутился. Под размеренно мелодичные звуки па–де–катр или миньон, он с неподражаемым старомодно–декадентским изяществом ритмически прогуливался по залу с самою изящною дамою вечера. В остальное же время сидел за шампанским с Катарджи и балтийским бароном, развлекая себя и своих собеседников меткими замечаниями по поводу «веселящейся революции».
К часу танцы прекращались и начинался, как на всех русских вечерах, пляс. Сначала плясали «русскую» (у нас в деревне, если дом еще не снесен, вероятно, и сейчас на чердаке валяется полученная мною в качестве первого приза за «русскую», репродукция Штуковской картины «Грех»), а потом еврейскую «дределе». Этот танец замечательно исполнял добрый москвич, Тимофей Ефимович Сегалов, автор интересной докторской работы об эпилепсии у героев Достоевского и большой любитель Глеба Успенского, рассказы которого он талантливо читал на наших вечерах. Танцевал Сегалов в длинном черном сюртуке и в заломанном на затылок цилиндре. Под локти за спиной пропускалась палка, большие пальцы запускались в проймы жилета, остальные, в растопырь, подрыгивали в такт музыке. Все тело подергивалось и раскачивалось в каком–то комическом, но не лишенном своеобразной грации, ритме. Сегалов получил в награду «Бетховена» Балестриери. Почему Штук и Балестриери были любимцами революционной молодежи и в большом количестве украшали студенческие мансарды, сказать не могу. Странным образом это было тоже в духе времени.
Когда было пора расходиться по домам, начиналось пение. Сначала Поляков со своим хором в пять–шесть человек затягивал на эстраде «Не осенний мелкий дождичек» или «Во поле березынька стояла». Но очень скоро в дальнем углу зала не в порядке политической обструкции, а просто по велению души и вина раздавалась какая–нибудь революционная песня. Явно, что революция, за которой было «компактное большинство», всегда побеждала. Поляковские солисты добровольно переходили в революционных хористов и подхватывали революционные припевы отнюдь не менее страстно, чем народные. Лучшим запевалой революционных песен был изредка наезжавший в Гейдельберг Бунаков, в те годы поразительно красивый, вдохновенный юноша, исполненный живою верою в непобедимость добра. Пишу и вижу перед собою его бледное, запрокинутое лицо, прекрасные волнистые волосы почти до плеч, ласковые, счастливые глаза, слышу его не очень ровный, но большой и благородный по тембру голос.
Обыкновенно же запевал известный впоследствии историк русского студенческого движения Сватиков, полный, низкорослый, осанистый юноша. Пел он с определенным цыганским, пошибом:
По пы–ы–лыюй дороге те–е–лэга не–есется
А в–ней два–а жандар–ма си–идят…
Хор лихо подхватывал:
Сбейте ж оковы, дайте мне волю
Я научу вас свободу любить…
А до–о–ма оставил он ма–ать одинокую
Что будет о нем го–о–рэвать…
с новым нажимом чувствительности выводил дальше Сватиков… В заключение, явно озорничая, крыл всех своим могучим голосом Саша Поляков:
Сбейте ж оковы, дайте мне волю…
После пыльных жандармов пелась марсельеза, интернационал, иной раз довольно нелепая старая студенческая песня:
Выпьем мы за того,
Кто «Что делать» писал,
За героев его,
За его идеал.
и т. д., вплоть до польского национально–революционного гимна:
Еще Польска не сгинела…
болгарской «Окровавленной Марицы» и еврейской колыбельной :
Уф дем припечек брент а файерл.
Эту песнь, как и другую переселенческую:
Ин Америка воинт дер Тата
пели обыкновенно на рассвете, как бы про себя, несколько местечковых студентов и студенток. Особенно грустно было видеть среди них уже не совсем молодого, горько нуждавшегося доктора химии, которому знакомый мне корпорант, в будущем посол демократической Германии, как–то при всех посоветовал пристегивать всегда спускавшиеся брюки к концам галстука, если ему действительно не на что купить помочи.
Рассказывая об этом, я отдаю дань современности; не отдавать этой дани нельзя; важно только не уступать ей своих позиций, что никого не обязывает, однако, сохранять их совершенно в том же виде, в каком они были некогда заняты. Нельзя не видеть, что не существовавший для левой русской интеллигенции еврейский вопрос, оказался не только существующим, но и весьма сложным по своей сущности.








