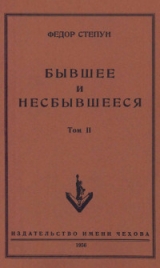
Текст книги "Бывшее и несбывшееся"
Автор книги: Федор Степун
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 46 страниц)
Изменение же духа армии было, как содержанием, так и тоном речи Ивана Владимировича охарактеризовано вполне правильно. Даже и те из офицеров, которые в противоположность Ивану Владимировичу не были склонны отрицать объективного улучшения в материальном положении фронта, уверяли, что снижение духа армии, связанное главным образом со второсортностью недоученного и недовоспитанного человеческого материала, присылаемого на фронт, идет много быстрее, чем улучшение производительности наших военных заводов. Страшное слово «поздно» Дамокловым мечом висело над армией. Вместе со скучными, ноябрьскими туманами по сырым глинистым окопам неудержимо расползалось уныние. В офицерских душах незаметно протаривались извилистые тропы благовидного приспособленчества, а то и дезертирства. Исполнение долга было еще на высоте, но офицерской доблести и солдатской лихости было уже гораздо, меньше. Получить «Георгия» по–прежнему оставалось заманчивым и желанным, но «переплачивать» за него, подвергая себя излишней опасности, уже никому не хотелось. Дух добровольческого самопожертвования явно отлетал от армии, даже геройство становилось расчетливым.
Менялось все потому, что война уже никем не ощущалась судьбою, от которой уйти нельзя и прятаться постыдно. Вера в то, что «война с того света пришла», уже не владела ни офицерскими, ни солдатскими душами: по окопам открыто ходили разговоры о том, что войну наслали на Россию немецкие советчики государя императора, которые были при дворе в большой силе, так как за ними стояла сама императрица, которая хотя и спуталась с русским мужиком, а все же свою немецкую линию тянет. Эти злые шёпоты политиканствующего тыла со дня на день все глубже разлагали ту подсознательную метафизику войны, которою живет как ее покорное приятие, так и ее героизм.
В дополнение картины надо еще сказать, что на фронте упорно, даже с каким–то злорадством говорили о том, что немец обязательно пустит газы. В этом ожидании газа чувствовалось желание обесчестить войну и тем оправдать свое изменившееся к ней отношение.
Пробыв на батарее около шести недель, я перевелся в парк. Решение «податься в тыл» далось мне нелегко. Побудил меня к этому целый ряд причин, из которых главною была моя нога. Совсем было поправившись в Ессентуках, она, после первых же дежурств на передовых наблюдательных пунктах (за сутки дежурства полагалось хотя бы раз обойти наш большой боевой участок), снова начала ныть и пухнуть. Друзья мои, Евгений Балашевский и Александр Борисович, видя, что мне не под силу часами месить вязкую, глинистую почву, решили не пускать меня на суточные дежурства и распределили их между собою.
Как ни близки были наши отношения, мне было все же неприятно подвергать приятелей излишней опасности. Кроме того, меня смущала мысль, что в случае ухода командира, все чаще заговаривавшего о своем переводе, мое привилегированное положение может стать невыносимым.
Моим колебаниям неожиданно положило конец предписание начальника штаба дивизии откомандировать кого–нибудь из младших офицеров в парк. Командир бригады предложил перевести меня. Иван Владимирович советовал не противиться судьбе и со спокойною совестью принять назначение.
Доводы его были убедительны: молодым прапорщикам, недавно прибывшим на фронт, отдыхать еще рано, а кадровым офицерам перевод в парк невыгоден, так как он тормозит производство.
Заглянув себе в душу и увидев, что в ней не все обстоит благополучно в отношении самолюбия, я решил, что обязан освободить от себя батарею и подал соответственный рапорт.
Дня через два, 22–го декабря 1916–го года, я погрузил свою двуколку, забрал своего закадычного Семешу и с тяжелым сердцем, сев в последний раз на мою Чадру, отправился к своему новому месту службы, надеясь сохранить с батареей, расположенной только в трех верстах от головного и в 15–ти от тылового парков, самые дружеские отношения.
Не знаю, был ли прифронтовый тыл на самом деле столь отвратителен, каким он предстал моим глазам после перехода в парк, или его отвратительный образ был порождением того уныния, которое завладело мною после ухода с батареи.
Знаю только одно, что раньше, когда я приезжал с позиции в тыл: в полевое казначейство, на почту, на питательный пункт, в штаб – я всегда воспринимал тыл как некое подобие той настоящей жизни, от которой меня оторвала война. Было приятно сходить в баню, не торопясь пообедать у знакомого земсоюзного доктора, принять стакан чаю из рук милой сестры, невольно волнующей тебя отдаленным сходством с матерью, сестрою, женою, не спеша пройти в казначейство, опрятный, провинциальный домик, у коновязи которого, как где–нибудь в Серпухове или Дмитрове, жуют сено запряженные в брички рассупоненные лошаденки, а затем, закурив папиросу и еще чувствуя в душе медленный ритм мирной жизни, шажком двинуться на батарею.
Когда, переведясь в парк, я стал чаще навещать тыловые учреждения, их отраженная поэзия стала быстро таять в душе.
Ближайшим к парку тыловым центром были Подгайцы, дотла разбитый, загаженный городишко, переполненный праздношатающимся солдатским сбродом вперемежку с грязными, насыщенными восточною характерностью фигурами галицийских евреев.
Посреди города находился «Московский магазин», в котором хищно и расторопно торговал жирный, губастый армянин с плутоватыми глазами, поминутно утопавшими в беспредельной улыбке. Кроме своей копейки, его ничто не волновало, меньше всего – безногий бандурист с кровоподтеком вместо вытекшего глаза, что–то жалобно напевавший на краю вонючей лужи у самого входа в лавочку. Лежащая рядом с костылями шапка оставалась почти что пустой. Певца никто не слушал и ему никто ничего не подавал, хотя по главной улице, впадающей в базарную площадь, все время фланировали земгусары, чиновники, тыловое офицерство и так называемые «кузины милосердия», в которых я уже не видел ни малейшего сходства с милыми женщинами своего мира. Смотря на «кузин» и волочащихся за ними прапоров, я с неприязнью чувствовал, что для всех них любовь – загаженная клетка, из которой уже давно вылетела певчая птица. Недаром та болезнь, обещаниями излечить которую пестрят обыкновенно последние столбцы газет, называлась на фронте «сестритом» и недаром прапорщик Вилинский распевал под гитару новую частушку:
Как служил я в дворниках,
Звали меня Володя,
А теперь я прапорщик,
Ваше благородье.
Как жила я в горничных,
Звали меня Лукерья,
А теперь я барышня,
«Сестра милосердья».
Чтобы рассеять парковую скуку, много слоняясь верхом по тылу, я часто заезжал в штаб корпуса, к которому был прикомандирован окончивший краткосрочные курсы Генерального штаба Владимир Балашевский. Всегда боровшийся против бессмысленной ненависти фронта к генштабистам, я, ближе ознакомившись со штабным духом, понял, что не ненавидеть штаба рядовому фронтовику почти невозможно.
Заглянув в середине февраля в штаб, я узнал, что только что приехали с фронта отравленные газами Евгений Балашевский и недавно прибывший на батарею прапорщик Блинов, которые прошли на квартиру Владимира. Я побежал к ним.
Бледные, усталые, с глазами, налитыми кровью, и с углем от противогазов на веках и вокруг рта, они тихо, стараясь дышать только верхушками легких, рассказывали мне о ночном бое, к раскатистому вою которого я с тревогою прислушивался ночью. Обстрел артиллерийских позиций длился целых пять часов, в продолжение которых на одну третью батарею легло более тысячи снарядов. Немцы гвоздили по нашим позициям с отвратительною методичностью, выпуская не меньше десяти снарядов в минуту.
Страшнее потерь было, по словам Евгения, вызванное газами психологическое потрясение. После газовой атаки в батарее все почувствовали, что война перешла последнюю черту, что отныне ей все позволено и ничего не свято. Неким символом этого предельного обесчеловечения войны Евгению показалась трагическая неузнаваемость всех окружавших его в бою людей: белые, резиновые черепа, квадратные стеклянные глаза, длинные зеленые хобота, неизвестно откуда взявшихся фантастических водолазов на дне беспрестанно освещаемой красными сверканиями разрывов ночной бездны, – все это дышало, по их словам, таким ужасом, которого никогда не забыть. С этим ужасом в душе притащились они в Завалув.
Через полчаса Владимир вбежал к нам с ворохом бумаг подмышкой, красивый, веселый, бодрый, по–штабному чистенький и нарядный. Несмотря на то, что он был уже подробно осведомлен о тяжелых потерях, понесенных горячо им любимой третьей батареей, он был счастлив тем, что, несмотря на бешеный натиск неприятеля, нам удалось удержать окопы.
Наскоро расспросив Евгения, как все было и как он себя чувствует, он, в радостном сознании важности своих новых штабных задач, достал из портфеля свеже–перехваченные немецкие телефонограммы, намекавшие на подготовляющиеся в России важные события, и начал их громко читать своим звонким повелительным голосом, не замечая, что Евгений ничего не слушает, потому что у него в легких еще стоит запах газа, а в ушах плеск и свист разрывов.
После ужина Владимир не без гордости повел нас в свое оперативное отделение. Несмотря на поздний час, там работало еще несколько офицеров. Каждый за своим большим, хорошо освещенным столом с четко разложенными на нем бумагами и телефонными аппаратами. На столах и стенах большие карты с нанесенными на них синим и красным карандашами линиями наших и неприятельских окопов. Во всем бросающаяся в глаза вытравленность страшной, будничной реальности войны. Всюду схема, цифра, сводка, отвлеченная динамика наступления и отступления, доблестное дело, за которым не чувствуется уныния осенних дождей в размытых окопах, никогда не просыхающих ног, вшей, тоски по мирной жизни, холодящего душу предсмертного страха и непереносимого для человеческой души проклятия беспрекословного повиновения. Нет, ненависть боевых офицеров к генштабистам основана не на том, что они живут чище, вкуснее и безопаснее, а на том, что, чувствуя себя творцами истории и вершителями человеческих судеб, они своим отвлеченно–стратегическим мышлением самонадеянно осмысливают то, что фронт в свои великие минуты ощущает благодатью («И Бога брани благодатью наш каждый шаг запечатлен»), а в свои малодушные часы – безумием.
В 1917–ом году уже никто на фронте не чувствовал в войне веяния Божьей благодати. Зато безумием ее ощущали все, открыто связывая к тому же это безумие с глупостью и бессилием власти.
О вине правительства и придворных кругов у нас в бригаде впервые громко заговорили во время встречи Нового 1917–го года.
В окоп третьей батареи был приглашен весь первый дивизион, в котором из офицеров, вышедших с нами из Иркутска, осталось всего только четыре человека.
Около десяти с половиною сели за стол. Хотя и вин и яств было достаточно, настоящего новогоднего настроения ни у кого не было. Все же по обыкновению начались тосты. Последним поднял свой бокал Александр Борисович: «За свободную Россию, господа». И вот случилось нечто, год тому назад совершенно невозможное: революционные слова вольноопределяющегося были покрыты громкими аплодисментами всех собравшихся офицеров. Услышав эти аплодисменты, мрачный, нервный и замученный неудачами на фронте и разложением в тылу, Евгений Балашевский, внезапно просветлев лицом, обратился к старшему из присутствовавших офицеров, полковнику Гореву и предложил послать телеграмму на имя председателя Государственной Думы Родзянко.
– Что же, можно, пошлемте, отчего не послать, – отозвалось несколько не слишком, впрочем, уверенных голосов.
Когда встали из–за стола, Евгений, Александр Борисович и я удалились в «дортуар» для составления текста телеграммы. После недолгого совещания, нами был предложен приблизительно следующий текст: «мы, офицеры первого дивизиона 12–й сибирской артиллерийской бригады, собравшиеся для встречи Нового года, в тяжелую минуту, переживаемую нашею родиною шлем Вам, председателю Государственной Думы, как представителю всей России, свой привет. Готовые здесь, на фронте, исполнить наш долг до конца, мы ждем от Государственной Думы, что она в решительный час действенно встанет во главе всех живых сил и осуществит, наконец, в России тот строй и те начала, без которых все наши усилия здесь тщетны».
Телеграмма послана не была. Первым же отказался подписать ее подполковник Горев: «С содержанием телеграммы, – сказал он, – я вполне согласен, но против ее посылки решительно протестую, так как это противно духу воинской дисциплины и может иметь весьма неприятные последствия».
При этих словах, сидевший на противоположном конце стола Евгений, побледнев как полотно, в упор спросил Горева: «А завтра вы пойдете на наблюдательный пункт, или, ввиду того, что это может иметь для вас печальные результаты, еще подумаете, идти ли?».
Поднялся горячий, шумный, многоголосый спор, в котором я поддерживал Евгения, горевшего двуединым гневом бывшего радикального студента 1905–го года и горячего патриота 1914–го года, а Владимир Иванович и Александр Борисович делали всё, чтобы примирить противников: первый, как хозяин вечера, второй, как прирожденный дипломат.
Конечно, мы с Евгением были неправы. Говоря о весьма неприятных результатах отсылки телеграммы, Горев ни минуты не думал о себе, тем не менее неправый по существу Балашевский был в своем праведном гневе решительно прекрасен. Вовсе не диалектик и человек не слишком расторопного ума, он возражал Гореву и его единомышленникам с тою точностью слов и ударений, которая дается только вполне бескорыстному волнению.
– Мы не дипломаты, – горячо и мужественно бросал он через стол свои простые и убедительные слова, – не политики, не общественные деятели, мы не преследуем нашей телеграммой никакой политической цели. Разве не просто: Родзянко шлет нам привет и говорит: «Стойте до конца, спасайте Россию». Почему нам не ответить ему: «Мы стоим, стойте и вы и спасайте с нами Россию». Зачем произносить чужое холодное слово политика – армия–де не занимается политикой – когда есть родное прекрасное слово «Россия», судьбою которой армии не волноваться нельзя.
В поздний час, когда большинство из присутствующих было, как говорится, на взводе, в спор неожиданно вмешался недавно прибывший на фронт агроном, любивший называть себя «знатоком народа». Своим громогласным заявлением, что все наши разглагольствования имели бы смысл только в том случае, если бы мы были готовы завтра же повернуть наши пушки на Петроград, он сразу же спутал все карты. – Но в том, что вы сможете их повернуть, – громыхал он, обращаясь то к Гореву, то к Балашевскому, – вы поручиться не можете, потому что вы имеете дело с русским мужиком, на которого положиться нельзя. Спросите–ка наших развращенных товарищами социалистами солдат, готовых до хрипоты орать «за землю и волю», пойдут ли они за сто рублей в месяц в стражники? Они вам скажут, что не пойдут, а я вам говорю: пойдут, сукины дети, все как один человек пойдут. Велик наш народ, но и сволочь.
Четвертого марта я сидел в своей свежевыбеленной халупе и, прислушиваясь одним ухом к потрескиванию сырых дров в громадной бледно–розовой печи и к гармонии фельдфебеля Голощапова, наигрывавшего «Баламут», писал письмо домой.
Под тонким пластом благодарного ощущения многодневного затишья на фронте и паркового уюта, в душе, как всегда, мучительно ныло сознание затягивающейся войны, бессмысленной, безнадежной и скучной.
Вдруг раздался стук в дверь и на пороге появился денщик командира парка. Взглянув на него, я сразу понял, что случилось нечто невероятное: «Так что, ваше благородие, командир приехали из лазарету и просят ваше благородие к себе. Слышно, в Петрограде революция», – произнес он бойко и как бы сам удивляясь своей смелости. Продолжать письма я, конечно, не мог. Оборвав его кратким сообщением о только что услышанном и быстро приписав бездумно вырвавшуюся из души фразу: «О, если бы это была правда», – я сунул письмо в конверт и в страшном волнении побежал к командиру.
Конец первого тома.
Том II
Глава I ФЕВРАЛЬ
Со страхом и трепетом приступаю к описанию «Февраля». Как уловить, как передать его раздвоенную душу? В каких словах запечатлеть радостную взволнованность целодневных заседаний в Таврическом дворце, после которых мы часто расходились по домам призрачно–белыми ночами, и медленное расползание по всей России ржаво–кровавых туманов «Октября», в которых погибло десятилетиями подготовлявшееся освобождение России.
Противопоставлять «Февраль» «Октябрю», как два периода революции, как всенародную революцию – партийно–заговорческому срыву ее, как это все еще делают апологеты русского жирондизма, конечно, нельзя. «Октябрь» родился не после «Февраля», а вместе с ним, может быть, даже и раньше его; Ленину потому только и удалось победить Керенского, что в русской революции порыв к свободе с самого начала таил в себе и волю к разрушению. Чья вина перед Россией тяжелее – наша ли, людей «Февраля», или большевистская – вопрос сложный. Во всяком случае, нам надо помнить, что за победу зла в мире в первую очередь отвечают не его слепые исполнители, а духовно зрячие служители добра.
Боюсь поэтому, что будущему историку, будет легче простить большевикам, с такою энергиею защищавшим свою пролетарскую родину от немцев, их кровавые преступления перед Россией, чем оправдать Временное правительство, ответственное за срыв революции в большевизм, а тем самым в значительной степени и за Версаль, Гитлера и за Вторую мировую войну. В своих «Воспоминаниях» Керенский сам говорит, что останься Временное правительство у власти, оно не допустило бы Версаля.
Я никогда не был революционером, больше того: во мне никогда не угасал как инстинктивный, так и сознательный протест против тех левых демократов, марксистов и социалистов–революционеров, среди которых протекала моя гейдельбергская жизнь. Несмотря на такое отношение к революции, я принял весть о ней радостно, в чувстве, что над мрачным унынием изнутри разлагающейся войны внезапно воссиял свет какого–то ниспосылаемого России исхода. В безвыходные минуты мы всегда склонны принимать новое за светлое.
В таком, неожиданно для себя самого, светлом чувстве смотрел я на своих солдат, быстро выстраивавшихся на косогоре, с которого в лучах яркого полуденного солнца уже сбегали быстрые весенние ручьи.
Сказав «паркачам» по просьбе больного и неуверенного в себе командира несколько слов о мудром и великодушном отречении государя–императора и о переходе власти к Временному правительству, которое бесспорно сделает все, от него зависящее, чтобы в возможно короткий срок с честью окончить войну, я распустил своих сибиряков с просьбой строже, чем раньше, соблюдать дисциплину, и с угрозой строже, чем раньше, взыскивать за нарушение ее, так как известно, «кому много дано, с того много и взыщется».
Слушали меня очень внимательно, отнеслись к сказанному с полным доверием и после команды «разойдись», весело, с какою–то, как мне показалось, новою свободою в движениях и голосе, шумно посыпались под гору в деревню. Вечером во всех халупах, как докладывал фельдфебель, только и было разговору, что вернемся домой и, наконец–то, заживем на своей земле полными хозяевами своей новой и вольной жизни.
Об этой будущей жизни я и сам в первые дни после переворота много говорил с солдатами и из этих разговоров вынес твердое убеждение, что жажда «замирения», с неудержимою силою вспыхнувшая в солдатских душах, была не трусостью и шкурничеством, но прежде всего всенародно–творческим порывом к свободе, в смысле оправдания добра в мире. Найдись у революции вожди, которые, во время расслышав этот порыв, сумели бы его политически оформить, все было бы спасено: и правда революции, и честь России.
Несмотря на мое, как стали выражаться впоследствии, «приятие революции», я не испытывал ни малейшего желания принять в ней деятельное участие. Не доложи мне как–то ранним утром мой денщик Се–меша, что за мной прибежали два стрелка, у которых в полку неладно, я, быть может, так до конца и остался бы в стороне от революционных событий.
Введенные бледным от волнения Семеном стрелки, солидные, бородатые мужики в подоткнутых шинелях, потные и растрепанные от быстрой ходьбы, перебивая друг друга, доложили мне, что их полк собирается самовольно уходить из окопов и грозит повесить командира, если он на то не даст своего «приказу». Их ротный (хорошо знакомый мне поручик из прапорщиков) просит меня немедленно приехать и поговорить с бунтовщиками, которые чужого, быть может, скорее послушают, чем своего.
Велев седлать, я зарядил на всякий случай револьвер и вышел в ожидании лошади на крыльцо.
Перед тлазами стояли взбунтовавшиеся роты. Сердце билось, в груди разгоралась непреклонная воля к подавлению бунта. В голове быстро складывались первые фразы обращения к мятежникам…
Переговорив в штабе полка с растерянным командиром, я двинулся к тыловым окопам, где уже с утра кипел митинг.
Встретили меня «заговорщики» безо всякой вражды. Увидев их простые и скорее растерянные, чем угрожающие лица, я даже устыдился, что зарядил револьвер. С первого же взгляда было ясно, что передо мною не злонамеренные бунтовщики, а заупрямившиеся самодумы.
– В чем дело, ребята? Говори открыто.
Вместо ответа – типично мужицкое недоверчивое молчание. Я повторил свой вопрос, обращаясь на этот раз не ко всем, а к стоявшему недалеко от меня солдату с умным, серьезным лицом и весьма независимым видом.
Явно ошеломленный моим вопросом в упор, он сначала было растерялся, но через секунду собрался с духом и, встряхнув головой, заявил:
Как же так, ваше благородие, – вышла свобода. В Питере, слышно, вышел приказ о замирении, потому нам чужого добра не нужно. Замирение значит вертай домой: нас там жены и дети ждут. А его высокоблагородие говорит: «Ничего подобного: свобода – говорит – после войны будет тем, кто в живых останется. А пока надо защищать родину». Мы, ваше благородие, так понимаем, что наш полковник ослушник новой власти и самовольно над нами куражится, потому порешили исполнить новый закон и сниматься с позиции.
– Это он правильно говорит, – отозвался поблизости спокойный голос. Затем из глубины толпы послышались уже иные, взволнованные и озлобленные голоса: «К чему нам напоследок в Галиции пропадать, когда дома землю делить будут», «на кой чёрт нам еще сопку брать, когда и под сопкой замириться можно», «командиру за сопку Егория дадут, а тебя за его Егория в могилу уложат!..»
– Довольно, ребята, – громко оборвал я расходившихся мужиков, – я приехал поговорить по душам с боевыми товарищами, со славными сибиряками, а с забастовщиками и бунтарями мне говорить не приходится. Таким в армии; не место. Бунтовать против начальства вам и новая власть не позволит. Без дисциплины нет армии, а власть без армии – все равно, что человек без рук. Безрукому же, будь он хоть семи пядей во лбу, всякий, кому не лень, а не то что немец, почем зря морду набить может, поняли?
– Так точно, ваше благородие, поняли, как не понять.
– Поняли, так слушай дальше: я понимаю, что вам по простоте вашей, а может и по доброте вашей, непонятно, как это так – объявилась свобода, а вас домой не пускают. В Петрограде говорят о мире, а вам приказ и дальше подставлять лоб под неприятельские пули.
– Правильно, ваше благородие, в самую точку.
– Я знаю, что правильно, но я еще не всю правду сказал. Правда, известно, палка о двух концах. Так вот, повернем ее другим концом – а другой конец —немец, его–то вы и забыли. У немца свобода не объявлена и мира он у нас не просит. Он притаился и только того и ждет, чтобы русская армия, забыв долг и присягу, вышла из окопов и, как стадо баранов, шарахнулось бы домой. И что же вы думаете? Так он и будет смотреть вам вслед? Как бы не так! Знайте, что он так двинет вам в спину, что вы и опомниться не успеете, как все костьми ляжете. Сами знаете, нет страшнее обстрела, как обстрел в походе. Опять подумайте: немец от чужой земли не отказался, у него своей мало, ему наша нужна; а не защищенную он ее голыми руками возьмет. И вот еще что сообразите: война немцу много денег стоит, эти деньги ему надо вернуть. Кто будет расплачиваться? Никто, как вы, русские крестьяне. Завоевав нашу землю, он заставит вас задарма работать на ней, потечет русский хлеб в немецкие закрома, а вы будете ремень на голодном брюхе подтягивать, да пот со лба отирать. А потому, ребята, выкиньте дурь из головы, а дураков из роты, заткните горлодерам рты и слушайтесь начальства. Временное правительство только и думает, что о народе, зря вас в атаку не подымет и лишнего часа на позиции не продержит. Обещайте же мне слушаться вашего командира, а, если понадобится, то и сбить немца с сопки. Пахать чужую землю мы не собираемся, но на чужой земле нам надо сейчас отстоять свою землю и свою свободу, иначе мы пропадем. Обещайте же мне, сибиряки, что отстоите.
– Отстоим! – раздались со всех сторон радостные и уверенные голоса, «обещаем» подтверждали просветлевшие лица.
– Благодарю, стрелки, вашему слову верю.
Я с подчеркнутою, непринятою на фронте между офицерами, отчетливостью откозырял ротному, старшему производством кадровому поручику, который, подняв на меня грустный, но благодарный взор, крепко пожал мне руку, и в очень сложных и смутных чувствах поехал обратно.
Что в том, думалось мне, что мне удалось уговорить первую роту и что пока еще не надо уговаривать вторую. Завтра не уговоришь третью, или четвертую, зараза мигом облетит весь полк и он, вопреки разуму и совести лучших солдат, хлынет в тыл. Разве можно воевать на уговорах? Конечно, нельзя. Но что же делать, когда воевать без уговоров еще менее возможно?
Будь это иначе, начальник штаба корпуса, преданный династии гвардейский генерал Гольмс, вряд ли бы уже на следующий день после моего самовольного выступления во вверенной ему части, вызвал меня к себе и тепло благодарил за оказанную помощь. Очевидно, он, как умный человек, сразу понял, что для того, чтобы продолжать хоть как–нибудь свое дело, ему в новых революционных условиях нужны слова, которых у него самого нет и быть не может.
Так началась моя политическая деятельность.
Весть о том, что к нам на фронт едут думские депутаты, была встречена офицерством с большою радостью. Уже целую неделю, если не больше, мы жили как впотьмах. Выпущенный Петербургским советом рабочих и солдатских депутатов уже на четвертый день революции знаменитый приказ № 1 внес во фронтовую жизнь, несмотря на то, что он был дан только петроградскому гарнизону и к действующей армии никакого отношения не имел, невероятную путаницу: возбудил в солдатах совершенно несбыточные надежды и вызвал вполне справедливое возмущение в офицерской среде. Стояло ли за этим приказом, подписанным никому неизвестными именами, Временное правительство, или нет, оставалось неизвестным.
От живых свидетелей, переворота мы надеялись узнать, каков подлинный курс нового военного министерства, чему надо мирволить и чему надо твердо сопротивляться.
Ко дню приезда депутатов фронт уже внешне являл картину широкого разлива революционной стихии. От штабов к позициям и обратно носились красноофлаженные автомобили и красногривые тройки. Всюду веяли красные знамена и возвышались обтянутые кумачом ораторские трибуны. Повсеместно гремели оркестры и взвивались краснобайные речи. Неумолчно гудел митинговый трезвон: «за землю и волю», «без аннексий и контрибуций», «за самоопределение народов»… Все было призрачно и двусмысленно: не то Пасха, не то революция.
Депутаты оказались на вид совсем не революционерами. Петербургский приват–доцент Тройский, с живым, несколько брезгливым лицом, еще мог сойти за лево–либерального интеллигента, Демидов же, Игорь Платонович, печальноокий смуглый человек с пленительною, белозубою улыбкой в небольшой бороде – был типичнейшим барином–помещиком.
Удобно усевшись в глубокой коляске, запряженной тройкою крупных артиллерийских лошадей, мы не спеша двинулись к Шумлянам. Депутаты оживленно рассказывали о петроградских событиях и подробно расспрашивали меня о состоянии фронта.
Растрогало ли меня с детства знакомое вздрагивание и покачивание коляски на податливых рессорах и меланхолическое позвякивание глухарей, совлек ли вид штатских костюмов военную форму с моей души, всколыхнул ли изящно–деревенский облик Игоря Платоновича отроческие воспоминания о старых усадьбах с их цветущими липами, прадедовскими библиотеками и либеральными разговорами за чайным столом, – не знаю. Одно только знаю, что, сопровождая на батарею, в качестве фронтового представителя революции, едущих к нам думцев, я испытывал такой прилив скорбной любви к низвергаемой всеми нами России, что с отвращением смотрел на всюду развевающиеся красные флаги.
Хотя на третьей батарее, как, впрочем, и во всей бригаде, господствовал весьма либеральный дух, наши кадровые офицеры ждали встречи с думскими депутатами не без волнения: одно дело в своей среде будировать против начальства и высшей власти, другое – официально приветствовать революционеров.
Достаточно было однако Демидову и Тройскому обменяться с собравшимися офицерами рукопожатиями и первыми случайными фразами, как сразу же исчезла и тень отчужденности.
– Свои люди, – радостно шепнул мне Иван Владимирович и тут же приказал денщику подать к ужину последнюю бутылку коньяку.
Отдохнув и поужинав, депутаты приступили к своим докладам. Они прекрасно дополняли друг друга. Тройский говорил обстоятельно, с цифрами и фактами, Демидов гораздо живописнее и глубже. В их охрипших, перетруженных, все еще не могущих успокоиться голосах, мы впервые услышали радостный и устрашающий гул петербургских событий, судьбоносных в своей неожиданности и неотвратимых в своей последовательности.
После официальных докладов начались вопросы и ответы. Полилась оживленная, непринужденная беседа, длившаяся до полуночи. Выяснив себе настроение фронта, депутаты решили на следующий день обойти окопы и провести несколько митингов в ближайшем тылу. Я отправился с ними.
Встречали нас всюду с бурною радостью. Петербургский вопрос борьбы между Временным правительством и Советом рабочих и солдатских депутатов еще не волновал фронта. Отношения между солдатами и офицерами были еще сносны. В артиллерии все обстояло по–старому, если не считать того, что офицеры требовали от денщиков, чтобы они не называли их «благородиями», а те упирались, говоря, что без «благородий» неудобно. В пехоте недоразумений было много, но все они носили скорее местный, чем общепринципиальный характер. Борьба велась не против начальства, а против отдельных, давно уже ненавистных начальников. Единственное, с чем депутатам пришлось сразу же начать борьбу – это была стихийная солдатская тяга к немедленному замирению.








