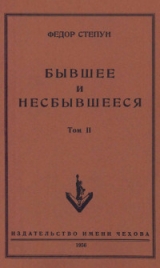
Текст книги "Бывшее и несбывшееся"
Автор книги: Федор Степун
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 46 страниц)
Глава IV ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА С ЕВРОПОЙ Гейдельбергский университет. Прусские поместья.
За время отбывания воинской повинности я пришел к заключению, что и сцена и живопись для меня не самое главное, необходимо идти в университет, чтобы понять… Что?.. На вопрос матери у меня был только один ответ: «Все: мир и его законы, жизнь и ее смысл».
«Проклятыми вопросами» я начал мучиться уже в школе. В Коломне муки мои еще усилились. Узел их был в том, что я, как оно и полагается, с 17–ти лет был страстно влюблен; теоретически же не менее страстно увлечен аскетической проповедью Толстого. Из столкновения влюбленности и толстовства в душе и уме подымалась страшная путаница. С задыхающимся сердцем несся я, бывало, в воскресный отпуск в Малаховку. Вихрем влетев в переднюю и наскоро поздоровавшись с родителями, я быстро вбегал в светелку нашей дачи, которая освещалась все теми же итальянскими глазами; сердечно пожав руку Людмилы, я тут же – в который раз – начинал все тот же нескончаемый разговор о любви в духе послесловия к «Крейцеровой сонате». Маята эта длилась и субботу и все воскресенье до позднего вечера: последний поезд в Коломну уходил в час ночи.
Со щемящею тоскою по чему–то, снова не осуществившемуся, лежал я с открытыми глазами на верхней лавке тускло освещенного стеариновою свечею грязноватого вагона третьего класса и с отчаянием думал над незадачей своей жизни… Да, верно, – говорил я себе: – любовь свята, а страсть грешна; этому учит не монах, не отшельник, а Толстой, которого Мережковский называет «тайновидцем плоти», но как же тогда жить. Правда, другой певец плоти, Ницше, защищает даже и сладострастие, но до чего же зато и груба его любовь, до чего непонятно его наставление не забывать плетки, когда идешь к женщине. Вместе с именами Толстого и Достоевского, Ницше и Мережковского, под стук и перетряс вагона, в сознании вертелось еще одно, уже давно всеми забытое имя. Мы с Людмилой только что прочли роман Шарапова «Кружным путем». Если не ошибаюсь, в этом романе, произведшем на нас очень большое впечатление, грешный соблазн эротической мечтательности противопоставляется таинству брака, благодатная сила которого и возвращает заблудшую женщину сложными кружными путями к ее законному мужу. Не одно воскресенье проговорили мы с Людмилой о том, как же брак может быть таинством, когда плотская страсть есть грех… А ведь и Шарапов и Толстой – христиане. Правда, один – узкий церковник, другой – верующий враг церкви; как же в сущности относится христианство к церкви? Так наши личные чувства неожиданно приводили нас к постановке последних нравственных и даже богословских вопросов. Думая над ответами, мы лишь глубже запутывались в наших вопросах. В отчаянии я решительно заявлял: «Нет, надо учиться – без философии жизни не осилишь». Но – как?., где? Аттестат реального училища не давал права поступления на философский факультет, а на дополнительную сдачу экзаменов по древним языкам при округе я, несмотря на доводы собственного же разума, никак не мог решиться. Во мне все рвалось в высь, в даль, в жизнь, а тут сиди и корпи над словарями и грамматиками…
Помощь пришла с совершенно неожиданной стороны. Впервые побывавшая заграницей мать вернулась в восторге от Европы и решила, что философию правильнее всего изучать в Германии.
Посоветовавшись с доцентом московского университета Борисом Петровичем Вышеславцевым, я остановил свой выбор на Гейдельберге и, недолго думая, решил запросить ректора, не могу ли я в порядке исключения быть немедленно же принятым на философский факультет с аттестатом реального училища. Очевидно, моя твердая уверенность в своем праве на изучение философии произвела на чье–то чуткое ухо должное впечатление. Секретариат ответил согласием исполнить мою просьбу с условием, что я перед докторским экзаменом представлю дополнительное свидетельство о сдаче экзамена по латыни. Я был счастлив. В том, что я за четыре года университета с легкостью выучу латынь и, если понадобится, то и греческий, у меня не было никаких сомнений.
Хоть я и рад отъезду, сердце все же разрывается при мысли о разлуке с Людмилой. Нам надо непременно еще раз обо всем «по–настоящему поговорить». Но как это сделать? Она живет уже не у нас, а в своей семье. Мачеха всегда дома; главное же – ее стережет душевно больной и зло ревнующий ее ко мне брат. Несмотря на все трудности, дело все же устраивается. Мы прощаемся, т. е. выясняем, в связи с выяснением наших отношений, все мировые вопросы в запущенном саду на Кудринской–Садовой. Через покосившийся, полуразваленный сметенною с дорожек прелою листвою забор нам из беседки видны высокие, уже обнаженные деревья большого сада «Вдовьего дома». Над пресненски–грузинскими низинами в печально–свинцовой мгле тускло догорают красные полосы заката. «Ну, до свиданья, до весны!» Я целую Людмиле руку, она смущенно наклоняется над моим лбом. Это наш первый поцелуй…
В этом почтительном, хотя и горячем поцелуе на утренней заре моей жизни было что–то общее с тем поцелуем, которым в «Менуэте» Мопассана в осеннем парке на закате своих дней нежно обмениваются старичок в парике и его жеманная подруга с мушкой на щеке. Не думаю, чтобы мы с Людмилой представляли собою исключение. В наше время юношеская любовь была еще тиха и целомудренна.
Варшава. Быстро выйдя из вагона и сдав ручной багаж на хранение, я весело вскочил в первую приглянувшуюся мне пролетку. Моя просьба показать мне главные достопримечательности города (не остановиться в Варшаве я не мог: Людмила носила польскую фамилию, ее отец часто играл Шопена и я только что прочел «Без догмата» Сенкевича), а затем отвезти в хорошее кафе с музыкой – мне еще в Москве рассказывали, что Варшава богата совершенно иными кафе, чем Филиппов, или даже Сиу – весьма обрадовала сидевшего на козлах парня, сразу смекнувшего, что с легкомысленного безусого пана можно будет сорвать хорошую цену.
От первого знакомства с Варшавой в памяти осталось немного: скорее некая музыкальная тема, чем зрительный образ, связанный с ее достопримечательностями. Передать музыку словами почти невозможно. Поразило меня то, что вместе с тревожным ощущением прельстительно–любовной темы польской столицы в душе поднялась с неиспытанною до тех пор силою и боль первой разлуки с Людмилой.
Что осталось в глазах? Почти ничего: всего только туманы и бесконечные уличные фонари; даже смягченные уже на европейский лад красными и желтыми абажурами ресторанные лампы вспоминаются горящими не в ресторанном зале, которого перед глазами нет, а в сизо–мглистых сумерках печально вечереющего Лазенковского парка. Эту печаль – единую в небе, в блоковских стихах и в моей смятенной душе рвут в клочья никогда раньше не слышанные венгерские скрипки.
«Маршалковская» моего первого вечера в Европе (Варшава показалась мне Европой) до сих пор вспоминается самою светлою, оживленною и влекущею из всех улиц мира, что довелось впоследствии видеть, не исключая и ослепительных Елисейских Полей во время последней всемирной выставки 1937 года.
Поздно заснув в душном вагоне, я проснулся от кондукторского фонаря: «Через полчаса граница». Быстро нацепив воротник и кое–как завязав галстук, я поспешил в коридор, где уже царило то радостно–приподнятое и все же беспокойное настроение, которое в дни моей молодости во всех людях вызывало магическое слово «граница,». Вот и Торн. Долгожданная «заграница», вернее Европа, неожиданно просто и прозаично входит в образе сосредоточенно–деловитых и самоуверенно–отчетливых немецких чиновников. После быстрого и непридирчивого осмотра багажа, я независимо гуляю по чужой земле, по ярко освещенным, тщательно выметенным платформам Торна, среди размеченных соответственными надписями станционных зданий. Пути от Торна до Берлина, если не считать с трудом пересиливающей густой утренний туман – белой по черному фону – надписи: Schneidemuhl, не помню. Осталось только общее впечатление не русской разделанности земли, геометрической расчлененности пейзажа и заботливой устроенности жилья, станций, деревень, городов. Навсегда запечатлелся в мозгу лишь въезд в массивный, шумный, по всем направлениям перечерченный освещенными улицами, чернильно–лиловыи под дождем Берлин, к центральному вокзалу которого поезд долго несся многоэтажными облезлыми задворками, мимо многолюдно–унылых платформ с красно–желтыми циферблатами.
Получив от полицейского номерок, носильщик, не говоря худого слова, повел меня (никакого московского ряда и крика) к предназначенному мне судьбою вознице, – извозчиком его не назовешь. На высоких козлах допотопно–громоздкой кареты, запряженной куцой клячей под черной кожаной попоной, восседал, посасывая сигару, багровый сивоусый старик в помятом цилиндре и потертой ливрее с обшитым желтою тесьмою, вместо галуна, воротником.
Еле удостоив меня поклоном, старик медленно растормозил неизвестно для какой надобности заторможенную карету и, стегнув длинным английским кнутом свою перетруженную лошаденку, топотно затрусил по мокрому асфальту к рекомендованному мне отелю на Доротеенштрассе.
Музеи и памятники, которые я осматривал целый день, как–то не произвели на меня большого впечатления. Было, вероятно, около девяти вечера, когда, умывшись и принарядившись, я вполне самостоятельным джентельменом с непривычным ощущением довольно больших денег в кармане, вышел из отеля с намерением пройтись по знаменитой Фридрихштрассе и посидеть в отмеченном у Бедэкера звездочкой кафе «Бауер». Казалось бы, чего лучше. Иди, смотри, слушай, наслаждайся, мечтай – вся жизнь у тебя впереди. Вышло, однако, все совершенно иначе, чем ожидалось. На залитой витринными огнями многолюдной Фридрихштрассе, в тисках видимо усталой, куда–то спешащей и все же останавливающейся чуть ли не у каждого окна толпы, мне сразу стало как–то не по себе. От уныло–назойливых проституток, от презрительно–величественных портье у занавешанных входов в рестораны и варьете исходил какой–то нудный, бесстыжий ток. Что–то бесконечно жалкое чувствовалось в старых газетчиках, настойчиво выкрикивавших сенсационные заголовки ночных изданий и в опрятных старушках с никому не нужными, но все же почему–то покупаемыми букетиками мелких роз. Со щемящею тоскою в душе добрался я до своего кафе, посидел в нем с час и, с неизвестным мне до тех пор чувством покинутости и одиночества, вернулся в гостиницу.
После страшного ночного Берлина приветливый, утренний Гейдельберг показался мне прелестною, сказочною идиллией.
Веселый носильщик сразу же правильно оценивший мои финансы, быстро понес мои чемоданы в находившийся в двух шагах от вокзала «Баварский двор». Портье так же быстро и так же ни о чем не расспрашивая, назначил мне номер в третьем этаже, в который тут же меня и повел расторопный коридорный в желтой жилетке и зеленом фартуке.
Распахнув окно небольшой, но вполне благоустроенной комнаты, я, как на ладони, увидел перед собою весь Гейдельберг. Направо от меня возвышались подернутые легким туманом Оденвальдские горы. Среди них живописно гнездился знаменитый Гейдельбергский замок со своею древнею круглою башнею. Налево быстро нес свои глинистые воды широкий от долгих дождей Неккар, перехваченный старинным, горбатым мостом. По параллельной Неккару главной улице неторопливо катился маленький открытый трамвайчик. Через новый мост у вокзала пыхтел совершенно игрушечный паровозик с двумя такими же игрушечными вагончиками. Среди красных черепичных крыш тесного города возносилась в перламутровое небо готическая башня собора.
Конечно, я знал старую Москву, знал и историческое Подмосковье: Троицкую лавру, Марфино, село Коломенское; много раз бывали мы с братом в Останкине, дворец и парк которого остались в памяти занесенными глубокими снегами, бывали и в Кускове и в Косине, со святым озером, на дне которого, по преданию, звонят колокола, и тем не менее я только у открытого окна гейдельбергской гостиницы впервые ощутил мир не как текущую сквозь меня жизнь, а как стоящую передо мною историю.
Вероятно, правильно, что все дальнее и чужое объективируется гораздо легче, чем свое близкое.
Напившись кофе за маленьким столом, покрытым пестрою скатертью, у которого прислуживал не «человек», а скорее хорошенькая гимназистка, правда не в коричневом, а в черном платье, я полетел в университет. По пути то и дело попадались группы студентов–корпорантов в разноцветных «головных уборах» с обязательными шрамами на лицах. Немецкая потребность в форме сказывалась в одинаковых у членов одной и той же корпорации костюмах и палках. Через эти палки то и дело прыгали собаки – модные в то время бульдоги.
Гейдельбергский университет, основанный в 1386–м году, вслед за Пражским и Венским, поразил меня темноватой теснотой своего входа, узостью главной лестницы, маленькими аудиториями, неудобными скамейками и до гробовой доски верными своей «alma mater» (т. е. университету) старыми служителями, – одним словом всем своим монастырским, идиллически–аскетическим духом.
Покончив в канцелярии, я побежал искать комнату: хотелось устроиться поближе к университету и, главное, подешевле, чтобы сразу же начать собирать библиотеку. В комнатах недостатка не было: в 1902–м году «старый Гейдельберг» был сплошным студенческим отелем.
В гору к замку вела полузагородная улица, вдоль тротуара которой сбегал шумливый ручей. На этой улице, с поэтическим названием Звенящего пруда, я и поселился во втором этаже простенького, почти крестьянского домика, носившего совсем уже сказочное название «Спящая красавица». Снятая мною за 13 марок, т. е. за 6 руб. 50 к. комната (эта цена включала утренний кофе, освещение и уборку) была, правда, очень мала, в одно окно, но в ней было все необходимое, за исключением книжной полки, которую я попросил немедленно же заказать и повесить над диваном, что очень поразило фрау Грамлих, маленькую, скрюченную, почти безволосую старушку. Свое горькое имя (грам – значит скорбь) моя первая гейдельбергская хозяйка носила не случайно: долгими зимними вечерами, угощая меня разогретым кофе и серым хлебом с брусничным вареньем, она подробно рассказывала о своей трудовой, вдовьей жизни – одна вырастила двух сыновей и трех дочерей – причем ее выцветшие глаза с непередаваемою трогательностью смотрели на меня поверх обмотанных у висков шерстинками железных очков, а вокруг беззубого рта на впалых щеках играла прелестная детская улыбка.
Устроившись в «Спящей красавице», я на следующий же день в новом, купленном уже в Гейдельберге костюме и мягкой шляпе, отправился к декану философского факультета посоветоваться, что и кого мне слушать, чтобы в три года успеть сдать докторский экзамен. Знаменитый Генрих Тоде, женатый на падчерице Вагнера и внучке Листа, встретил меня в своем роскошном кабинете более чем любезно. Защитник «национальности и почвенности», в искусстве больше всего ценил свою международную известность и был потому особенно любезен с иностранцами.
По своей внешности, маиерам и, главное, по стилю своего очарования Тоде показался мне, привыкшему представлять себе профессора скромно одетым, бородатым интеллигентом, человеком совсем не профессорской среды. В Москве этого элегантного, всегда изысканно одетого человека с бритым, мягко освещенным грустными глазами лицом, каждый принял бы скорее за актера, чем за ученого. Особенно живописно выглядел Тоде в берете и таларе на торжественных университетских актах.
Кроме специальных курсов по истории искусств, он ежегодно читал в переполненном актовом зале цикл общедоступных лекций, на которые, как на концерты Никита, собирался не только весь город, но приезжали даже слушатели из соседних городов.
Прекрасные бледные руки лектора часто молитвенно складывались, ладонь к ладони. Длинные пальцы касались губ. Как все романтики, Тоде много и хорошо говорил о несказуемом и несказанном, о тайне молчания. По окончании лекции аудитория благодарила любимого лектора бурным топотом сотен ног.
Поговорив со мною о России и узнав, что на каникулы я собираюсь уезжать в Москву и потому не буду иметь времени для путешествий по Италии и другим европейским странам, Тоде, к величайшему моему огорчению, посоветовал оставить всякую мысль о серьезном изучении истории искусств.
Делать было нечего. Утешившись мыслью, что я главным образом приехал в Гейдельберг ради философии, я в ближайший приемный день отправился к профессору Виндельбанду (Куно Фишер, из–за которого я остановил свой выбор на Гейдельберге, был болен и не читал). Виндельбанд жил совершенно иначе, чем Тоде. Вместо лакея – скромная горничная. В квартире никаких далей: ни далей всемирного искусства, ни далей мировой славы. В весьма буржуазной столовой, служившей и приемной, ждало уже несколько студентов в сюртуках. Горничная, как у врача, вызывала в кабинет профессора одного студента за другим.
Не без трепета вошел я в доверху заставленный книгами и украшенный повешенными под самым потолком – рамка к рамке – гравированными портретами великих философов, кабинет. С кресла у письменного стола навстречу мне слегка приподнялся грузный человек с очень большим животом и маленькою головкою на широких плечах; вместо шеи – красная складка над очень низким воротником. Таким я себе философа уж никак не представлял. Мое недоразумение длилось, однако, недолго. Сев в указанное мне бархатное кресло и взглянув в глаза ученого, я сразу же почувствовал, что этот «пивовар», как я сразу же окрестил его, – пивовар совершенно особенный. Передо мною сидел живой Сократ, каким Виндельбанд его описал в своих, только что прочтенных мною «Прелюдиях»: та же «втянутость головы в пухлые плечи», та же «внушительность висячего живота», та же характерная для грузных людей легкость движений. Сходство с Сократом почувствовалось, мне и в невероятно живых, умных, остро–проницательных, но отнюдь не созерцательных глазах и в настороженном выражении лица, точно ждущего ответа на «иронически» поставленный вопрос.
Я слушал Виндельбанда в продолжение пяти лет и за это время так вжился в его философский пафос, так изучил его манеру чтения, привычку шарить правой рукой по животу в поисках висевшего на длинной тесемке пенснэ, вскидывать пенею на нос, разглаживать двумя пальцами левой руки лежавшую перед ним записную книжку и, бледнея с дрожью в голосе, произносить излюбленную им фразу: «Dies ist nun einmal das Schickal aller Wahrheiten, dass sie als Paradoxa zur Welt kommen, um sie als Trivialitaten alsbald zu verlassen>[5]5
Такова уж судьба всех истин: они приходят в мир как парадоксы и покидают его как тривиальности.
[Закрыть]), что должен был по нескольку раз в семестр представлять товарищам нашего учителя. Виндельбанд знал о моем искусстве: однажды он застал меня на кафедре и от души зааплодировал, когда я кончил (не лишен был юмора). Хотя Виндельбанд безусловно по–своему любил меня, между нами все же не сложилось по–настоящему близких отиошений. Думается потому, что Виндельбанд был типичным немецким профессором своей эпохи, т. е. преподавателем научной дисциплины, и только. Я же приехал в Европу разгадывать загадки мира и жизни. За время моего пребывания в университете эта разница наших духоустремлений дважды дала о себе знать.
В семинаре Виндельбанда шла оживленная дискуссия о свободе воли. Виндельбанд разъяснял свою, в основе кантовскую точку зрения, согласно которой признание за человеком свободной воли с научной точки зрения невозможно, а с нравственной – необходимо. Вполне понимая эту методологическую мысль, я все же настойчиво допрашивал Виндельбанда, какая же точка зрения, научная, или этическая, соответствует высшей истине. С непринятою в университете горячностью, я доказывал маститому философу, что его методологическое разрешение проблемы было бы допустимо лишь в том случае, если бы у каждого преступника было две головы: одна для снесения с плеч, как то требуется с нравственной точки зрения, согласно которой человек отвечает за свои поступки, а другая для оставления ее на плечах ввиду господства над душою человека закона причинности, не признающего различия между добром и злом. Это мое, показавшееся товарищам весьма парадоксальным, соображение Виндельбанд спокойно и снисходительно парировал выяснением третьего методологического ряда. Вопрос о наказании разрешался им и не в научно–причинном, и не в этически–нормативном плане, а в плане целесообразности. Наказание преступника он оправдывал необходимостью охранения общества и государства от «асоциальных элементов». В связи с такой постановкой вопроса Виндельбанд допускал максимальное ослабление наказания в благополучные времена и требовал резкого его усиления в эпохи войн и революций. Этот «цинизм» до глубины души возмутил меня, но опровергнуть методологию своего учителя мне было еще не под силу. Когда спор с таким искусным диалектиком и опытным педагогом, каким был Виндельбанд, окончательно загнал меня в тупик, я, набравшись храбрости, в упор спросил его: как, по его мнению, думает сам Господь Бог; будучи высшим единством мира, Он ведь никак не может иметь трех разных ответов на один и тот же вопрос. Мой задор, как помнится, заинтересовал и обрадовал Виндельбанда, но его ответ искренне огорчил меня. Ласково улыбнувшись мне своею умно–проницательною улыбкою, он ответил, что на мой вопрос у него, конечно, есть свой ответ, но это уже его «частная метафизика» (Privatmetaphysik), его личная вера, не могущая быть предметом семинарских занятий. Я почувствовал, что меня со всех сторон окружает проволочное заграждение колючих методологий и что прорыв в сферу нужных мне ответов невозможен.
Перед самым докторским экзаменом в моей жизни случилось несчастье, которое казалось должно было бы по человечеству сблизить Виндельбанда и меня. От моих друзей, у которых в то время гостила моя жена, на его имя пришла телеграмма с извещением о ее трагической гибели. Друзья просили подготовить меня к этому страшному удару.
Попав, вероятно, в первый раз в жизни в такое неестественно трудное положение, Виндельбанд немедленно же написал мне очень прочувствованное, душевное письмо и лично снес его моей хозяйке; предупредив ее о содержании письма, он попросил, чтобы она по возможности осторожно передала его мне. Большего сделать он не мог и я до сих пор храню благодарную память об этом человеческом порыве его души сквозь его величественную «персону». Понятно, что, вернувшись после похорон в Гейдельберг. я вошел в кабинет своего учителя в предчувствий дружеской встречи с тем новым Виндельбандом, который приоткрылся мне в его письме. Мои ожидания не сбылись: из–за письменного стола привычно приподнялся давно знакомый мне действительный тайный советник, профессор Виндельбанд, сквозь маститую персону которого уже не светилась открывшаяся мне в его письме душа.
Конечно, Виндельбанд сказал несколько полагающихся соболезнующих слов и крепче обыкновенного пожал мне руку, но все это не выходило из рамок привычных, почти светских навыков жизни. Ни одного более или менее интимного вопроса о том, как все случилось, Виндельбанд себе не позволил, словно не считая себя вправе прикоснуться к чужому горю.
То, что тридцать лет тому назад ранило меня в поведении Виндельбанда, впоследствии перестало меня удивлять. Шаблонные русские рассуждения о том, что все мы гораздо искреннее, душевнее и глубже европейцев, и в частности немцев, естественны и понятны у эмигрантов, но явно не верны. Верно лишь то, что русская интеллигентская культура сознательно строилась на принципе внесения идеи и души во все сферы общественной и профессиональной жизни, в то время как более старая и опытная европейская цивилизация давно уже привыкла довольствоваться в своем житейском обиходе простою деловитостью. Остроумнейшая социология Зиммеля представляет собою интересное оправдание этой европейской практики. По мнению Зиммеля, вся уравновешенность и уверенность человеческого общежития покоится на том, что мы не слишком заглядываем друг другу в душу. Знай мы всегда точно, что происходит в душе нашего шофера, пользующего нас доктора и проповедующего священнослужителя, мы иной раз, быть может, и не решились бы сесть в автомобиль, пригласить доктора или пойти в церковь. Не ясно ли, что в этом нежелании знать душу обслуживающих нас профессионалов уже таится требование, чтобы она не слишком вмешивалась в общественно–государственную жизнь.
Может быть, это требование и не так бессмысленно, как оно кажется на первый взгляд. Уже в университете Вересаев с особою душевною чуткостью относился к гуманному призванию медика, в результате чего из него вышел не очень хороший врач, а довольно посредственный писатель. Немецкая профессиональная культура целиком покоится на труде, знании и жажде постоянного совершенствования. Души, в русском смысле, в ней немного, но успех ее очевиден. Весьма различные стили русской и европейской культур сказались, конечно, и в различии обеих революций. Но не будем заглядывать вперед. Пока я только еще сижу на первом приеме у Виндельбанда. Играя золотым пенсне и то и дело расправляя свою бороду маленькою белою рукою, он очень внимательно расспрашивает меня о том, что я уже читал по философии, составляет мне расписание лекций и рекомендует пособия и книги.
Я ухожу от него в восторге, в радостном предвкушении предстоящей большой и интересной работы. Спешу, не теряя времени, в университетский книжный магазин Винтера, забираю у очкастого господина Фауста книги Виндельбанда, «Всеобщую теорию государственного права» Еллинека, целый ряд дешевых изданий классиков и почти бегом тащу свои сокровища домой, перегоняя блещущие лаком широкие ландо, в которых по «Звенящему пруду» медленно подымаются к "Schloss Hotel" краснолицые англичане–туристы.
Поставив принесенные книги на новую полку, я снова лечу в город обедать. На Главной улице чуть ли не в каждом третьем доме рестораны. Можно завернуть и к «Рыцарю» и к «Золотому петуху» и к «Шуту Перкео» и к «Золотому ангелу»… Выбираю «Золотого ангела», не по пристрастию к пище небесной, а по экономическим соображениям. «Золотой ангел» предлагает обед из трех блюд всего только за шестьдесят пфеннигов. Избалованный домашним столом и Голутвинским буфетом, я ем безо всякого удовольствия; от безвкусного супа пахнет химией, твердоватое мясо плавает в какой–то мучной гуще, сухой бисквит с одной малининой в центре и чашка жидкого кофе совершенно безрадостны. Все же я мужественно беру абонемент на десять обедов. Кроме книг, соблазняют еще симфонические городские концерты и экзотические галстуки в окне у Кохенбургера.
После обеда отправляюсь в горы, но не в замок, а на Philosophenweg. Знаменитою тропою, спускающейся с гор за старинным, давно секуляризированным монастырем, в котором некогда жил родственник Гёте, историк Шлецер, я иду не без волнения: как никак по ней, вероятно, часто ходили, обдумывая свои лекции, Гегель, ходил, конечно, и Гёте, память о пребывании которого в Гейдельберге хранят начертанные на обрамленной плющом каменной доске строки Марианны фон–Виллемер – поздней, но пламенной любви поэта.
Вечером я долго сижу над историей философии Виндельбанда. За окном шумит ручей, перед глазами проносятся картины всего виденного за последние дни. Со стола смотрят большие глаза московской гимназистки в форменном платье. В сердце звучат напевы Шопена, летящие из–под быстрых пальцев ее отца. Душа рвется в Москву… Как трудно читать, не заглушая биением собственного сердца плавного повествования Виндельбанда о развитии философской мысли…
Утро вечера мудренее: сажусь за письмо в Москву. В полночь несу его на вокзал. Улицы пустынны, лишь изредка попадаются с хохотом и свистом расходящиеся по домам из кафе и ресторанов корпоранты. Захожу в буфет третьего класса купить марку. Несмотря на поздний час, в нем еще не угасла жизнь. В клубах сигарного дыма задорно препираются в карты солидные гейдельбергские бюргеры. И тут шум и веселье, удары кулаком по зеленому сукну и добродушное колыхание почтенных животиков. Милый и добродушный, но совсем непонятный народ. И над чем это они столько смеются?
Возвращаюсь домой, решаю с завтрашнего дня начать заниматься по–настоящему и немедленно ложусь спать. Страшно подумать, как быстро бежит время – уже пять дней, как я в Гейдельберге…
Свое решение по–настоящему работать я осуществил, но на свой собственный лад. Немецкие приятели говорили мне, что если я буду слишком разбрасываться, то не только не сдам раньше десяти лет докторского экзамена, но и вообще проиграю всю свою жизнь. Я этому не верил, утверждая уже тогда, что жить надо так же, как играть в шахматы: обязательно всеми фигурами сразу. Кроме экзаменационных предметов, т. е. философии, государственного права и немецкой литературы, я в продолжение всех семестров слушал историю, политическую экономию, историю древних религий, богословие и даже психиатрию, одним словом почти все, кроме естественных наук. На тех нескольких лекциях по физике, химии и медицине, что мне довелось прослушать, я всегда ощущал разоплощение природы и убиение ее души. Непередаваемо страшное впечатление произвел на меня анатомический театр, в который я как–то зашел, чтобы о чем–то срочном переговорить с братом, который вслед за мной тоже приехал учиться в Гейдельберг. Разрезанные на части покойники («со святыми упокой»), тяжелый трупный дух, смешанный с запахом формалина и еще чего–то, и тут же рядом уютные дымки папирос и бутерброды в пергаменте на секционных столах, все это до того потрясло меня, что я окончательно укрепился в своей мысли, что лучше совсем не лечить живых, чем так позорить усопших. Брат искренне возмущался моими философскими отвлеченностями, но я упорно твердил свое: от смерти вылечить все равно никого нельзя, отсрочивать же смерть, не зная какая больному предстоит судьба, совершенно бессмысленно.
Из всех профессоров, которых я слушал, но в семинаре у которых не занимался, самым значительным был классический филолог Дитерихс.
В ярко освещенную и всегда переполненную аудиторию запыхавшись вбегал громадный, красноликий и краснорукий человек с муругою вихрастой головою. Вытирая платком пот со лба, он начинал лекцию отрывистыми неряшливыми фразами, как бы подыскивая хватающими воздух толстыми пальцами какие–то точные, не дающиеся ему слова. Минут через пять–десять он, однако, овладевал собою и его хрипловатый, задушевный голос приобретал какую–то особую убедительность. Альбрехт Дитерихс обладал редкою среди немецких ученых способностью воочию видеть то, о чем он говорил. Дионисийские трагедии Эсхила, элевзинские мистерии, культы Деметры и Коры, литургическая тема этих культов «нахождение живым того, которого считали мертвым» и связь этого языческого мира с христианством, на которое Дитерихс смотрел чужим, античным оком – все это оживало в его подчас вдохновенных лекциях с редкою силою. Под влиянием Дитерихса я засел за изучение Ницше (Рождение трагедии из духа музыки) и за книгу его значительнейшего ученика, Эрвина Роде, «Психея». Лекции Дитерихса подготовили мою позднейшую встречу с Вячеславом Ивановым, Зелинским и со всем русским символизмом.








