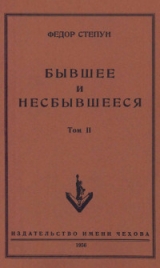
Текст книги "Бывшее и несбывшееся"
Автор книги: Федор Степун
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 46 страниц)
В окне почти пустого вагона поезда, несущегося к Симплонскому туннелю, легко, словно кулисы на колесиках, уходят вдаль тяжелые, горные массивы. Аня, боясь, как бы горы не обрушились на ее голову, лежит в купе с задернутым желтою шторкою окном. Я молча сижу у ее ног в надежде, что утомленная утренней прогулкой, она, в конце концов, забудется сном.
Вот и Милан. Простояв с четверть часа с закинутыми вверх головами перед готическим лесом беломраморного собора и пробежавшись (мы уже в Генуе) по Кампо–Санто, с его не понравившимися нам театрально–риторическими памятниками, мы незабвенно прекрасным, солнечным утром трогаемся из Ментоны в Вилль–Франш, к себе, как охотно подчеркивает Аня.
Аня в прекрасном, светлом настроении. Уже не прячется в купе, а стоит почти все время у открытого окна, в котором, маня и играя, то первозданно яркими, то приглушенно–нежными красками, летит какая–то фантастическая, древняя, как Одиссея, и одновременно современная, как всемирная выставка, страна. Прерываемые туннельными темнотами, летят заросшие белыми и лиловыми глициниями мраморные виллы, охраняющие их входы стройные, темно–зеленые кипарисы, эстрадно–театральные на мой северный взгляд пальмы, иглистые, в ржавых пятнах агавы, серебристо–лунные оливы, терракотовые полосы земли на еще античных каменных террасах и то удаляющаяся, то приближающаяся синева южного моря с медленно скользящими в ней красными и белыми парусами…
Не найдя в гостиницах и пансионах подходящих комнат, мы поселились в здании зоологической станции, служившем в средние века тюрьмою, в громадной, почти пустой комнате, без жалюзи и занавесок, с каменным полом и тяжелым ржавым кольцом в нем. Напившись утром чаю у доходящего до самого пола окна, в которое струился солоноватый морской воздух, мы сразу же расходились по своим рабочим углам: Аня в лабораторию, я – в сад, читать. Полуденный сигнал горной батареи альпийских стрелков, мелодичный и печальный, совсем иной, чем наш Клементьевский, напоминал нам об обеде. Обедали мы в маленьком отеле «Универ», небольшой русской компанией, среди которой меловою бледностью лица и фанатическим блеском черных глаз обращал на себя внимание, одетый в черную куртку полувоенного покроя поляк Мицкевич – убежденный социалист и пламенный патриот.
Мицкевич познакомил нас со своею соотечественницей и единомышленницей, женою известного в то время парижского хирурга. Мадам М. была большою поклонницею Владимира Соловьева, с которым некогда занималась французским языком. Знаменитый философ владел им хорошо, но для парижского уха не в совершенстве. То, что я писал диссертацию об этом искреннем защитнике католичества и польского народа, невольно сближало меня с польской патриоткой.
Во всем строго принципиальный, Мицкевич в Монте–Карло не ездил, мы же втроем частенько посещали знаменитое казино. Аня и мадам М. теряли за зеленым столом всякое самообладание: обеих во время вращения рулетки охватывала самая настоящая игорная лихорадка. Меня, ко всеобщему удивлению, рулетка совершенно не волновала. Я скромно играл, ставя на «руж» и «нуар», откладывая с аккуратностью местных жителей в неприкосновенный фонд половину каждого выигрыша. Мне везло: на наши небольшие с Анею деньги я выиграл себе на летний костюм и на обратную дорогу в Гейдельберг. На деньги же мадам М.выиграл ей по своей системе довольно приличную сумму, несколько тысяч франков.
Несравненно больше рулетки захватило меня само Монте–Карло, этот взращенный грехопадением райский сад, с его в то время еще головокружительной жизнью. Больше всего любили мы с Аней рассматривать съезжающуюся на крупную ночную игру публику. Парные экипажи один за другим бесшумно подкатывали к ослепительно освещенному подъезду казино; из них, волнуя сердце нежною отравою тончайших духов, с балетною легкостью выпархивали какие–то совершенно фантастические для моего юношеского глаза красавицы. Слегка касаясь услужливо поданных рук своих изящных кавалеров во фраках, они, сияя драгоценными камнями, манящими улыбками и загадочными взорами, одна пленительней другой, быстро проскальзывали мимо нас в наркотически влекущие их, аляповато раззолоченные, зеркальные залы…
За отсутствием у меня фрака, вход в казино на вечернюю игру был нам заказан. Это нас мало печалило. Зато очень прискорбно было узнать, что по той же причине нам не попасть ни на один из спектаклей с участием Шаляпина. Помню, с каким новым в себе чувством протеста и раздражения смотрел я на разряженную публику, непрерывным потоком спешившую в театр. Выпив в «Кафе де Пари» по чашке кофе, мы сели в убогий трамвай, напоминавший своею медлительностью московскую конку, и в горьком чувстве своего социального отщепенства поплелись в свою средневековую тюрьму.
Вернувшись в Гейдельберг, мы прослушали летний семестр, а к осени поехали в Москву, так как для окончания докторской работы мне была необходима Румянцевская библиотека.
Сняв две большие комнаты, повесив над диваном в кабинете большой портрет Соловьева, который, чудом вывезенный из Советской России, и сейчас висит в моей комнате, и купив большой самовар, мы, в радостном сознании начинающейся для нас новой взрослой жизни, сообщили друзьям и знакомым, что по средам мы дома и будем рады видеть их у себя. Наши «журфиксы» пришлись всем по сердцу. В первую же среду набралось много народа и сразу же закипел нескончаемый разговор на всевозможные темы. Иногда я устраивал литературные вечера. Как–то читал «Снежные маски» Блока, которым очень увлекался. Аня, так же как и ее друзья, не разделяла моего увлечения символистами. «Товарищи» хором протестовали против «модернистических вывертов». Всяческая «мистическая невнятица», доказывали они мне, есть всегда порождение социально–политической мути. Символическое искусство подымает свою голову лишь потому, что сорвалась социальная революция. Когда революции начинают сдавать, реакционная гниль начинает фосфоресцировать.
Я отбивался не только со страстью, но, каюсь, и с запальчивостью, цитировал христианских социалистов, спрашивал, в чем же реакционность Франциска Ассизского, доказывал, что христианский социализм Соловьева не реакционен, но прогрессивен, что марксистский подход к Блоку и Рильке нелеп, но ничего не помогало. В головах моих оппонентов все мои теоретические аргументы сразу же превращались в психологические симптомы буржуазно–феодальной структуры моего сознания. Спор шумел, но топтался на месте. Видя, что мне ни мистикой, ни критицизмом не отстоять своих позиций, я переходил в наступление: принимался доказывать своим оппонентам, что они потому с такою простотою решают все вопросы, что привыкли к очень упрощенному пониманию марксизма, представляющему собою на самом деле весьма сложный вариант глубокомысленнейшего учения Гегеля. Моим тогдашним коньком было сопоставление первого тома «Капитала» с третьим. Тут у меня были интересные мысли, подсказанные мне во время семинарских дискуссий профессором Ласком. Но и этот козырь мои оппоненты, не вдаваясь в глубину проблематики, крыли простым указанием на то, что пролетариат воспитывается на «Коммунистическом манифесте» и на упрощенном изложении первого тома «Капитала»; сравнение же первого тома с третьим и установление между ними сложной, диалектической связи может интересовать лишь таких аполитичных академиков, как я. Моя диалектика – та же мистика, только головная; праздная игра ума, быть может, нужная для науки, но вредная для жизни.
Когда теоретический спор окончательно запутывался, подавали самовар и начиналось чаепитие. За столом разговоры естественно принимали более примирительный характер. Так как среди Аниных друзей был знаменитый в будущем скульптор и его брат, впоследствии актер, то разговоры часто переходили на темы искусства и театра. За самоваром Аню, в которой не было ничего от Гончаровской Марфиньки и ее евангельского прообраза, иногда заменяла Людмила. Ей было трудно приходить к нам, но мы ее упорно звали и она, превозмогая свою боль, все же приходила по совершенно той же причине, по которой и я охотно согласился на Анино предложение провести каникулы на Ривьере. Интеллигентское понимание любви не допускало ревности. Своими прекрасными итальянскими глазами она иной раз подолгу смотрела на портрет Соловьева, «Смысл любви» которого мы с ней когда–то с восторгом читали. Жалела ли она в эти минуты о том, что, приехав спасать меня от «отвлеченной чувственности», она не нашла в себе сил отказаться от «отвлеченной духовности», я и поныне не знаю. Гордая, благородная и замкнутая, она и после моей женитьбы много и охотно говорила со мною о нашем полудетском прошлом, но настоящего не касалась, боясь, вероятно, хотя бы мимоходом упрекнуть меня за мою измену.
Иногда, вместе со своим женихом, Павлом Оловянниковым, приходила его невеста, Наташа Никитина. Тихая и безмолвная, она поначалу оставалась в тени. Но как–то, поймав на себе во время спора с Павлом ее внимательный и как бы удивленный моею ненужною горячностью взор, я внезапно почувствовал все своеобразное очарование ее образа. Было в ней нечто цветуще–возрожденское и одновременно нечто модернистически–изысканное. Смотря на нее, можно было легко представить себе, какою она была девочкою. И стилистически и психологически в ней было много глубины и дали. Небольшая, круглая головка была отягчена крупными локонами, под крылатыми бровями молчали кроткие, пристальные глаза. Не тонкому наблюдателю ее очень своеобразные движения рук могли бы показаться теми искусственно–хореографическими жестами, которыми в те годы в Москве и сознательно и бессознательно грешили почитательницы божественной босоножки Айседоры Дункан, на самом же деле они были прирожденны и просты. Наташа Никитина училась на историко–философском отделении Высших женских курсов. Очень любя музыку, которой обучалась с детства, она после Гофмановских концертов начала было ею совсем серьезно заниматься, но вскоре бросила по идейно–аскетическим соображениям; решив, что сейчас не время жить для себя, она, выбрав себе самую неказистую партийную кличку, жертвенно пошла все по тому же, ей лично чуждому пути, по которому шла почти вся интеллигенция. Помню, как ближе познакомившись со своею будущею «belle soeur», я обратился к ней с вопросом, почему она, вопреки своей внешности, наперекор своим дарованиям и своей любви к родителям, принадлежавшим к тому классу, который революция хочет уничтожить, поступила в партию, но не мог добиться от нее никакого иного ответа, кроме совсем короткого: «судьба».
Кажется, в новой истории не было эпохи, в которой дух времени с такою безапеляционною силою побеждал бы все субъективные наклонности людей, как то имело место в русской интеллигентской среде в конце 19–го и в начале 20–го веков. Очевидно идеалисты 30–х годов не даром до дыр зачитывали «Логику» Гегеля.
Московские дни летели быстрее гейдельбергских. Незаметно подошел март. Последняя «среда» была особенно оживленной и интересной. Прощаясь друг с другом до осени, никто из нас не чаял, что Аня через три месяца будет отозвана из жизни, а Наташа Никитина разойдется с Павлом Оловянниковым и через три года станет моею женою.
После долгих размышлений мы с Аней решили, что самым правильным будет, если я поеду в Гейдельберг один, чтобы как можно быстрее сдать экзамен, она же на это время поедет погостить к сестрам Миракли на дачу под Ковно. Так мы и сделали. Аня почти ежедневно писала мне в Гейдельберг. Ее письма были на редкость светлы и спокойны. И вдруг телеграмма – скончалась…
Приехав в Ковно, я узнал, что Аня утонула, пытаясь спасти купавшегося в Немане и попавшего в стремнину младшего брата Аркадия. Тела обоих погибших были перевезены в Вильну и похоронены рядом с Аркадием. Как непостижимо страшно, что десятилетний Вася должен был погибнуть, чтобы вернуть брату его невесту.
Внезапно обрушившаяся на меня смерть жены перевернула всю мою, как мне тогда по молодости лет казалось, лишь от меня зависящую жизнь. В трагичности внезапной Аниной смерти я не мог не услышать осуждения свыше того доброго дела, каким мне представлялась моя женитьба. Лишь после долгих испытаний своей совести, я понял, что вина моя перед Аней в том, что я влюбился в нее и женился на ней как бы под Нининым гипнозом. Каким образом во мне, скорее излишне самостоятельном, чем слабовольном человеке, возник мой тогдашний восторг послушания, мне и сейчас остается непонятным; то, что он был своеобразным преломлением моей страстной, но мне тогда не внятной влюбленности в Нину, я понял лишь в долгих мучительных исканиях смысла Аниной смерти. Отвлеченные соображения, что ведь и Аня полюбила меня как своего врача и исповедника в каком–то сложном слиянии с умершим Аркадием, не облегчали сердца. Днем еще можно было жить, но по ночам, под шум дождя по крыше Нининого домика (после похорон я неделю прожил в Вильне) в душе поднималась ничем не погашаемая безысходная тоска. Страшнее всего было то, что чувство своей вины перед умершей нерасторжимо сплеталось с за–чарованностью скорбным образом Нины, с отсветом панихидной свечи на губах и в немых, никому не молящихся, и все же нездешних глазах. Хотелось только одного – остаться в Вильне, но этого сделать было нельзя: внутренний голос непререкаемо твердил, что освободившийся Аниною смертью путь к Нине открылся как навсегда запретный путь. Чувствуя, что со мною происходит что–то неблагополучное и страшное, я не был в силах понять, что же собственно во мне творится. В душе развертывалась жуткая мистерия, в которой Бог и чёрт, борясь за мою несчастную душу, таинственно меняли свои трагедийные маски.
Отправляясь из Москвы в Гейдельберг со вполне законченною работою, я рассчитывал сдать экзамен в 6–8 недель. Анина смерть изменила все перспективы и все ритмы моей жизни. Я сдал его лишь летом 1910–го года.
С благодарностью вспоминаю друзей, помогших мне дойти до этого внешнего рубикона жизни, прежде всего доктора Мелиса, ради которого я и переехал из полюбившегося Гейдельберга в чужой поначалу Фрейбург.
Мелис, с которым мы сблизились уже с первого семестра, с тревогой наблюдал мой роман в стиле Достоевского с Аней и был в отчаянии от моей женитьбы на двадцать третьем году жизни. Зная за мной способность с головой уходить в нахлынувшее на меня чувство, он, очевидно, боялся, что, овдовев, я вообще откажусь от мысли об окончании университета и решил во что бы то ни стало этому воспрепятствовать. Вначале он был очень осторожен; разговоров об экзамене не поднимал: просто заходил проведать в сумеречный час, развлечь разговором, или увести с собою в уютный винный ресторанчик, где к нам присоединялся Михаил Иванович Катарджи, тоже переехавший во Фрейбург. Целительнее этих встреч были длинные прогулки по лесам Шварцвальда, издали как будто бы дремучим, на самом же деле расчищенным, как парк, с пронумерованными просеками.
Правильно угадывая мое настроение, Мелис стал все чаще приносить мне распространенные в то время томики Дидериховских изданий мистиков. Больше всего мы читали с ним Плотина, Мейстера Эккехардта и Райнера Мариа Рильке, поэзией которого он сильно увлекался. В связи с этим чтением и разговорами о прочитанном я написал две напечатанные впоследствии по–немецки и по–русски статьи: одну о трагедии творчества у Фридриха Шлегеля, другую о трагедии мистического сознания Р. М. Рильке. В характеристику Каролины Шлегель я смело вставил несколько строк из письма Нины Миракли, в котором она писала о себе самой. Это типично романтическое отождествление жизни и творчества никем из моих друзей не было замечено, хотя между Каролиной и Ниной не было решительно ничего общего.
Решив, что я достаточно окреп душою и нервами, чтобы засесть за серьезную работу, Мелис предложил начать со мною подготовку к экзамену. Зная свою неспособность ко всякого рода зубрежке, я с благодарностью принял его предложение. В продолжение по крайней мере трех месяцев Мелис изо дня в день ровно в семь утра входил в мою комнату с неизменною сигарою в нервной, бесплотно–костистой, как рентгеновский снимок, руке. Сняв котелок и тяжелое драповое пальто, он тушил электричество, находя, что у окна достаточно светло, и, не теряя времени, вынимал свои толстые, клеенчатые тетради, в которых находилась вся необходимая для экзамена премудрость. Я покорно отдавался его педагогической воле и, подавляя в себе философскую любознательность, старался как можно проще и нагляднее разложить в своей голове не слишком богатые результаты тысячелетних раздумий человечества над основами мира и жизни. Занятия шли хорошо. Мы подвигались быстро. Мелис был счастлив. Но вот на нашем пути появилось неожиданное и, как ему казалось, весьма опасное препятствие: из Парижа пришло письмо с известием, что во Фрейбург едет, рассчитывая с месяц погостить у меня, младший брат Ани Иван. Мелис долго уговаривал меня написать ему, что у меня перед экзаменом нет ни времени, ни лишних сил для свидания. Сколько я ни доказывал милому Георгу всей невозможности последовать его совету, он настаивал на своем, считая сдачу докторского экзамена моим прямым долгом, а потакание Ивановым планам вредною сентиментальностью.
Вид Ивана, с которым он познакомился, зайдя ко мне как–то под вечер вместе с холеным и проодеколоненным Катарджи, окончательно убедил его в том, что этому молодому человеку было бы лучше оставаться в Париже. Замученный революцией, высылкой, бегством, расстрелами друзей, безденежьем и ранней, нищей женитьбой, Иван, действительно, являл собою странный и не внушавший европейскому глазу никакого доверия вид. Одет он был в какой–то синий костюм, напоминавший форму альпийского стрелка, на ногах были гамаши на пуговицах. Бледное, почти безусое лицо неряшливо обрамляла, очевидно, конспиративная бородка. Глаза лихорадочно горели, по скулам часто пробегала нервная судорога. Будучи сам сыном богатого купца–промышленника, Иван с истинно пролетарской ненавистью смотрел на темною ниткой простроченные светлые перчатки в холеной руке Михаила Ивановича и, не зная немецкого языка, злобно косился на Мелиса. Мелис же, приветствовавший в качестве поклонника Руссо, с искренним, но, конечно, отвлеченным восторгом манифест 17–го октября, ушел, как мне показалось, не без опасения, как бы со мною не приключилось чего недоброго.
Вспоминая мелисовскую заботу обо мне, не могу попутно не вспомнить рассказа Горького, снимавшего летом 1923–го года целый бельэтаж в богатой вилле известного во Фрейбурге доктора. Доктор этот был большим поклонником таланта Алексея Максимовича, но все же побаивался своего знаменитого квартиранта–большевика, а потому на ночь оставлял у порога своей спальни огромную злую овчарку. Если этот рассказ даже и прикрашен Горьким, он по существу точен и правдив.
Ни в чем не сходясь друг с другом, мы все же прожили с Иваном несколько приятных для нас обоих недель. Относясь отрицательно к конспиративно–террористической деятельности Аниного брата, я в известном смысле все же не мог не преклоняться перед целостностью его воли и той жертвенностью, с которою он строил, вернее уродовал свою жизнь. У Ивана было несколько трогательных привычек, оставшихся, вероятно, от тюремной жизни. Он ловко брился одним только клинком безопасной бритвы. Никогда не смывал оставшегося на бритвенной кисти мыла – берег пену на следующий день, а сапоги и платье чистил сам, считая недопустимым утруждать этой работой горничную.
В предыдущей главе я уже упоминал о «Логосе». В основу этого журнала, русское и немецкое издания которого начали выходить в Москве и Тюбингене в 1910–м году, легли, идеи и чаяния, давно волновавшие наше гейдельбергское фисософское содружество (Кронер, Мелис, Бубнов, Гессен и я). Первым словом этого содружества был небольшой сборник под заглавием «Vom Messians. Kultur – philosophische Essays»[14]14
«О Мессии», Культурно–философские очерки.
[Закрыть]), вышедший в известном лейпцигском издательстве.
О борьбе «Логоса» за представлявшийся ему образ русской философии и об оказанном ему сопротивлении со стороны славянофильски–православной мысли речь еще впереди. Сейчас только несколько слов о наших тогдашних волнениях. Обсуждались наши идеи и замыслы долго и горячо. Сборник «О Мессии» писался с вдохновением, почти с восторгом, в убеждении, что из скромного начала выйдет настоящее дело. Больше всех волновался пожалуй Сережа Гессен, сын известного «кадета», эмигрировавший впоследствии заграницу и составивший себе в Европе, в особенности в славянских странах, крупное имя своими философски–педагогическими трудами. Приходя на наши собрания, он не то в шутку, не то всерьез, приветствовал нас вариантом знаменитой революционной фразы: «философия объявлена в опасности, мы заседаем непрерывно». И действительно, заседали мы, подготовляя сборник и журнал, чуть ли не целыми днями. Виндельбанд, к которому мы после подписания контракта с издателем Зибеком обратились с просьбою о сотрудничестве, отнесся к нам отечески сочувственно, но своего философского благословения в сущности не дал. Уже раньше, когда я принес ему наш сборник «О Мессии» и вкратце рассказал о наших дальнейших замыслах, он вскинул на меня свои сверляще–умные глаза и улыбнувшись своею очаровательною улыбкою, саркастически произнес: «Sie haben ihr Heftchen "Vom Messias" gennant, jetzt wollen sie die Zeitschrift "Logos" betiteln, passen sie auf, sie landen doch beiden Schwarzen"[15]15
«Вы дали вашей тетрадочке название «О Мессии», теперь же вы хотите озаглавить ваш журнал «Логосом». Будьте осторожны, вы еще причалите у монахов».
[Закрыть]
Виндельбанд конечно шутил, но в его шутке было все же некоторое опасение, что мы, его ученики, изменим идеям критического кантианства и, незаметно для себя самих, причалим к католическому берегу романтики. Если не считать простою случайностью, что из пяти участников нашего сборника, только один не изменил заветам критицизма, то Виндельбанду нельзя будет отказать в большой проницательности. Кронера привели к живому христианству длительные занятия Гегелем и страшный опыт Вердена. Мелис, бросивший в своей молодости ради философии офицерскую карьеру, отрекся в 1923–м году и от академической философии. Написав ряд книг, посвященных романтике и мистике, он, с ранних лет тяготевший к южному морю и эстетике католицизма, покинул Германию и поселился на итальянской Ривьере. В каких он сейчас настроениях – не знаю. Говорят, что он написал две книги о Муссолини и склоняется к заигрывающему с католицизмом крылу фашизма.
Что касается трех русских участников нашего Сборника, то на приблизительно старых позициях остался только Николай Николаевич Бубнов, не вернувшийся по окончании университета в Россию и благополучно профессорствующий ныне в Гейдельбергском университете; я же, и в несколько меньшей степени Гессен, во многом весьма существенно приблизились к своим бывшим московским противникам. Дружное сотрудничество основателей «Логоса» с идейными руководителями славянофильского «Пути» на страницах парижского «Нового града» является лучшим доказательством состоявшегося сближения, предопределенного всем строем тех мессианских чаяний, которыми были нам внушены статьи нашего сборника. Ни о христианстве, ни тем более о православии в нем не было и речи, но в нем определенно звучало то в основе романтически–славянофильское отрицание александрийски–эклектической культуры 19–го века, которое неизбежно ведет к занятию религиозных, а в последовательном развитии и христианских позиций в историософии.
Над всеми статьями весьма юного сборника веял дух Новалиса, Фридриха Шлегеля и еще не читавшего Отцов церкви Киреевского. Во всех статьях шла речь о философе–пророке, о новой животворящей идее, об избранном народе–водителе. Ожидая явления «Нового слова», мы однако твердо отмежевывались от философии Ницше, столь привлекательной для многих мыслителей начала 20–го века. Вслед за автором передовой статьи Кронером мы все отказывались видеть в Ницше подлинного «божьего посланника» на том основании, что он проповедовал не «евангелие любви», а «евангелие силы», и твердо заявляли, что мы жаждем не «скрижалей новых ценностей», а «нового первосвященника ценностей древних и вечных». Если ко всему этому прибавить еще соображения передовой статьи, что России в сборнике отведено особое место на том основании, что в ней пророческая тоска о новой правде звучит сильнее, чем на Западе, то нельзя задним числом не подивиться той, подчас враждебной страстности, с которою в Москве, накануне Великой войны, воевали друг с другом приехавшие из Германии «логосовцы», засевшие в издательстве «Мусагет» на Пречистенском бульваре, и потомки старых славянофилов, объединявшие свои силы в издательстве «Путь» на Знаменке.
Личных отношений эта война почти не затрагивала. Спорили и ссорились в старой Москве горячо и много, но расходились друг с другом редко: по–настоящему злые, но зато в отдельных душах и по–новому святые времена наступили только после войны и революции.
За несколько дней до экзамена я зашел, как то было принято, к Виндельбанду с визитом. Он встретил меня с исключительною любезностью и, выразив надежду, что мой устный экзамен не испортит очень хорошего впечатления от моей докторской работы, спросил, на какую тему я хотел бы с ним побеседовать. Мой ответ, что я больше всего занимался Платоном, Декартом и, главным образом, Кантом, ему очевидно понравился. Мы расстались очень тепло. В крепком рукопожатии учителя я почувствовал обещание, если нужно, помочь мне не посрамить себя.
Наша часовая беседа, инициативу которой Виндельбанд все время умело предоставлял мне, была одною из самых интересных научно–философских бесед моей гейдельбергской жизни. Закончив ее проблемою естественного права у Канта, Виндельбанд изящно передал меня своему коллеге Еллинеку, который, подхватив тему, перевел речь на Гоббса, Пуфендорфа, а затем перешел к стоикам. Если бы не историк литературы, барон фон Вальдберг, я сдал бы экзамен на «Summa cum laude». Но барон совершенно сбил меня с толку непонятно мелочными вопросами о каких–то вариантах гетевского текста в различных изданиях. Раздосадованный и усталый, я не вполне вежливо заявил, что никогда не интересовался вопросами, интересующими моего экзаменатора. Во время моего прощального визита Вальдберг искренне извинялся, говоря, что от души желал не испортить мне блестящего экзамена и потому ставил самые легкие чисто внешние вопросы: ему казалось, что иностранцу, в последнюю минуту решившемуся переменить свой дополнительный предмет (в качестве такового я сначала действительно выбрал политическую экономию, которая мне однако перед самым экзаменом до того опротивела, что я махнул на нее рукой) будет легче отвечать на «детские» вопросы, чем на более существенные. Сердечно поблагодарив моего неловкого доброжелателя, испортившего мне мой экзамен и подивившись про себя психологической нечуткости этого известного исследователя французского психологического романа, я с легким сердцем, но и с грустным чувством конца моей студенческой жизни, вернулся во Фрейбург, где меня с нетерпением ждали Катарджи и Мелис.
Как я ни боролся против искушения нового свидания с Ниной, я после нескольких недель бездельного пребывания во Фрейбурге все же поехал в Вильну. С тоскующими друг по другу душами, но с прикованными к Неману глазами, просиживали мы с Ниною ночи напролет в ее увешанной портретами покойников (матери, братьев и Ани) комнате, а днями устало и молча бродили по пыльным улицам и окраинам Вильны. Да и о чем было говорить. Нам все было давно ясно и все же в нас все оставалось темно. Прощаясь друг с другом на вокзале (я ехал к своим на Рижское взморье, а потом в Италию), мы одинаково чувствовали, что навсегда прощаемся с нашею горькою любовью, которой ничего не оставалось, кроме добровольного пострига.
На взморье погода стояла прекрасная. Неделями тишайшее море, на берегу которого мирно сушились дырявые сети, блаженно молчало под ласковым солнцем. В заливных лугах по берегу Аа еще пахло сеном, а на ветряных взгорьях уже начинали вращаться скрипучие крылья мельниц. Время клонилось к осени, но в моем сердце начала расцветать весна.
Случайная встреча с совсем еще юной, голубоглазой, златокудрой, только что начинавшей певицей, богобоязненно взращенной в деревенской тиши и вдруг вышедшей на вольный простор артистической жизни, ожгла меня, как огнем.
Открытый летний сад в Мариенгофе; блаженная теснота за нашим столиком; красные лампионы в темных ветвях; симфонический оркестр Шнееганса исполняет Чайковского (Щелкунчика); через неделю – копна душистого сена; качающаяся на ночной волне лодка; концертная поездка в Виндаву, где артистку под нескончаемые аплодисменты забрасывают цветами, – а через месяц уже и разлука: темная ночь под поднятым верхом несущейся по пляжу коляски, бледнозеленый, ядовитый рассвет над тяжелым свинцовым морем, чашка отрезвляющего черного кофе на Рижском вокзале (о, как печальны глаза и холодны пальцы бедной Зои) и снова тоска и острые угрызения совести – вот все, что осталось в памяти от первого порыва сердца обратно в жизнь…
Снова, как два с лишком года тому назад, медленно проплывают за вагонными окнами покрытые снегом массивы швейцарских гор. Величие их меня уже не трогает, я весь погружен в себя. Оборванный приморский роман трепещет в душе предчувствием новых, более полных и глубоких переживаний. Вслушиваясь в горячий спор мечты и совести, я уже чувствую, что совести не осилить мечты, что она еще долго будет мучить меня, но руководить моею жизнью скоро перестанет; это свое отступничество я ощущаю не только грехом, но уже и правдой жизни.
У замечательного итальянского писателя, философа и публициста Джиованни Папини, начавшего свою карьеру с проповеди атеистического футуризма и кончившего призывом к католичеству, есть с большим подъемом написанный марш храбрости: «Единственное спасение – храбрость, единственный путь искупления – храбрость, единственный оплот гордости – храбрость, единственная твердыня славы – храбрость, единственное огненное испытание – храбрость! Да будет в каждом из нас с каждым днем все больше и больше храбрости».
Я никогда не был футуристом, в свое время даже выступал в «Эстетике» против самого Маринетти, за что навлек на себя великий гнев славного русского футуриста, Владимира Маяковского, наговорившего мне после лекции невероятное количество талантливых грубостей, но на недостаток храбрости, по крайней мере в своей молодости, мне жаловаться не приходится. Моя затея поехать в Италию и попытаться подготовить почву для издания итальянского «Логоса» была верхом чисто футуристической храбрости, чтобы не сказать дерзости.








