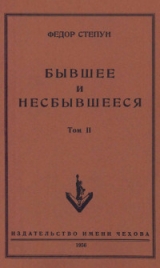
Текст книги "Бывшее и несбывшееся"
Автор книги: Федор Степун
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 46 страниц)
Высказанная Белым в третьем томе его воспоминаний мысль, что образ столяра Кудеярова («Серебряный голубь»), главы «голубиной секты» и сожителя «духини» Матрены, представляет собою как бы прообраз Распутина, кажется мне очень верною. Нет сомнения, что «распутиновщина» появилась в России задолго до Распутина. Вероятно, сам Белый только потому и расслышал в подмосковном селе Целебееве мистически–эротически–революционный аккорд кудеяровской распутиновщины, что тот же аккорд уже годами растлевал душу интеллигентски–писательской среды.
Несмотря на то, что после грозных событий 1905–го года уже ясно обозначился неминуемый срыв в пропасть, передовая Россия безудержно крутилась в каком–то напрягающем нервы, но расслабляющем волю похмелье. Как раз в пореволюционные годы в Москве один за другим вырастали новые и расширялись старые рестораны и кафе. В пику французски–фрачному «Эрмитажу» и старозаветно–купеческому Тестову, в самом центре Москвы на Арбатской площади отстроилась полюбившаяся москвичам «Прага». В ней, овеянной печальными воспоминаниями о революционно–банкетной кампании в эпоху первой Государственной Думы, чаще, чем в других ресторанах, собиралась богемно–купеческая и артистическая Москва. Чем страшнее становилась жизнь, тем больше «голубков» и троек высылало к полуночи на Арбатскую площадь экипажное заведение Туркина, тем длиннее становился хвост высокосаночных лихачей у подъезда «Праги».
Ночь за ночью неслись по бледно–сиреневой под электрическими шарами Тверской в снег и мглу заиндевелых аллей Петровского парка лихие ковровые санки со щитками, похожими на перевернутые паруса.
Экзотическим цветком распускался в хмельных мозгах утопающий в снегах загородный ресторан: негр в красной ливрее, пальмы, нудь, стон и страсть сладостно–тлетворного «танго», вперемежку с более родной, в Грузинах на Сенной площади зародившейся, старомосковской цыганщиной:
Перебой и квинта вновь
Ноет–завывает,
Приливает к сердцу кровь,
Голова пылает.
Чибиряк, чибиряк, чибиряшенька,
С голубыми ты глазами, моя душенька.
Не будем обманываться: по своим ритмическим перехватам буйные, хмельные, но в сущности трагически–чистые слова, вошедшей как раз перед войной в большую моду «цыганской венгерки» слушались кутившей в Стрельне и у Яра московской публикой совсем не в тех чувствах, в которых их некогда пел Фету злосчастный Апполон Григорьев и в каких их еще в конце 19–го века слушала на Нижегородской ярмарке полная рогожииских страстей серо–купеческая и провинциально–дворянская Россия.
В Москве начала века, в среде меценатствующего купечества, краснобаев присяжных поверенных, избалованных ласкою публики актеров, знатоков загадочных женских душ и жаждущих быть разгаданными женщин, в среде литераторов, поэтов и художников нашей «полумиллионной и полубогемной, ныне живущей, завтра сходящей Москвы», вместо стихии, уже давно царила психология, вместо страстей – переживание, вместо разгула – уныние. Головы скорее фантазировали, чем пылали, а к сердцу приливала не кровь, а сгущенный шартрезом и бенедиктином «клюквенный сок» блоковски–мейерхольдовских мистиков. Под несущиеся с эстрады исступленно–скорбные рыдания:
Басан, басан, басана,
Басаната – басаната,
Ты другому отдана,
Без возврата, без возврата.
Что за дело – ты моя,
Разве любит он, как я?
растленные сладостною мертвечиною брюсовской эротики, расчесанные, напомаженные юноши томно цедили в русалочьи души своих кутающихся в надушенные меха красавиц совсем не григорьевские строки своего «мэтра»:
Идем свершать обряд не в страстной, детской дрожи,
А с ужасом в глазах извивы губ свивать,
И стынуть, чуть дыша, на нежеланном ложе,
И ждать, что страсть придет, незванная, как тать…
Как ни остры были яды брюсовской эротики, они все же действовали далеко не так сильно, как более тонкая отрава «блоковщиной».
Над сложным явлением «блоковщины» петербургской, московской, провинциальной, богемной, студенческой и даже гимназической, будущему историку русской культуры и русских нравов придется еще много потрудиться. Ее мистически–эротическим манифестом была «Незнакомка»:
И медленно пройдя меж пьяными,
Всегда без спутников, одна,
Дыша духами и туманами,
Она садится у окна.
И веют древними поверьями
Ее упругие шелка,
И шляпа с траурными перьями,
И в кольцах узкая рука.
И странной близостью закованный,
Смотрю за темную вуаль,
И вижу берег очарованный
И очарованную даль…
Эти медленно–певучие строки с такою магическою силою захватывали наши души, что даже и наиболее чуткие среди нас не замечали в них кощунственного слияния тоски по «Прекрасной даме», которую, благословленный на путь своего художественного служения Соловьевым, Блок воспевал в своих ранних стихах, с наркотически–кабацкой эротикой, что перед самой войной доводила до исступления многотысячную публику Вертинского, с монотонно–сомнамбулическим сладострастием распевавшего по эстрадам свою знаменитую песенку: «Ваши пальцы пахнут ладаном»…
До чего велика, но одновременно мутна и соблазнительна была популярность Блока, видно и из того, что в то время как сотни восторженных гимназисток и сельских учительниц переписывали в свои альбомы внушенные Блоку просительной ектенией строки:
Девушка пела в церковном хоре
О всех усталых в чужом краю,
О всех кораблях, ушедших в море,
О всех, забывших радость Твою…
– проститутки с Подъяческой улицы, гуляя по Невскому с прикрепленными к шляпам черными страусовыми перьями, рекомендовали себя проходящим в качестве «Незнакомок».
Будь этот эротически–мистический блуд только грехом эпохи, дело было бы не страшно. Страшно то, что он в известном смысле был и ее исповедничеством. Замечание Достоевского, что русская идея заключается в осуществлении всех идей, верно не только по отношению к общественной, но также и к личной жизни. Ходасевич правильно отмечает в своем «Некрополе», что люди, в особенности женщины декадентской среды, так же, как в свое время и народовольцы, не признавали расхождения слова и дела. Требуя, чтобы романы развивались в жизни так же последовательно, как в книгах, они во всем смело шли до конца, превращая тем самым эстетический канон искусства в нравственный закон. Стыдно вспомнить, сколько мы в свое время говорили, что любовь, как соната, должна строиться на борьбе двух тем, что все измены дон Жуана свидетельствуют о его верности образу «вечной женственности», что трагедию любви нельзя смешивать с неудачною любовью, ибо как в искусстве высшими формами являются не назидательная басня и натуралистический роман, а лирическое стихотворение и трагедия, так и в любви, исполненной вечности, миг, все равно счастливый или несчастный, значительнее долгих лет обыденного брака.
Забота о постижении вечности в любви тяготила, впрочем, немногих. Для большинства соловьевски–блоковская тема «вечной женственности» была лишь литературною фразою, не связанной ни с каким личным опытом. Зато с невероятною быстротою размножались эстетствующие чувственники, проповедники мгновений и дерзаний. Этот культ, певцом и жрецом которого был Валерий Брюсов, стоил его адептам многих мук и многих жертв.
Помнящие описываемую мною. Москву, помнят, конечно, взволнованные разговоры, вызванные прочтением Брюсовым за ужином в Литературном кружке вскоре после самоубийства близкой ему поэтессы Львовой посвященного новой встрече стихотворения:
Мертвый в гробе мирно спи,
Жизнью пользуйся живущий…
Лучшего пояснения его кредо:
Все в жизни, быть может, лишь средство
Для ярко–певучих стихов…
нельзя себе представить.
Как ни анормальна была атмосфера в культурно–передовых и наиболее талантливых кругах Москвы, она в тех же кругах Петербурга была еще взвинченнее и нервнее. Здесь религиозные и художественные вопросы как–то сложнее, но и непосредственнее переплетались с политическими утопиями и социальными мечтами, что создавало на заседаниях Религиозно–философского общества чуждую действительности и трезвости ауру.
Не случайно, что свой мертворожденный мистический анархизм милейший Георгий Чулков защищал не в Москве, а в Петербурге. Не случайно также, что проповедническая деятельность одного из самых примечательных, но и самых беспредметных мыслителей «рубежа двух столетий», певца двух бездн и пламенного защитника социальной революции во имя «третьего завета» Д. С. Мережковского, никогда так не волновала Москвы, как Петербург. Беловские описания каких–то чуть ли не хлыстовских радений в петербургских салонах полны, конечно, карикатурных преувеличений и все же им нельзя отказать в некоторой зоркости. Нет сомнения, что наиболее значительным людям канунной России определенно не хватало практической деловитости и религиозной трезвости. На реальные запросы жизни передовая интеллигенция всех окрасок и направлений отвечала не твердыми решениями, а отвлеченными идеологиями и призрачными чаяниями. Социалисты чаяли «всемирную социальную революцию», люди «нового религиозного сознания» – оцерковление жизни, символисты – наступление теургического периода в искусстве, влюбленные – встречу с образом «вечной женственности» на розовоперстой вечерней заре.
Всюду царствовало одно и то же: беспочвенность, беспредметность, полет и бездна.
Над бездонным провалом в вечность,
Задыхаясь, летит рысак…
Чудом перемахнув через бездну большевистской революции, мы очутились в Западной Европе. Большинство описанных мною философов, писателей, журналистов, политиков и всяких иных известных и незаметных деятелей русской культуры оказалось в Париже.
Чуть ли не ежегодно наезжая из Германии, где я в 1926–м году получил профессуру, в Париж и постоянно встречаясь там со старыми московскими знакомыми, мы с женою невольно воспринимали русскую жизнь Парижа, как эпилог московской довоенной жизни. Что говорить, парижская эмиграция не горела тем чистым ярким пламенем, к которому ее обязывало страдание родины. Были и чад, и тоска, и злоба, и уныние. Но все же нельзя отрицать, что в нищей, неприкаянной эмиграции совершался процесс покаяния и духовного отрезвления.
В то время, как чисто политическая, «ничего не забывшая и ничему не научившаяся» эмиграция изнемогала в партийной междоусобице, вокруг представителей так называемого «нового религиозного сознания» уже начиналась творческая работа по осмысливанию развернувшейся трагедии. В этой работе по–новому перегруппировывались люди и силы, вырастали новые религиозные, культурные и общественно–политические фронты.
Волновавшая в свое время Религиозно–философское общество тема сращения христианства и социальной политики начинала понемногу объединять отдельные группы православных мыслителей, в которых революция не убила веры в христианское дело, со вчерашними революционерами, пережившими большевистскую трагедию как свой личный грех. Писатели группы морозовского «Пути», продолжавшие начатое в Москве на Знаменке дело под тем же названием в Париже, начали, к смущению правоверных демократов–просвещенцев, все чаще появляться на страницах эсеровских «Современных записок».
В результате этой христианской прививки к стволу традиционного в России толстого общественно–политического журнала, религиозно–философские статьи начали приобретать такой вес и стали отнимать так много места, что И. И. Буиаков–Фондаминский, видный член Центрального комитета партии социалистов–революционеров, старый друг Мережковских и приверженец их революционно–христианских идей, решил в 1926–м году основать «Новый град», журнал, посвященный вопросам социального христианства, ближайшими сотрудниками которого оказались талантливейший ученый и блестящий писатель, доцент Петербургского университета, Федотов и я. Чуть ли ни в каждом номере «Нового града» писали Н. А. Бердяев, приобретший в эмиграции всеевропейскую известность, отец Сергий Булгаков, выросший в изгнании в крупнейшего православного богослова, перешедшие на религиозные позиции идеалисты Б. П. Вышеславцев и С. И. Гессен, а также и некоторые евразийцы. Нет сомнения, что историки эмиграции в будущем установят немалое влияние «Пути», «Современных записок» и «Нового града» на лучшие элементы эмигрантской молодежи.
Смотря по своему политическому направлению, эти историки или вменят представителям «пореволюционного религиозного сознания» в большую заслугу, что они удержали эту молодежь от слепой ненависти к большевикам, от националистического озверения, белогвардейского чванства и несовместимого с христианством, утробного антисемитизма, или поставят все это им в вину.
Как от «Современных записок» отпочковался «Новый град», так накануне мировой войны от «Нового града» отпочковалось «Православное дело». Журнал этот сознательно отодвигал на второй план разработку догматических и религиозно–философских вопросов, выдвигая на первое место проблемы практического христианства, проблемы живой, духовной и практической помощи ближнему. Надо отметить, что «Православное дело» началось не с журнала, а с реальной помощи нуждающимся элементам эмиграции. Когда–нибудь будет подробно рассказано и об этом «Православном деле», во главе которого стояла монахиня Мария, урожденная Пиленко, по первому мужу Кузьмина–Караваева, по второму Скобцова. Духовный путь, пройденный этой замечательной женщиной, можно по праву рассматривать, как прообраз того пути, который один только и ведет к спасению.
В свое время душа матери Марии пылала всеми страстями и болела всеми грехами описанной мною эпохи. Со свойственной ей глубиною она прошла как через мистическую муть петербургской блоковщины, так и через социалистический утопизм.
Прокомиссарствовав во время революции некоторое время в каком–то южном городе, по мандату левых эсэров, и написав большое количество по форме не совершенных, но своеобразно значительных стихов, она пришла к заключению, что так дальше жить нельзя. Поняв это, она, обремененная тяжелыми заботами о семье, состоявшей из трех детей и матери, и принужденная добывать хлеб в качестве «Femme de menage», все же успела окончить богословский факультет в Париже. Окончив его, она приняла постриг, но и монахиней осталась работать в миру. Почти единоличным усилием добыла она довольно большие средства, открыла странноприимный дом для нищей эмиграции и устроила дешевые квартиры для нуждающихся писателей. Одновременно она продолжала сотрудничать в журналах по религиозным вопросам, напечатала, к смущению многих духовных лиц, воспоминания о своих встречах с Блоком и выпустила сборник стихов, посвященных памяти ее погибшей в Советской России старшей дочери. Бывая в Париже, мы часто ходили в помещавшуюся в гараже домовую церковь общежития матери Марии, где было как–то легче молиться, чем в старорежимном храме на Rue Daru с традиционно громогласными дьяконами.
Я подробней остановился на жизни матери Марии, потому что в ее деятельности с редкой последовательностью начала раскрываться та правда, что уже накануне войны стучалась в двери двадцатого века.
Большим утешением для всех нас, работавших в эмиграции над синтезом средневекового боговерия, либерально–гуманитарного свободолюбия и социальной справедливости, было то, что мы не чувствовали себя отщепенцами. Доходившие до нас скудные сведения с родины согласно свидетельствовали о том, что и там, быть может, там–то прежде всего, растет живая вера в Бога, тоска по личному творчеству и жажда новой справедливости.
К такой же цели стремились рядом с нами и новые люди Европы. В кругах французского неотомизма, вокруг значительной и благородной фигуры Жака Маритэна, на страницах журнала "Esprit" и в сердцах группирующейся вокруг этого журнала молодежи шла та же, начатая в России Соловьевым, работа по сращению живого христианства с социальной эволюцией, что и в наших рядах.
К той же цели, хотя иными путями и в другой религиозно–психологической тональности, пролагали себе путь вместе с нами и неотомистами и религиозные социалисты Германии, Англии, Америки. И все это охватывалось и скреплялось работами христианских экуменических конференций.
Я пишу об эмиграции в прошлом времени. Пишу в тревожном предчувствии, что в недавно занятом немцами Париже она уже начала перерождаться в сплошь безыдейное беженство, исповедующее по необходимости только один девиз: «спасайся, кто может». Очень боюсь, что и по окончании войны совсем захиреет или, что еще хуже, исполнится новым духом наша эмигрантская жизнь. Не думаю, чтобы Бердяеву удалось возобновить «Путь», а нам с Бунаковым «Новый град». «Православное дело» в тиши, конечно, будет продолжаться, но тратить деньги на издание собственного журнала оно вряд ли уже сможет: каждое су придется беречь на хлеб и картошку.
Нет сомнения, что на авеню де Версай, в заставленной книжными полками и заваленной рукописями и журналами квартире, уже не будут собираться кружки богословов, философов, поэтов и писателей для горячих бесед о старых грехах России и о ее будущем образе.
Прекратят свой выход и многие эмигрантские журналы, целый ряд крупных научных трудов, подготовленных к печати как раз накануне войны, останется не напечатанным. Не увидят света, по всей вероятности, и многие художественные произведения. Осиротеет и, если не обольшевичится, то окончательно денационализируется эмигрантская молодежь.
Не печалиться душой, что вспыхнувшей войной окажется загубленным с таким трудом возделанное нами опытное поле пореволюционной русской культуры, конечно, нельзя. Но и падать духом нет основания. Совершающееся для нас не неожиданно. Русская религиозно–философская мысль 19–го века полна предчувствий и предсказаний тех событий, что ныне громоздятся вокруг нас. Начиная с Достоевского и Соловьева и кончая Бердяевым, Мережковским и Вячеславом Ивановым, она только и думала о том, что станется с миром в тот страшный час, когда он, во имя мирских идеалов, станет хоронить уже давно объявленного мертвым христианского Бога.
Час исполненья страшных русских предчувствий настал. Потому так и бушует мрачнеющий океан истории, что он не принимает в свою глубину насильнически погружаемого в него Гроба Господня.
Спасение только в вере, что после мрачных предсказаний исполнятся и светлые чаяния России, что…
Железным поколеньям
Взойдет на смену кроткий сев.
Уступит и титана гнев
Младенческим Богоявленьям.
Март–июль 1940 г.
Глава VIII ВОЙНА 1914–ГО ГОДА
Последнее лето перед войной мы с женой проводили в Ивановке, небольшом именьице ее родителей, о покупке которого весною 1910–го года я рассказывал в предыдущей главе. Наша Ивановка находилась в двух верстах от большой деревни Знаменки.
Таких живых, оборотистых деревень, как Знаменка, под Москвой насчитаешь не много: кузница при въезде в деревню, кузница на выезде, почта, школа, кооператив, две большие лавки, что твой Мюр и Мерелиз, два трактира и прекрасная земская больница, в которой в большевистские годы самоотверженно работал обрусевший грек, доктор Кастараки.
Население Знаменки отличалось живостью, талантливостью, предприимчивостью, но, по правде сказать, и жуликоватостью. В церковь ходил мало кто, да и то лишь по большим праздникам.
Верховодили в Знаменке три человека: оборотистый лавочник Фокин, отец которого разбогател на закупках провизии в Москве для местных помещиков, барышник Колесников, отмахивавший в свои 75 лет верст по 30–ти в день верхом без седла на сложенном мешке, со своими тремя сыновьями, один другого статнее и краше, и Лукин – небольшого роста мужичонка интеллигентского вида, спаивавший деревню водкою в чайниках и раздевавший ее высокопроцентными ссудами.
Описывая Знаменку, не могу не сказать нескольких слов о моем большом приятеле, сапожнике Иване Алексеевиче Лисицыне.
Новая, светлая и просторная изба Ивана Алексеевича стояла на отлете, самым своим положением как бы отмежевываясь от деревенской темноты и грязи. Хотя Лисицын и был первоклассным сапожником, вонючее сапожное ремесло как–то не шло к нему, всем своим обликом, высоким ростом и барственною осанкою напоминавшему Тургенева. Особенно красив бывал Иван Алексеевич зимою, когда в новом нагольном тулупе поверх синей поддевки и в песочно–голубоватой беличьей шапке с наушниками, он стоя выезжал со двора на своем сытом, гнедом мерине, запряженном в новые розвальни с решетчатою спинкою.
В годы революции Лисицын частенько заглядывал к нам в усадьбу. Приезжал отвести душу: посидеть в чистом месте, побеседовать с образованными людьми. Хотя дела его и при большевиках шли недурно – его опрятная, дородная, как лунь седая, но еще очень крепкая жена не раз угощала меня настоящим чаем с сахаром и сдобными ржаными лепешками – он, как никто, страдал от творившегося кругом безобразия.
Ему, заботливому хозяину и порядливому человеку, никогда не перестававшему любоваться сытостью своего скота, чистотою соломенной подстилки в стойлах, продегтяренностью сбруи в богатом медном наборе, плотною кладкою заготовленных на зиму под навесом дров, нежностью канареечной трели в окне и своим дорогим, заграничным ружьем, было до слез больно смотреть, как «товарищи», без пользы и смысла для себя и для дела, губили барское и крестьянское добро.
Не прозевать сворота с шоссе в Ивановку, в сумеречный час, даже и знакомому с местностью человеку было нелегко. К нам в усадьбу вела не дорога, а так, многоколейная российская разъезженность, летом пыльная, а по весне и осени топкая. С шоссе же притаившейся у речки в овраге деревни не было видно.
Подводившая к усадьбе старая березовая аллея начиналась сразу же за деревней. Если ее не срубили, то она, конечно, и сейчас начинается там же, за мещанскими избами, но писать об Ивановке в настоящем времени я решительно не могу: пробовал – не выходит.
По обеим сторонам этой чуть подымавшейся в гору аллеи лежали четко обрамленные густым ельником поляны. Правая из них вплотную прилегала к обнесенному забором старому яблонному саду. Как молод, как прекрасен бывал он по веснам в цвету.
Уйдя из–под низко свисавших березовых ветвей, дорога плавно огибала полукруг желтой акации и тут же радостно вбегала в приветливо раскрытые ворота усадьбы. Старый, по крайней мере столетний, но совсем еще крепкий, умно и удобно построенный деревянный дом с двумя террасами и антресолями; перед ним, на полукруглой лужайке два гигантских темно–зеленых конуса – две редкостной породы ели; перед большой террасой, в дальнем углу обширной песочной площадки – старый клен, под ним круглый стол и скамейки. Позади яблонный сад на сто корней, а дальше парк, за которым открывался привольный вид на незатейливые, но очаровательные русские дали…
Все скромно, не Бог весть как красиво, но душевно и домовито. Чувствовалось, что люди строились и обзаводились на долгую и прочную жизнь, себе и детям на радость. Окружена была Ивановка такими же, как и она сама, небольшими именьицами, без барских роскошей и затей. Лишь в последних многовековых вознесенских дубах, развалившихся, как и вся старая Россия, на наших глазах, чувствовались остатки широкой планировки английского парка.
В наше время Вознесенское было уже не барским имением, а доходным предприятием лесоторговца Туманова, рыжего с поросячьим лицом «кулака», не признававшего над собою ничьей власти, кроме власти старика–отца, человека во всех отношениях весьма замечательного и всеми уважаемого. Детей у Туманова, еще молодого мужика, была куча – мал–мала меньше и все в отца: рыжеватые, в веснушках, с белыми ресницами и бровями. Три старших сына–подростка, намечались такими же предприимчивыми хозяевами, как отец. Тумановы пахали на трех битюгах, доили четырех коров–ведерниц, занимались извозом и жгли уголь, купив у помещика по дешевке 50 десятин
Большую роль в деревне играл брат Туманова, юродивый Пашка, который зиму и лето слонялся по деревням и именьям, подбирая с земли и подбрасывая в воздух щепки и прутья. Обыкновенно этот безвредный, немой идиот бывал тих и спокоен, но временами на него находило странное возбуждение: тогда он громко мычал и, густо краснея, гневно потрясал кулаками. Вера в Бога у ивановских мужиков была не очень крепка, но в Пашку, «Божьего человека», твердо верили не только бабы и детишки, но и мужики. Держалась эта вера на том, что и в большие морозы Пашка всегда ходил босой, в одной рубахе и безо всякого вреда для себя глотал селедочные головы и кости.
Богатому Туманову малая озабоченность жизнью и здоровьем больного брата в вину никем не ставилась. Считалось нормальным, что Божий человек одевается и питается соответственно своему положению в деревне и своему назначению в жизни. Умер Пашка уже в большевистское время, когда каждый рот, даже и в богатом хозяйстве, был на счету. Умер довольно странно и даже загадочно: ушел из дому и больше не вернулся. Искали ли его Тумановы по–настоящему – не знаю. Помню только то, что сразу же после исчезновения Пашки священником с амвона было возвещено, что его останки найдет самая чистая душа. Пропал Пашка осенью, а по весне его «косточки» – в ту голодную зиму окрест деревень рыскало много голодных собак – нашел брат моей жены Андрей. Как знать не сыграло ли это обстоятельство некоторой роли в том, что своих «господ» ивановские крестьяне не тронули. Я лично, вплоть до высылки, находился с деревней в особо хороших отношениях, одно время даже был председателем ивановского сельского совета и в качестве такового воевал при дружной поддержке деревни с большевистским волостным исполнительным комитетом.
Летом 1914–го года в старом ивановском доме и небольшом при нем флигеле проживало много счастливого и веселого народу: совсем еще молодые, на мой теперешний взгляд, «старики» Никитины – Николай Сергеевич и Серафима Васильевна, мы с Наташей, ее старший брат Андрей, обучавшийся вместе со мною философии во Фрейбурге, со своею женою Еленой, обладательницей низкого церковного контральто, сестра жены Марина, пианистка и поклонница Дункан, со своим мужем, впоследствии знаменитым скульптором, младшая сестра Лиза, брат Митя, незамужняя сестра Серафимы Васильевны полная, представительная, нарядная Лидия Васильевна, большая театралка, горячая поклонница Ермоловой и, наконец, племянница Никитиных Ольга, выросшая в семье как родная дочь.
Всем Никитиным, как давно уже покоющимся в ограде старого кладбища на Ильневской горе старикам, так и приближающейся вместе с нами к старости и смерти «молодежи», я чувствую себя бесконечно обязанным и по гроб жизни благодарным.
Страшные годы военного коммунизма мы пережили все вместе в нашей Ивановке, которая дала нам возможность не умереть с голоду и холоду, а мне лично написать роман «Николай Переслегин» и книгу о театре. '
Вспоминая последнее предвоенное лето в России, я удивляюсь тому, как мало внимания мы уделяли войне, как мало тревожились быстротою и неотвратимостью ее приближения.
Не помню, чтобы я хоть раз, когда это было еще возможно, попытался купить иностранную газету, или узнать через знакомых, что думают в кругах немецкого консульства. У нас в Ивановке, в доме и парке, как в старинном романсе, царили «и мир, и любовь и блаженство».
Серафима Васильевна, счастливая тем, что, наконец–то, они с Николаем Сергеевичем заживут так, как уже давно мечталось, всем семейным гнездом в своем просторном доме, на собственной земле, целыми днями хлопотала по имению и по домашнему хозяйству.
Николай Сергеевич, приезжавший в деревню всего только на субботу и воскресенье, чувствовал себя в деревне «словно подмененным». В полотняном пиджаке, он все время упорядочивал и украшал свою усадьбу: чинил заборы, стриг акации, обрезал розы. Иногда работал в своей мастерской в каретном сарае – столярничал и шорничал. Наиболее счастливым чувствовал себя Николай Сергеевич субботними вечерами. Всласть напившись чаю на террасе, он сходил с газетой в сад и садился за круглый стол под кленом. Прочтя газету, он закуривал папиросу и, наслаждаясь вечернею тишиною, отдавался своим мечтам о том, как разведет пчел, спустит и вычистит пруд и проведет шоссе до Лидина. «Как хорошо, Федор» – восклицал он каждый раз, когда я подсаживался к нему. Да, было хорошо, быть может не заслуженно, быть может даже непростительно, но все же очень хорошо. С золотых Ильневских холмов задумчиво наплывал грустный и умиротворяющий всенощной благовест. Навстречу ему из открытых окон гостиной неслись резвые разбеги и тревожные аккорды шубертовских «Impromptus», которые разучивала Марина. В недалеком болотце с нежною истомою полоскали свои глотки лягушки. Кукушка в парке сулила нам долгие годы счастливой жизни…
Перед ужином мы с Николаем Сергеевичем и Наташей часто бродили по имению, выбирая место для нашего будущего дома. Строиться думали весной следующего года – осенью мы собирались на всю зиму за границу. Наша московская квартира была уже с весны ликвидирована, мебель составлена в склад. Это ли не доказательство, что в войну нам как–то не верилось.
За вечерним чаем мы менее всего говорили о войне, в сущность связанных с нею вопросов во всяком случае не углублялись. Вспоминая те времена, я удивляюсь прежде всего самому себе. Как никак я в продолжение семи лет изучал в Гейдельберге историю, главным образом, новейшую. В каком–то отвлеченном академическом порядке мне были вполне ясны основные политические вопросы 20–го века: вековая борьба Англии с Францией, победа Англии и связанное с нею выдвижение на место первой континентальной державы созданной Бисмарком Германии с ее стремлением к морскому владычеству и грозящее столкновение английских, немецких и русских интересов на Балканах. Почему же, спрашиваю я себя, все эти вопросы никогда не возникли на ивановской террасе?
Объяснение этого, в сущности невероятного факта надо, мне кажется, искать в традиционной незаинтересованности русской радикальной интеллигенции в вопросах внешней политики.
История Франции сводилась в социалистических кругах к истории Великой революции и коммуны 1871–го года; история Англии интересовала только как история манчестерства и чартизма. Отношение к Германии определялось ненавистью к Железному канцлеру за его борьбу с социалистами и преклонением пред Марксом и Бебелем. Конкретными вопросами русской промышленности и внешней торговли тоже мало кто интересовался. У эсеров они сводились к требованию земли и воли, у социал–демократов – к восьмичасовому рабочему дню и к теории прибавочной стоимости. Не помню, чтобы мы когда–нибудь говорили о русских минеральных богатствах, о бакинской нефти, о туркестанском хлопке, о летучих песках на юге России, о валютной реформе Витте.
Славянского вопроса для лево–радикальной интеллигенции так же не существовало, как вопроса Константинополя и Дарданелл. Ясно, что с таким подходом к политике наша компания не была в состоянии облечь назревающую войну в осязаемую плоть живого исторического смысла. В нашем непосредственном ощущении война надвигалась на нас скорее как природное, чем как историческое явление. Поэтому мы и гадали о ней, как дачники о грозе, которым всегда кажется, что она пройдет мимо, потому что им хочется гулять.








