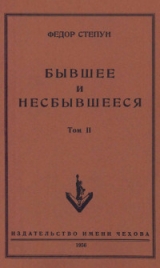
Текст книги "Бывшее и несбывшееся"
Автор книги: Федор Степун
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 46 страниц)
ПРОВИНЦИЯ
В Нижний я приезжал обыкновенно очень рано, если не ошибаюсь, около шести утра. Зимними месяцами в этот час на предвокзальной площади бывало еще совсем темно. Лошадиные морды, дуги, извозчичьи шапки лишь смутно чернели в туманной мгле. Даже широкая лента Оки, по которой ветренной стужей неслись легкие новгородские саночки с передками, в виде лебединой шеи, еле белела перед глазами. Над низовьем Канавина призрачно дрожало зеленовато–желтое марево далеких фабричных огней. На высоком берегу, по которому санки медленно подымались к кремлю, кое–где за занавешенными окнами светились огни. Здесь, в душно натопленных комнатах, просыпалось, вставало, крестилось и садилось за чай торговое население Нижнего. Кремль с его древними стенами, башнями, соборами, присутственными местами еще спал праведным сном. Только вороны тяжело перелетали с места на место по его чистым, белоснежным площадям. Спали еще и главные улицы торгового центра, по которым я резво подкатывал к Ермолаевским номерам, где останавливались все знатоки Нижнего Новгорода, несмотря на то, что недалеко от этих неказистых номеров красовалось большое, желтое здание гостиницы «Россия». Предпочитались Ермолаевские номера, в которых было всего только 14–16 комнат, из–за тишины и замечательной кухни.
Впервые приехав в Нижний, я остановился, как сейчас помню, в номере первом, в небольшой комнате с громадной печкой–лежанкой. Велев разбудить себя ровно в 10 часов, я быстро разделся и лег досыпать короткую вагонную ночь. Ровно в десять в дверь постучались. Я весело вскочил и отдернул шторы. За окном сиял синий, солнечный день. Под окном у подъезда, в ожидании тороватых седоков, попыхивали папиросами веселые, мордастые лихачи, дядя и племянник Шныревы, с которыми я впоследствии крепко сдружился. По другой стороне улицы проходили какие–то удивительные фигуры: купец ли, интеллигент ли, барыня ли с попугаем на барашковой шапочке, малый ли из погребка – все здесь не то на самом деле было, не то мне казалось каким–то особенным, по–провинциальному милым и занятным.
Когда пожилой, опрятный «человек», приветливо внесший громадный самовар, французскую булку, масло и свежий номер «Нижегородского листка» с объявлением о моих лекциях, поговорив сколько полагается, почтительно удалился утиною походкой многих половых, я налил себе стакан крепкого чаю, достал свои расчерченные цветными карандашами конспекты и в радостном чувстве полноты и подъема жизни сел их просматривать.
К двум часам меня ждал к себе председатель нижегородской Секции гигиены, воспитания и образования доктор Грацианов. Поднявшись по чисто вымытой и устланной пестрою дорожкою, но все же слегка попахивающей отсутствием канализации, небольшой, отлогой лестнице, я оказался в памятной мне интеллигентски–поповской квартире доктора: фикусы, ломберные столы между окнами, по крашенному полу половички, обитый коричневой клеенкой «гигиенический» диван, обеденный стол в углу, вокруг него простые венские стулья, но зато на нем – разгул хлебосолья. В противоположность Германии, которая нарядно живет, но скромно питается, в России и в убогой обстановке ели талантливо. Волга с ее рыбными богатствами особенно способствовала развитию этого таланта.
Длинноруко вымахавший себя мне навстречу Грацианов оказался типичным земцем, либералом, неугомонным деятелем «с идеей и направлением». Представив меня своей жене, преподавательнице женской гимназии, круглолицей, мягкотелой Мелании Павловне, и ее коллеге, выдающемуся математику Мурашову, мясистому, кудрявому паучку с очками–лупами на почти совсем слепых глазах, Грацианов шумно и весело подвел нас к столу. Потрясывая чуть седеющею, козлиною бородкою над неустанно катающимся кадыком, Грацианов с плутоватым видом рассказывал мне, что раздул секцию чуть ли не в народный университет на основании «малюсенькой запятой».
– Как врач, – посмеивался он, – я получил разрешение на устройство лекций по вопросам гигиены воспитания и образования, только и всего. Но согласитесь, что гигиеной, хотя бы и гигиеной воспитания, нашей русской жажды образования не утолить. Вот я и рискнул потихонечку вставить после гигиены малюсенькую запятую. Так оно и получилось: секция по вопросам гигиены – раз, по вопросам воспитания – два, по вопросам образования – три. По таким трем рубрикам все, что угодно, провести можно и кого угодно выписать. Препятствий со стороны местных властей, слава Богу, пока не встречаю, смотрят сквозь пальцы. Рад, очень рад вас послушать, в «бюро» очень хвалят, говорят «из молодых да ранний»…
Похвала, что греха таить, была мне в те времена весьма приятна. Хотелось не ударить лицом в грязь.
Подготовлен я был тщательно, но меня беспокоила невозможность, хотя бы приблизительно, представить себе, какая вечером соберется публика. Я никак не мог решить, надо ли читать так, как я читал в Москве, в открытом заседании Религиозно–философского общества, или скорее на уровне Пречистенских рабочих курсов.
За послеобеденным чаем я попросил Грацианова рассказать мне, что за народ ходит на лекции. Его рассказ не облегчил моего положения, скорее наоборот – усилил мое волнение. Оказалось, что на всякого нового лектора поначалу из любопытства собираются все, со временем же у каждого создается своя аудитория, у одних – большая, у других – малая.
Вернувшись в номер, я еще раз просмотрел свой конспект, отложил его в сторону и, повернувшись лицом к стульям, окружавшим овальный стол, начал громко и внятно свою лекцию. Я решил читать как можно более просто, но по существу ничего не упрощать.
В Нижнем я пришелся ко двору. У меня быстро создалась большая и верная аудитория. Ее отличительною чертою была как социологическая, так и психологическая пестрота. Сразу же утратив некоторых слушателей разных лагерей из–за трудности моих лекций, я не утратил ни одного лагеря. На все мои лекции до конца ходили как народники, так и марксисты, как представители свободных профессий, так и сормовские рабочие, как весьма пожилые люди, так и учащаяся молодежь.
Часто читая в Нижнем, я мало–помалу перезнакомился со всеми более или менее интересными людьми среди своих слушателей. Как всюду, так и в Нижнем, русская интеллигенция жила тесными идеологическими кланами. Отношение между кланами носило своеобразно–мистический характер нераздельности, но и неслиянности. Основною формою этого общения был нескончаемый идейный спор. Большой веры в возможность переубедить друг друга ни у кого не замечалось, тем не менее никому не приходила в голову мысль о прекращении бесцельных словопрений. Вспоминая («Мои университеты») о П. Н. Скворцове, гордившемся тем, что он не читал никаких книг, кроме «Капитала» Маркса, Горький не в шутку, а вполне серьезно называет Скворцова одним из лучших знатоков марксизма, не понимая того, что ученый, не читавший ничего, кроме Маркса, не может быть хорошим знатоком марксизма, а в лучшем случае лишь узким марксистским начетчиком. Не зная ничего о Скворцове, я не могу сказать, мог ли этот глава марксистского кружка, в котором в 89–90–х годах вращался Алексей Максимович, еще жить в Нижнем во время моих наездов туда. Дух его был во всяком случае жив. Помню, что меня не раз возили на какие–то чаи, где уже исчезнувшие из моей памяти люди, гордые тем, что они никогда не читали романтиков, мистиков, церковников и других «обскурантов» с сектантской страстностью и начетнической эрудицией хором доказывали мне вредность моих эклектически–беспринципных лекций. Представительницей марксизма в легальной нижегородской прессе была женщина–врач Бродская, иронически называвшая меня в своих рецензиях «сладкоголосою сиреною» и всячески старавшаяся скомпрометировать мое «левизною приправленное, реакционно – славянофильское миросозерцание» в глазах передового нижегородского общества. Совсем иначе отнеслись ко мне в народнических кругах, где еще жили воспоминаниями об эпохе Короленко и недолюбливали Горького. С особою благодарностью и даже нежностью вспоминаю Настасью Петровну Ульянову, у которой был дважды в гостях: бедно обставленная комната, чайный стол со скромною закуской, за столом хозяйка, уже седеющая женщина с очень умным и очень русским лицом толстовского склада и еще несколько тихих, симпатичных гостей. От всей дружной «идейной» семьи веяло теплотой и грустью: один из сыновей Ульяновой только что ушел в ссылку. Не думаю, чтобы Настасья Петровна разделяла все те религиозно–философские взгляды, которые я тогда проповедывал. Не думаю также, чтобы ее очень интересовал мой курс об основных проблемах эстетики Возрождения, концепцию которого я вывез из своей поездки в Италию. И все же Настасья Петровна меня не только как–то оценила, но даже и полюбила. До сих пор у меня хранятся подаренные ею «Исторические письма» Лаврова, с трогательною подписью: «Да хранит Господь Бог вашу светлую голову от тины житейской». Как у всякого писателя, на моих книжных полках стоит много книг с автографами, но ни одна из них меня почему–то так не радует, как потрепанная серенькая книжечка с этими умилительно старомодными словами, начертанными четким, мелким почерком.
Кроме широкого слоя лево–партийной интеллигенции, в Нижнем существовала и небольшая группа так называемых «неоправославных». Из них наиболее интересным был А. С. Волжский–Глинка, к которому я как–то зашел знойным летним днем, чтобы поговорить о его статье «Около чуда», только что появившейся в посвященном Толстому сборнике «Пути», который я рецензировал в «Логосе». Жил Волжский, как мне помнится, в деревянном сереньком домике, стоявшем в негустом саду. Не застав его дома, я решил подождать, пока он вернется с купания. Вернулся он в таком виде, что хоть опять в воду: красный, обливающийся потом, с расстегнутым воротом парусиновой толстовки. Подали квас, Волжский пил стакан за стаканом, все время утирая свое потное, бородатое, обрамленное поповскими волосами лицо большим купальным полотенцем.
Настоящего философского разговора не вышло, помешала жара. Всё, что осталось в душе от посещения Волжского, как–то слилось с тем благодатным ощущением жизни, о котором главным образом и шла речь в его статье о Толстом:
«Глубоко, глубоко, – писал Волжский, – врос этот огромный гений корнями своими в родную почву, в самое сердце земли. Он весь почвенный, землистый, душистый, корневой, красочный, зеленый и развесистый. Влажный чернозем на ласково пригревающем солнышке. В вышине лазурные дали, в глубине, в пахучей божьей земле божьи семена и для божьих же человеков».
Таким же жарким летним днем был я на даче у молодого учителя Мишенькина. Мишенькина я заметил на первой лекции и сразу же прилепился к нему.
Люди публичных выступлений, артисты, ораторы, лектора, хорошо знают, до чего важно иметь среди слушателей надежные опорные пункты. Как бы выступающий ни был уверен в себе, в минуты утомления им неизбежно овладевает ощущение, что аудитория начинает скучать и уходить от него. В такие минуты ему и необходимо почувствовать живую связь с аудиторией, хотя бы в лице двух, трех внимательных слушателей. Таким офицером связи я и прикомандировал к себе на первой же лекции Мишенькина. Очень красивый брюнет с внешностью Спасителя со страдальческой складкой на лбу, бессменно одетый в черный двубортный пиджак, он, положа ногу на ногу, скромно и неподвижно сидел с краю, неподалеку от кафедры и, не смотря на меня, не сводил взора с предмета моей лекции.
Приехал я к Мишенькиным к раннему обеду. Приняли они меня так просто и радушно, как мало знакомых людей принимают, кажется, только в славянских странах. Накормили чудесною, янтарною ухой и крупною душистою клубникой. После обеда мы пили чай с вкуснейшим сладким пирогом. Спасибо Мишенькиным за привет и старание. За чаем душевно разговаривали о том, о сем. Потом гуляли над Волгою, дышали необъятными земными и небесными далями, под вечер сидели на крылечке, любовались закатом, жгли костры от комаров и уже по–настоящему, вплотную беседовали о христианстве и просвещенстве, о России и революции, о Москве и провинции, об учительском призвании и о трудностях провинциального учительствования.
Уехал я очень поздно, с последним пароходом, в радостном ощущении, что познакомился с настоящими людьми, интеллигентами новой формации, которые и Бога не отрицают, и культуру любят, и социальной справедливости жаждут. Смущало только некоторое уныние Мишенькина, какая–то грустная сумеречность его образа. Думаю, что он был очень одинок и что ему было непосильно пробивать себе дорогу среди ведущих сил России – клерикального черносотенства и атеистически–революционной интеллигентщины.
Одним из видных православных реакционеров был в Нижнем доктор Н., который меня долго мучил своими письмами. Репутация у моего корреспондента была не важная: ханжа, черносотенец, карьерист. Мишенькины с ним не были знакомы и удивлялись тому, что я вожусь с ним.
Ханжой и черносотенцем доктор Н., человек, судя по письмам, тяжелый, одинокий и очень самолюбивый, из породы русских самоистязателей, думается, не был, но казаться таковым он мог. Трагедия доктора заключалась в том, что, не нуждаясь в молодости в Боге, чтобы любить людей и помогать им, он, придя к своим пятидесяти годам к Богу и церкви, потерял всякий интерес к людям: «Объясните, – писал он мне, – почему я, некогда народник–идеалист, горевший жаждою помощи ближнему, теперь свидетельство о смерти ловчусь не выдать, пока не зажму трешницы в кулаке, а в церковь хожу и даже практики не могу начать не перекрестившись». Что я отвечал доктору – не помню, помню только мучение, которое я испытывал, отвечая ему. Для настоящего ответа у меня в 27 лет еще не было ни жизненного опыта, ни духовной зрелости. В живом разговоре я, быть может, и нашел бы какое–нибудь нужное доктору слово, но разговора угрюмый, бледный, рыжий доктор очевидно боялся. После лекции он каждый раз быстро здоровался со мною и уходил, не позвав к себе.
Описывая своих нижегородских слушателей, я невольно спрашиваю себя, для кого пишу, кому могут быть интересны быстрые зарисовки почти мимолетных встреч, кроме меня самого? Но потом утешаю себя мыслью, что господствующий не только в математике, но и в жизни закон бесконечно большого значения бесконечно малых величин, быть может, поможет моим читателям выяснить себе духовный облик дореволюционной провинции и то, чего она ждала и даже требовала от лектора.
Мое отношение к философии заставило профессора Виндельбанда, как я рассказывал выше, указать на то, что его личные убеждения не являются предметом университетских занятий. Россия, в особенности провинциальная, такого разграничения личной и общественной философии не признавала. От философа, как, впрочем, и от всякого общественного деятеля, она требовала личных убеждений, почему и завязывала с ним личные отношения. Глубоко личные вопросы ставил мне не только очерствевший в Боге доктор, ставили их и приходившие в Ермолаевские номера поговорить со мною о воспитании детей матери и жены, запутавшиеся в брачной жизни, и молодые люди, ищущие смысла жизни.
Смешно подумать, но даже на каком–то гимназическом балу, куда меня затащили мои слушатели, какая–то весьма энергичная ученица старшего класса, «убежденная индивидуалистка», взволнованно доказывала мне, что я, защищающий начала личности и свободы, обязан пойти к ее отцу и убедить его, что он не смеет препятствовать ей строить свою жизнь по собственному разумению. Требование было предъявлено с такой страстностью и нравственною серьезностью, что мне пришлось познакомиться с родителями моей клиентки и сделать все возможное, чтобы добиться от отца разрешения отпустить дочь в Москву на Высшие курсы.
Как ни много давали мне лекции, устраиваемые Грациановской запятой, большее нравственное удовлетворение я получал от своего преподавания на губернских и уездных учительских курсах. Слушателями были почти исключительно учителя и учительницы, большинство которых съезжалось в Нижний из разных медвежьих углов. Настроение (у молодых, в большей степени, чем у старых, и у женщин в большей степени, чем у мужчин) было праздничное: в «храм науки» трудовая интеллигенция верила с такою же страстностью, с какой отрицала церковь. Татьянин день, день основания Московского университета, был ее престольным праздником. Читал я на учительских курсах в радостном ощущении того, что воля и вера моих слов действительно доходят до внимательной и восприимчивой аудитории, чувствующей мою любовь к ней. По окончании лекций «благодарные слушатели» поднесли мне адрес, составленный в очень теплых выражениях, и серебряный бокал с изображением оленьей головы и выгравированною под нею трогательною надписью.
Идейные нижегородцы, вроде Настасьи Петровны и Мишенькиных, не раз давали мне деликатно понять, что я напрасно отдаю часть своего времени недостойным меня, по их мнению, людям: всяким разбогатевшим на купеческих хлебах юрисконсультам, околачивающимся около нервных барынек врачам, снобистическим купчикам с артистическою жилкою, актерам, служившим у Медведева, одним словом тому буржуазному гнезду, главными представителями которого считались дружившие друг с другом дома присяжного поверенного Лунина и эффектнейшего по внешности женского врача Струнского, сводившего с ума всех своих пациенток. В этих благожелательных намеках бесспорно была некоторая доля правды. Не обедай я у Луниных, не ужинай я у Струнских, не езди я вместе с Вовкой Блюменталь–Тамариным, талантливейшим актером и талантливейшим кутилой, за город, я, конечно, сделал бы для дела просвещения гораздо больше того, что сделал. Но, во–первых, я был молод и жаден до всех впечатлений жизни, а во–вторых, я отнюдь не был «идейным русским интеллигентом». Органически чуждый как всякому фанатизму, так и всякому фарисейству, я с большим удовольствием проводил вечера после лекций то у одних, то у других знакомых; рассказывал о загранице, спорил о постановках Художественного театра, слушал цыганские романсы, читал стихи и наслаждался тем оживлением, которое вносил в общество. Как–то на войне, во время веселой пирушки один из товарищей по бригаде, в мирной жизни ученый–экономист, до слез смеясь над каким–то моим рассказом и утирая глаза, сказал мне: «Ах, Федор, Федор, какой бы из тебя вышел ученый, если бы ты родился заикой!»
Помню свой последний отъезд из Нижнего. Приехав задолго до отхода поезда на вокзал, я стоял у открытого окна своего вагона и разговаривал с провожавшими меня слушателями, среди которых был и доктор Грацианов с женой и Мурашовым. Вдруг в дверях буфета первого и второго классов появилась веселая компания Луниных, Впереди, откинув назад свою красивую голову, не без торжественности выступал доктор Струнский, с большим покрытым салфеткой подносом в руках; на подносе пенились бокалы с шампанским. Около доктора суетились два лакея с запасными бутылками подмышкой. Шествие направлялось к моему вагону. Я вопросительно и смущенно взглянул на Грацианова: такой «Паратовский», волжский, апофеоз моей просветительной деятельности был бы все же почти неприличен. Грацианов спросил кого–то, в чем дело, и, приподнявшись на цыпочках к моему окну, успокоительно произнес: «В этом же вагоне едет Плевицкая; пела она вчера, говорят, замечательно: стулья ломали. Вот наши жеребцы и пришли провожать».
Раздались бурные аплодисменты. Голова Плевицкой появилась, к моему удивлению, в окне соседнего купе. Струнский, уже издали заметивший меня, поднес первый бокал Плевицкой, второй мне и, представив меня Надежде Васильевне, попросил у нее разрешение перейти «философу» в ее купе. «В одной раме удобнее чествовать наших знаменитостей». Вставив меня с Плевицкой «в одну раму», Струнский, слава Богу, забыл обо мне.
К веселой компании за те четверть часа, которые оставались до отхода поезда, вероятно, пристало довольно много никому неизвестных, случайно находившихся на вокзале людей. Во всяком случае, количество поднятых после третьего звонка бокалов показалось мне что–то уж очень большим.
Свисток. Поезд трогается, раздаются возгласы: «Спасибо, спасибо, никогда не забудем, приезжайте скорее опять».
Когда платформа исчезла из глаз, я, откланявшись, собрался было вернуться в свое купе, но Плевицкая, познакомив меня со своим мужем, маленьким невзрачным человеком, и со своим восточного вида аккомпаниатором Зарембой, предложила поси–деть вместе. Я охотно согласился на предложение знаменитой песельницы, о сказочной карьере которой (деревенская нищета, монастырь, выступление на Нижегородской ярмарке, случайная встреча с Собиновым – и в результате всероссийская известность чуть ли не в три месяца) я уже много слышал от своего приятеля, артиста Малого театра Ленина.
Посидев с нами с полчаса, муж Надежды Васильевны выдал ей, что меня очень поразило, три рубля на ужин и завалился на верхнюю полку спать. Поначалу я больше говорил с Зарембой. Плевицкая, думая о чем–то своем, как будто рассеянно прислушивалась к нашим голосам. Но вдруг она с живостью, свойственной всему ее существу, спросила меня, какую я науку читаю. Я ответил, что философию.
– Философию, – повторила она и помолчав прибавила. – Что такое философия я, по правде сказать, не очень знаю, но только философа я себе не таким представляла, как вы. Думала, почему–то, что все они старые, бородатые, очкастые и пальцем перед носом грозят. – И она забавно приставила палец к своему носу. – Так что же это такое ваша философия, расскажите, авось, пойму.
Я начал рассказывать просто, но серьезно. Она слушала очень внимательно, повороты и переходы моей мысли ясно отражались в ее умных глазах под слегка наморщенным лбом.
– Очень вы хорошо рассказываете, чаще такое бы слушать, оно и петь можно было бы лучше; ведь я в темноте выросла… и хорошо вы со мной говорите. Сейчас мужчины за мной, как слепни, увиваются, всем я нужна, а никому до меня дела нету. А вы до души внимательны и легко с вами. Может, зашли бы как–нибудь ко мне, очень буду рада еще поговорить с вами.
Таких близких отношений с аудиторией, как в Нижнем, у меня в других городах не создалось, да по редкости моих выступлений в них и не могло создаться. По два раза я выезжал только в Астрахань и Царицын, читая каждый раз по 2–3 лекции. В остальных же городах я читал по одному разу.
Народ на лекции всегда собирался охотно, слушали во всех городах внимательно, читалось легко. Наиболее живо во мне впечатление от Астрахани. Поначалу ужасное, к концу приятное.
Приехал я в Астрахань под вечер. Снял номер в мрачноватой гостинице. Поужинав, я только что сел за просмотр своего конспекта, как ко мне постучался жирный, грязный швейцар и, нагло подмигнув, спросил, не привести ли мне «гимназисточку», есть «охочие». Получив отказ и не получив на чай за усердие, он вышел явно разочарованный и недовольный.
Встав на следующее утро довольно рано, я решил пойти осмотреть город и первым делом направился к гавани: грязь, толчея, крик, запах рыбы, керосина и всякой тухлятины; оборванные русские крючники, плосколицые, скуластые монголы (калмыки, киргизы, татары), шустрые черные евреи, потные нечесанные вихры, заломленные картузы, тюбетейки на бритых головах, китайские косы, ушастые шапки и котелки в муке, живописные восточные халаты, рубахи, пиджаки – во всем дикий, пестрый перевал из Европы в Азию, размашистая торговля и ужасающая нищета.
«Что мне делать и как тут читать?» – думал я, стоя перед громадною афишей, оповещавшей астраханцев о моей лекции.
За день мои сомнения, однако, рассеялись. По дороге к присяжному поверенному Сацу, брату известного композитора Московского Художественного театра, к которому был приглашен обедать, я убедился, что не все кварталы Астрахани этнографически столь пестры и живописны, как гавань. Так как Сац жил недалеко от музея, в котором я должен был читать (центральное место было в нем отведено экспонатам по рыбоводчеству и рыболовству и городской библиотеке), я решил зайти и туда и сюда и хорошо сделал, так как меня там уже поджидали. Здесь Астрахань повернулась ко мне своею другою стороною. Музейный зал оказался весьма приличным помещением, библиотека – хорошо составленным идейным учреждением. Выходя из библиотеки, я уже знал, что в городе есть живая, интеллигентная публика и что лекции охотно посещаются не только служащими, но и передовыми рабочими Нобелевских котельных заводов.
Милая, радушная, многими нитями тесно связанная с Москвой семья Сацов подтвердила мне полученные в музее сведения. После славного обеда, начавшегося с пресной, крупной седой икры, которую здесь ели не чайными ложками, а десертными, я ушел в гостиницу и обласканным и обнадеженным.
Собравшаяся вечером в большом количестве публика вполне оправдала вызванные во мне надежды. В ней не было той социально–политической напряженности, того интеллигентского нерва, которые, в связи с борьбою короленковцев и горьковцев, определяли собою психологию нижегородской аудитории, но все же в ней чувствовалась живая тяга полуазиатской провинции к далекой Москве с ее концертами, театрами и лекциями.
Кто, собственно, устраивал астраханские лекции, я не знаю; помню только, что я все время был окружен семьею Сац, двумя рыбопромышленниками, из которых один был весьма православным, старозаветным русаком, а другой весьма светским, щегольски одетым красавцем–армянином и еще «пресным моряком», т. е. начальником водной дистанции, веселым человеком, типично русско–офицерской выправки, но балтийско–немецкого происхождения. Думаю, что эти весьма разнотипные люди и были членами астраханского лекционного комитета. Если это предположение верно, то роли ясно распределялись следующим образом. Сац был идейным руководителем всего дела, рыбопромышленники – довольно прижимистыми финансистами, а начальник водной дистанции – прекрасным администратором, способности которого я оценил на веселом вечере, устроенном им после лекции.
Как всё в довоенной России, так и провинциально–лекционные организации были всюду разными, мало похожими друг на друга. Всё зависело от случайного подбора общественных работников, от характера местной полицейской власти, от наличия подходящего помещения и от целого ряда других, неуловимых причин.
В Царицыне могла бы развернуться настоящая работа, но что–то этому мешало. Уже почти достроенный Народный дом осиротело замер в лесах. Кто–то, помнится, мне его показывал, что–то мне о нем рассказывал, но так безучастно, что у меня в памяти ничего не осталось.
В Казани я читал в университетской аудитории; в, первом ряду сидели профессора: отец и сын Васильевы и молодой историк, фамилию которого я забыл. Было много студентов и курсисток – уровень аудитории был выше, чем в Нижнем, не говоря уже о других городах. Читая, я жалел, что не учел того, что Казань университетский город, в котором можно было бы читать глубже и строже, чем в других городах Поволжья. После лекции в Казани во мне снова усилилась мечта об университетской карьере. Философ Васильев, представитель «логистики» в философии, вскоре после моей лекции посетил меня в Москве и начал сотрудничать в «Логосе».
Прощаясь с Волгой, не могу, грешный человек, не вспомнить моих частых обедов на пристани: белые пароходы, белые чайки, перламутровые стерляди с зеленой петрушкой во рту, желтые ломтики лимона, золотистый «Haut-Sauternes» в стакане, солнечные полуденные блики по всей шири реки – ах, как хорошо было! И не потому только, что у меня вся жизнь была впереди, а потому, что в жизни было меньше зла и безумия, чем теперь.
Очень отрадное впечатление осталось у меня от Пензы. На вокзале меня и мою мать, которая иногда ездила со мной, встретил весьма франтоватый гимназист восьмого класса. В легком крене фуражки, в белых замшевых перчатках в левой руке, в офицерском растопыре пальцев у козырька «головного убора» было нечто подчеркнуто военное. «Откуда это?» – подумал я, здороваясь со щеголем. Проводив нас в гостиницу, Николай Димитриевич Волков, впоследствии дельный театральный критик, автор интересной монографии о Мейерхольде и сценария «Анны Карениной», показ которой Московским Художественным театром на Всемирной Парижской выставке в 1937 году произвел на меня, несмотря на некоторые недостатки спектакля, громадное впечатление, – учтивейше пригласил нас отобедать у его родителей. Идя к Волковым, я думал, что попаду в какой–нибудь реакционно–чиновничий дом. Предположение это оказалось, однако, ошибочным. Недалекий путь от гостиницы к Волковым привел нас в типично интеллигентский дом зажиточного присяжного поверенного, где, кроме хозяев, нас уже ждали административно высланный экономист Громанн, занявший впоследствии крупный пост в Советской России, и философ Богданов, близкий немецким эмпириокритицистам, социал–демократ. Наружность Волкова–сына оказалась таким образом не наследственною, а скорее полемическою: протестом четкого юноши 20–го века против внешней и внутренней ватности людей 19–го века.
Уже первая лекций прошла с большим успехом. Отец Волков говорил, что на вторую придет больше народу и прием будет еще теплее. Он не ошибся. Аудитория психологически была ближе к нижегородской, чем к астраханской. Думаю, что если бы не война, у меня с пензяками сложились бы такие же сердечные отношения, как с нижегородцами.
В Пензу я приехал с моей матерью; страстно привязанная ко мне, она делала все, что могла, чтобы не только издали следить за моей жизнью, но, несмотря на то, что я был уже вторично женат, как можно интенсивнее участвовать в ней. Мысль, что я в качестве ученого и лектора все глубже врастаю в совершенно незнакомый ей мир и знакомлюсь с большим количеством людей, остающихся ей неизвестными, была для нее непереносима. По ее мнению, она, родившая и вскормившая меня, главное же, взявшая против желания отца на свою личную ответственность отправку меня заграницу для изучения философии, имела неотъемлемое право стяжать вместе со мной «мои лавры».
Думая о Пензе, я с удовольствием вспоминаю свои беседы с горячим, остроумным и пленительным Громанном и мое утреннее посещение Богданова: его благородную, красивую голову и его мягкую и толерантную манеру спорить. Вспоминаю я, наконец, и чистенькую, кругленькую старушку в деревянном домике дикого цвета, у которой мы с матерью покупали знаменитые пензенские платки. Боже, каким миром веяло от ее маленькой комнатки со множеством темных, старых икон в углу и большим шкафом, доверху набитым белоснежными, пушистыми платками, – от ее живых глаз в добрых морщинках и быстрых пухлых рук, которыми она любовно развертывала перед нами свои изделия, цену которым она очень хорошо знала и цепко отстаивала.








