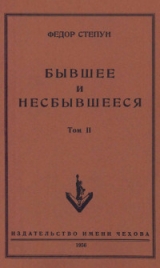
Текст книги "Бывшее и несбывшееся"
Автор книги: Федор Степун
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 46 страниц)
Наша лагерная жизнь начиналась в дни, когда не было особых занятий, скорее по–дачному, чем по–военному, часов в 7, а то и в 8 утра. Разбуженные денщиками, мы еще в полусне закуривали. Накурившись и обменявшись утренними мыслями о вчерашнем дне, мы шли на крыльцо умываться, где нас уже ждали денщики с полотенцами у табуреток с тазами. Сильная струя холодной воды приятно лилась на шею, голову и грудь. Вокруг крыльца на легком ветру шепотно шелестели молодые березки. В такт покачивающимся веткам на вытоптанной перед крыльцом площадке и на деревянной лесенке переливалась сетчатая зыбь сине–желтых пятен. Голубело высокое небо; в нем нежно истаивали быстрые, перистые барашки и звенел жаворонок. Пахло жасмином и самоварным угольком. В лесу за задней линейкой свирелью заливалась иволга… Мы не спеша распивали чай со сливками и свежими калачами. По пути на занятия к нам подходили вольноопределяющиеся и офицеры других батарей выпить за компанию еще стаканчик чаю под последнюю папиросу… На земле мир и в человецех благоволение.
Занятия в парке были и непродолжительны, и несложны. Стоя за хоботами своих орудий, мы механически повторяли команды занимавшегося с нами офицера и время от времени по его же приказу проверяли точность наводки и правильность трубки. Проверка большого смысла не имела. Опытные наводчики, да и все «номера», знали свое дело много лучше нас.
Основным содержанием занятий было, что греха таить, как для нас, так и для солдат, ожидание обеда, приятное ощущение стекающего к нему времени. Обедали мы в офицерском собрании, в просторном, прохладном помещении. Здесь, у буфетного прилавка, «сбор всех частей» начинался чуть ли не за час до обеда. От нечего делать каждый спешил заблаговременно пропустить по одной, другой, а то и третьей рюмке и закусить селедкою, или соленым рыжиком. После обеда расходились не сразу. Кто пил чай «с лимончиком», кто кофе «с коньячком». Разговоры оживленно вертелись или вокруг любовных приключений, причем рассказывались крепкие анекдоты, или вокруг предстоящих производств и награждений. Когда все уже было съедено, выпито и рассказано, когда ничего не шло больше в глотку и ничего не просилось с языка, все шумно вставали и не спеша, потягиваясь, позевывая, позвякивая шпорами и похлестывая стэками по голенищам сапог, расходились по своим баракам. – Над военным лагерем повисала обломовская сонь.
К четырем часам крылечки опять оживали. Снова появлялись самовары; в жару – херес с сельтерской и лед. От пяти до семи шли опять занятия; иногда, как и утром – в парке, а иногда теоретические – в собрании. Во время этих занятий все с нетерпением ожидали ужина. После ужина на дорожках лагеря появлялись оседланные лошади. Изящно играя плечами и бедрами, господа офицеры отправлялись в Клементьево послушать музыку, потанцевать, поухаживать и поиграть в карты. Мы, нижние чины, в Клементьевское собрание не были вхожи, там царил генералитет.
Парковые занятия заменялись иногда конными учениями, мало чем отличавшимися от коломенских. Весь смысл лагерного сбора сводился, таким образом, только к учебным стрельбам, в особенности к тем ответственным, на которых присутствовало высшее военное начальство.
С радостью вспоминаю суету, волнение и распекание перед этими стрельбами; их красоту, их блеск, наблюдательную вышку, огромный флаг на ней, генеральские мундиры, светлые дамские платья и зонтики, подзорные трубы, бинокли, музыку и себя самого в качестве ординарца генерала Иваненко.
Имели ли эти стрельбы большое учебное значение – мне судить трудно. Все же склонен думать, что лишь очень малое: все полигонные дистанции были спокон веков измерены, все цели, появлявшиеся всегда в тех же ложбинках и перелесках – пристрелены, все неожиданности исключены. Сами батарейные командиры смотрели на большие учебные стрельбы прежде всего как на военные парады. На парадах не работают и не экспериментируют, а лишь выставляют напоказ давно усвоенное мастерство. Я сам трижды стрелял на Клементьевском полигоне – все три раза вполне удачно; тем не менее в Галиции сразу же выяснилось, что я ничего не смыслю в стрельбе. Но что говорить обо мне, прапорщике–философе, когда наш командир, старый кадровый полковник, пристреливаясь во время первого боя на Ростокском перевале, выпустил по своей собственной пехоте несколько десятков шрапнелей. Это ли не доказательство, что в наших блестящих учебных стрельбах было больше показного парада, чем реальной работы.
Забегая вперед, должен сказать, что после отбытия лагерного сбора, я сразу же уехал в Гейдельберг изучать философию. Там и застала меня Японская война. Далекая и непопулярная, приветствуемая разве только в революционно–пораженческих кружках, к которым я не принадлежал, она переживалась мною как–то весьма отвлеченно. Мысль о призыве не приходила в голову. И вдруг, среди семестра, бумага из консульства в Карлсруэ с приказом немедленного возвращения в Россию. Ответить на вопрос, вызывался ли я для отбытия очередного лагерного сбора, или для зачисления в действующую армию я, странным образом, не могу. Если предположить первое, то непонятно, почему бумага оказалась для меня полною неожиданностью; если второе – то еще непонятнее, почему она не произвела на меня ни малейшего впечатления. Скорее всего, что из текста полученной бумаги и из моего разговора в консульстве нельзя было сделать ни того, ни другого вывода. Шанс попасть на фронт, во всяком случае, имелся, но он меня не радовал и не печалил, вероятно, потому, что со словом война я не связывал никаких определенных представлений. Блаженное было время. Как страшно во зле состарился мир!
По прибытии в Москву я сразу же отправился к своему воинскому начальнику в уездный город Бронницы, в котором в то время было не больше трех тысяч жителей. Среди офицерства Бронницы, где всегда стоял парк коломенского мортирного дивизиона, пользовались весьма дурною славою. Командиры парка там постоянно спивались, а один даже лишил себя жизни от безысходной бронницкой скуки.
Воинский начальник, знакомый мне еще с 1901–го года, высокий старик с длинною сиво–желтою от табака бородою, с громадными мешками под глазами, был на редкость живым воплощением мертвящей провинциальной тоски. Ему было решительно на все и на всех наплевать, так как он не видел ни малейшего смысла ни в своей собственной жизни, ни в жизни кого–либо из других смертных. Единственною и то тусклою радостью его пребывания на земле было причинение неприятностей людям, с которыми ему приходилось сталкиваться по службе. В грязной канцелярии этого озлобленного служаки я узнал, что коломенский мортирный дивизион уже погрузился, а дивизионный парк ждет приказа о погрузке, я же перечислен в другую часть, пока что стоящую в клементьевском лагере, куда мне и надлежит немедленно явиться. Осведомившись, кто командует парком, и услышав, к своей большой радости, что его недавно принял старший офицер второй батареи, только что произведенный в подполковники, Головин, я в самом радужном настроении отправился к нему.
Головин сидел за большим столом в просторной парковой канцелярии, завешанной и устланной новыми военными картами в темно–коричневых пятнах. Узнав, что я только что из заграницы, он поспешно закрыл окно на улицу и, закурив папиросу, начал с жаром расспрашивать меня, что говорят в Европе о войне и какого ожидают конца. Несмотря на свой мундир, Головин весьма откровенно громил правительство, возмущался всюду господствующим разгильдяйством и не без юмора доказывал, что трудно выиграть войну, когда мобилизация проводится чучелами, вроде нашего воинского начальника, а карты присылаются в части такими загаженными и подмоченными, что их приходится высушивать, как детские пеленки.
Н–ая артиллерийская бригада, в которую я был назначен, стояла лагерем не в полном составе. Две или три батареи находились уже в пути на фронт. Батареи состояли всего только из четырех старотипных орудий, замена которых более усовершенствованными ожидалась со дня на день. Конский состав был тоже не полон и из рук вон слаб. Все это, вместе с неуверенностью в завтрашнем дне, создавало настроение, при котором всем как–то не работалось. Батарейные, один как другой, считали, что в последнюю минуту все равно ничему не выучишься, что заниматься при старых орудиях накануне получения новых – бессмыслица; гонять же лошадей на стрельбу и конное учение, рискуя, что они перед самым выступлением спадут с тела, – прямое безумие. Кое–какие занятия, конечно, шли своим чередом, но на них не производилось ни малейшей работы. Страшно подумать, какой позор обрушился бы на Россию, если бы мы вступили в Великую войну, не пережив поражения 1905–го года.
Я никогда не изучал вопроса о том, что после злосчастной японской кампании было правительством предпринято для повышения боеспособности русской армии, но по личному опыту могу сказать, что дух лагерного сбора в 1911–м году выгодно отличался от того, чему мне пришлось быть свидетелем в 1904–м. В 1911–м году в Клементьеве велась живая, напряженная и весьма интересная работа. Упражнения при орудиях в парке и конные учения были почти совершенно сведены на нет. Все было сосредоточено на учебной стрельбе. В качестве большой новости была введена разведка. До сих пор с неприятным смущением в душе вспоминаю впервые полученное мною от внезапно прибывшего на полигон начальника лагерного сбора, генерала Булатова, задание исследовать указанную мне на карте местность: нанести позиции для батарей и для парков, выяснить количество жителей, лошадей, рогатого скота, фуража и колодцев в прифронтовых деревнях.
В чтении карт я был не очень тверд. Быстро и небрежно набросанное мне его превосходительством расположение наших и вражеских частей я от волнения и растерянности сразу не запомнил и потому, сев на лошадь, с места же двинулся со своими двумя ординарцами в неверном направлении. Доклад я представил весьма недостаточный, за что генерал, хорошо усвоивший себе огорашивающие приемы известного правдолюба и правдореза Драгомирова, подверг по окончанию занятий не только меня, но и моего командира вполне справедливому, но уж очень грубому, разносу. Генерал Булатов, как и инспектор артиллерии, высокий, выхоленный, изысканно–учтивый, а иногда и изысканно–ядовитый профессор военной академии генерал Тихонравов, были прекрасными теоретиками. Их разборы стрельб доставляли даже мне, никогда не увлекавшемуся теорией, некоторое удовольствие. Тихонравовские анализы были много приятнее тем, что профессор никогда не повышал голоса, в то время, как похожий на усатого бульдога желтолицый бурят Булатов, при случае, и со старых полковников, что называется, «спускал штаны». В 1911–м году полигонным обсуждением стрельб дело не кончалось. Полигонные разборы разбирались еще и побатарейно, под руководством старшего офицера, а то и самого командира, полковника Щеглова, о котором я сохранил наилучшее воспоминание. Еще перед началом занятий он заявил нам, что просит господ прапорщиков как можно ближе познакомиться с людьми своих взводов; узнать, каких они губерний, чем занимаются дома, женаты или холосты, грамотны или нет. Я с радостью выполнил его требование и сразу же оценил его разумность. В 1911–м году я, главным образом, потому с гораздо большей охотой ездил на стрельбы, чем в предыдущие сборы, что твердо в лицо и по имени знал своих нижних чинов и чувствовал себя среди них, как в своей семье. Как легко было бы уже раньше ввести в армии все эти разумные меры. Очевидно верно: пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Слава Богу, что после Японской войны высшие власти перекрестились и взялись за ум. О том, как новая постановка дела отразилась на духе армии в Великую войну, речь еще впереди…
Среди воспоминаний о печальной памяти 1904–м годе, особенно яркими и позорными пятнами горят два дня, вернее вечера.
Большой танцевальный вечер, почти бал, начавшийся после окончания скачек с традиционного ужина в офицерском собрании, развертывался с необычайной веселостью. Бригадный оркестр гремел громче, чем нужно, изо всех сил стараясь раздуть плясовые вихри в ногах и душах танцующих. С каждым танцем настроение в зале подымалось все выше и выше: к полуночи кавалеры уже не подходили к дамам, а с каким–то особым раскатом, как будто на коньках, подлетали к ним. Полковые дамы (жену ветеринара, мнившую себя великой артисткой, я встретил в последний раз в 1920–м году оборванную и голодную на Страстном бульваре, она сообщила, что муж расстрелян и просила по знакомству устроить ее в какой–нибудь районный театр) подымали руку на плечи своих кавалеров с совершенно неописуемой небрежностью и истомой. Матерые дон–жуаны, по Чехову «сеттера», все чаще умыкали своих дам в черную после бальных огней глубину парка. Среди них особою «мертвою» хваткой славился подполковник Толмачев, о котором рассказывали, что, будучи в молодости страшным пьяницей, он протрезвляться всегда приходил на конюшню. По его приказу солдаты крепко приторачивали его к неоседланной лошади и, нахлестав, пускали ее в поле. Через четверть часа «всадник» приносился карьером к конюшням. От хмеля не оставалось и следа.
Чуждый всеобщему веселью, мрачною тенью по залу и саду маялся лишь один человек, полковник Воронихин. В его молодую жену был с успехом влюблен хорошенький поручик. Я был единственным поверенным несчастного полковника, честная, простая и горячая душа которого никак не справлялась с нахлынувшим на него несчастьем.
Боясь, как бы не вышло непоправимого скандала, я упросил полковника пройтись со мною прогуляться. Гуляли мы с ним до самого рассвета.
Когда мы вернулись в собрание, там дым стоял коромыслом. В настежь раскрытых дверях фыркала выигравшая скачки кровная гнедая кобыла, которую несколько человек старались напоить шампанским. Недавно переведенный в нашу часть из глухой провинции меланхоличный штабс–капитан неистово размахивал дирижерскою палочкой, требуя, чтобы музыканты играли «его душу» и грозился всех поставить под ранец, если он снова услышит вальс. Знаменитый в будущем актер Малого театра, красный от вина и напряжения, расстегнув мундир, кричал на весь зал свой коронный номер – стихи Огарева: «Чего хочу? – всего. О, так желаний много!»… Прекрасный в трезвом виде, очень серьезный строевой офицер водил на веревке «святые мощи» – длинного малоголового подпоручика и кропил из никелированного ведра по всем углам и по задрызганным столам святою водою вдовы Клико…
Я ни минуты не думаю, что во время войны офицерам, солдатам да и всем другим нельзя ни вкусно есть, ни весело жить, ни танцевать и ухаживать – все это дело житейское. В 1914–м году, наша наголову разбитая Макензеном под Горлицами 12–я Сибирская стрелковая бригада вела во время своего вынужденного месячного отдыха в Куртенгофе под Ригою очень веселую и праздную жизнь. Гостиница «Рим» доставляла нам прекрасные вина, закуски и дичь. Так же, как и в Клементьеве, по вечерам гремел оркестр и кружились в собрании пары. Тем не менее все это было совершенно не похоже на Клементьево 1904 года. В каком–то сниженном и совсем не патетическом смысле наше куртенгофское веселье было все же некиим «пиром во время чумы». О, конечно, без малейшего упоения бездною, но со скорбным прислушиванием к ее приближающемуся гулу. В Клементьеве к этому гулу никто не прислушивался. Страшные сведения с фронта не вызывали, конечно, в офицерстве) того злорадства, с которым они встречались в радикальных кругах гейдельбергского студенчества, но они не вызывали в нем и живой патриотической тревоги. Судьбами России в Клементьеве мало кто болел. И уже во всяком случае никто из нас, господ офицеров, не испытывал ни малейшего стыда перед мужиками–солдатами за ту нерадивость и неумелость, с которою мы защищали народную честь и державные интересы России на Дальнем Востоке.
Японская война стояла в центре внимания нашей лагерной жизни всего только один раз, в вечер чествования штабс–капитана Ковалева, отправлявшегося добровольцем на фронт.
С утра душила сухая жара. Занятия были отставлены. Солдаты спасались под запыленными кустами. Лошади с трудом дышали под навесами. Мой сосед по бараку, тот самый штабс–капитан, который требовал от оркестра исполнения своей души, сидел без рубашки в одних кальсонах на своей койке и дуя бутылками мятный квас, без всякого выражения тупо барабанил: «жил–был поп, у попа была собака, он ее любил, она съела кусок мяса, он ее убил и в землю закопал, и надпись написал: жил–был поп, у попа была собака» и т. д. без конца.
Я с газетой в руках, полной нерадостных известий, сидел в березках под крыльцом, на котором несколько приятелей по маленькой резались в преферанс. В предчувствии хорошего ужина, обильного шампанского и в качестве веселого номера застольной речи командира бригады, мы все, как манны небесной, ждали освежающей грозы. Она разразилась лишь к вечеру, но зато со страшною силою. Потопный ливень закончился злым градом, сразу же превратившим летний день в позднюю осень. К восьми часам вечера мы шли в собрание по совершенно размытым дорожкам. Моросил унылый дождик.' Мой штабс–капитан был счастлив: из своей провинции он вывез убеждение, что забористо и «с пользой для организма» можно пить только холодными, дождливыми вечерами.
В собрании было очень оживленно и шумно. Кроме своих офицеров, было много приглашенных из других частей. Уверен, кого бы со стороны ни спросить, кто здесь доброволец, никто не указал бы на штабс–капитана Щукина. Его большое, но дряблое тело, его мясистое, кислое, заросшее до скул бородой лицо никак не вязалось с представлением о войне и подвиге.
На председательском месте за обеденным столом сидел командир бригады, известный совершенно непонятным пристрастием к произнесению прочувствованных застольных речей: он не обладал ни тонкостью чувств, ни даром речи. Хорошо помню его квадратную лысину, его грузные плечи и пухлые, красные пальцы на скатерти. Помню все, кроме лица. Рядом с его превосходительством сидел известнейший не только среди московского офицерства, но и среди московских артистов штабс–капитан Гессель, не только остроумнейший собеседник и блестящий рассказчик анекдотов, но и первоклассный актер, не раз, с риском сесть под шары, выступавший вместе с профессионалами казенной сцены на Нижегородской ярмарке. В связи с его местом за столом и его причастностью к литературе, на него само собою падала задача подсказывать его превосходительству нужные слова, когда оно по своей привычке начнет запинаться. Как и ожидалось, генерал, как только наступил соответствующий момент, величественно приподнялся со своего места и, подняв бокал, начал одну из тех застольных речей, от которых всем сразу же становится как–то не по себе. Тут был и щит победителя, на который оратор подымал шестипудового капитана, и Георгий Победоносец, пронзающий копьем желтого, косоглазого дракона, и лицемерная похвала доблестному офицеру, нашему славному капитану Щукину – одним словом все, без чего не обходится ни одна торжественная начальническая речь.
Отговорив, генерал в приятном чувстве удачно исполненного долга достойно опустился на стул. Нарушенное его речью веселье снова заходило по залу.
Когда шампанское было снова разлито по бокалам, со своего места поднялся для ответа его превосходительству герой торжества. Он был сильно на взводе и, кроме того, в том отчаянном настроении, при котором человеку нечего терять. «Ваше превосходительство, – начал он высоким, бабьим голосом, – позвольте от души поблагодарить вас за оказанную честь и начальническое доверие, но позвольте и по совести доложить: отнести ваших слов к себе не смею». Это было настолько неожиданно, что все разом повернулись к оратору. Честный и прямой штабс–капитан действительно не вынес незаслуженной похвалы и с пьяными, но чистосердечными слезами на глазах покаялся перед всеми нами, что вызвался добровольцем на фронт не ради родины и Георгия, а исключительно из–за повышенного оклада, так как у него больная жена, дети и куча родственников на шее.
Скажут: достоевщина. Но разве ее так мало в России, что приходится ей удивляться? Разве мы не читали еще недавно в «Известиях» покаянного письма товарища Тишкина, председателю райисполкома, кончавшегося словами: «Прошу нам помочь и нас наказать немедленно, сами выйти из положения не можем, пьем и грабим».
Что отвечал генерал на покаянную искренность своего героя, я не помню. Как только ужин кончился, я ушел в свой барак спать. На следующий день за обедом товарищи рассказывали, что несколько офицеров отправились в деревню Вандово будить прачечное заведение, но что девушки не вышли. После этого господа офицеры ударили в пожарный колокол, но, испугавшись своей смелости, как школьники бегом пустились к лагерю.
Русская армия, ее Верховный главнокомандующий, ее доблестные офицеры – достаточно вспомнить Крыленковскую расправу с генералом Духониным и эвакуацию Крыма – такою страшною ценою заплатили за грехи прошлого, что для каждого русского человека, в особенности для русского офицера, было бы величайшим счастьем не возвращаться памятью к тому темному прошлому, поругание которого все еще продолжает быть любимым занятием всех злостных хулителей русской чести. Но что же делать? Как из песни не выкинуть слова, так и из революционной трагедии России не выкинуть вины разбитой японцами старорежимной армии.
Необходимость внутренне осилить всё, что с нами произошло, неумолимо требует от нас осознания и этой вины. Единственное, что каждый из нас, бытописателей бывшей России, должен строго требовать от себя, это то, чтобы в его воспоминаниях была правда, а в обличениях не злоба, а скорбь. Хочется верить, что эту правду и эту скорбь услышат в моих воспоминаниях и те белые офицеры, которым уже давно ясна черта, отделяющая священную белизну первопоходной идеи от той нудной белоэмигрантской идеологии, которая в своей фарисейски–мелочной ненависти к советской власти нераскаянно славит не только подвиги, но и грехи прошлого, мешая тем самым возрождению России.








