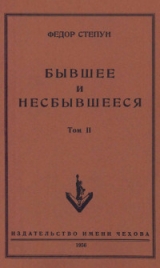
Текст книги "Бывшее и несбывшееся"
Автор книги: Федор Степун
сообщить о нарушении
Текущая страница: 28 (всего у книги 46 страниц)
Конечно, Временное правительство, пожертвовав Милюковым и обнародовав свой миролюбивый манифест, сделало очень много в этом направлении, но солдатской массе этого не было видно. На постоянно задаваемый солдатами вопрос: «что же нам до тех пор и воевать, пока немцы с союзниками не сговорятся?» у нас, фронтовых деятелей, не было удовлетворяющего солдат точного ответа. Убедить солдат в серьезном («без подвоха») стремлении Временного правительства к миру, могли только две вещи: отказ от наступления и указание срока прекращения войны.
Под влиянием этих размышлений во мне как–то сам собою сложился следующий план правительственных действий: 1) объяснение союзникам, что Россия, принципиально отказываясь от наступления, держит фронт еще некоторое время (3–4 месяца), после чего, в случае неоткрытия общих мирных переговоров, обращается непосредственно к центральным державам с предложением сепаратного мира; 2) срочный созыв Учредительного собрания, хотя бы и без достаточной юридической подготовки (быстрое осуществление революционной правды мне представлялось, ввиду положения на фронте и в стране, гораздо важнее тщательной разработки выборного права, тем более что солдатско–крестьянская масса жила страхом, как бы ей под крики «земля и воля» не прозевать своей земли); 3) мужественная и быстрая ликвидация большевизма путем ареста, а при каких–либо неожиданных осложнениях применение и более строгих мер.
Вполне достаточным для принятия таких крутых мер основанием мне представлялось то, что стреляя, к тому же из засады по правительственным комиссарам и штурмовым батальонам, большевики сами переводили себя из лагеря политических противников власти, которым гарантировалось свободное высказывание мнения, в лагерь вооруженных врагов, с которыми, в условиях гражданской войны, расправляются по–военному.
Об этом своем плане действий я впервые обстоятельно говорил в Каменец–Подольске с кем–то из членов Исполнительного комитета, если не ошибаюсь, с Шапиро, выступавшим на съезде с докладом о власти. Думаю, что содержание нашей беседы стало известным стоявшему близко к Керенскому Станкевичу, благодаря чему я и был вызван последним в Петроград в связи с его назначением на должность начальника Политического отделения в кабинете военного министра. Было это, вероятно, в конце мая, или первых числах июня.
Переговорив со Станкевичем, я не без некоторых колебаний решил принять должность заведующего Культурно–просветительным отделом Политического отделения. К этой должности присоединилась и вторая. Второго июня я был назначен редактором политического отдела «Инвалида», который мне, ввиду несоответствия этого названия той новой роли, которую почтенный бюрократический орган военного министерства должен был играть в жизни армии, представлялось правильным переименовать в «Армию и флот свободной России».
Впоследствии, в конце июля, в связи с назначением Савинкова управляющим военным министерством и уходом Станкевича на фронт, я занял его должность руководителя всего Политического отделения.
Для понимания дальнейшего должен подчеркнуть, что Политическое отделение военного кабинета к моменту моего назначения его начальником, было преобразовано в целое управление и одновременно выделено из кабинета военного министра, во главе которого Керенским был поставлен близкий ему генерал Барановский, стремившийся к сосредоточению всех важных дел в своих руках.
Благодаря такому положению дел, как будто бы самостоятельное Политическое управление получало характер не то канцелярии при кабинете Барановского, не то какого–то полуакадемического органа при нем. Все это было мне не по душе и не по темпераменту. Быстро принимать ответственные решения я, как начальник Политического управления, не мог, и эта вынужденная бездейственность при напряженной деятельности все время угнетала меня. Время моего пребывания в Политическом управлении я вспоминаю с тоскою, мукою и стыдом за все сделанные и допущенные мною ошибки. Грешный дух уныния за всю жизнь не владел мною с такою силою, как в месяцы моей призванности к активной политической работе.
Придя впервые в военный кабинет на Мойке, я был поражен полным отсутствием всего необходимого для исполнения какой бы то ни было работы. В первом этаже сухомлиновского особняка, затянутом по стенам зеленым шелком и обставленном остатками мягкой, будуарной мебели, царили пустота и беспорядок. Станкевича не было. В самой отдаленной комнате одиноко сидел за пишущей машинкой толстенький военный, небольшого роста с лицом грузинского Наполеона. Это был молодой полковник генерального штаба Багратуни, рекомендованный Станкевичу Офицерским съездом в Петрограде. Между нами сразу же завязался оживленный и интересный разговор о будущей совместной работе. Через несколько времени к нам подошел и любезно представился мне очень высокий и очень худой человек с печальными, вопрошающими глазами и мелкими, нерешительными, трепыхающимися жестами. Вошедший оказался графом Павлом Михайловичем Толстым. Юрист по образованию, проведший всю войну на фронте, главным образом, кажется, в штабах, Толстой был привлечен Станкевичем для разработки и кодификации нового военного законодательства. С самого начала он показался мне человеком медленного ритма, мало пригодным к творческой работе в условиях развертывающейся революции. Если не ошибаюсь, я подписал тщательно переписанный на машинке увесистый том до мельчайших подробностей разработанного Толстым положения о новых правах и обязанностях солдат совсем незадолго до захвата власти большевиками.
Четвертого сотрудника Станкевича я как–то случайно обнаружил в двух занятых им под свой отдел комнатах. Это был только что вернувшийся с каторги капитан Калинин. Угловатый, жилистый офицер с фанатичным энергичным лицом и со спадающим на лоб интеллигентским чубом жестких черных волос. Какой отдел он был призван возглавлять, я сказать не могу. В Политическом управлении я его не помню. Скорее всего он так же, как и Багратуни, вскоре переменил место и род своей деятельности.
В первые две недели нашей работы под руководством Станкевича мы только то и делали, что ожидали Керенского, который должен был, по мысли Станкевича, являться источником нашей воли и мысли, и добывали столы, стулья, полки, машинки и писарей.
Необходимый для проведения революционных идей в жизнь технический аппарат и инвентарь мы через некоторое время добыли и наладили, но с появлением Керенского дело никак не устраивалось. Станкевич целыми днями ловил его, но Керенский постоянно ускользал от него. Помню, что мы ночи напролет ждали Керенского в отделе, но не помню, чтобы он хоть раз появился у нас. О том, чтобы подробно изложить ему план своей деятельности и получить от него санкцию на проведение необходимых мероприятий, нечего было и думать. Неустанно носясь над хаосом революции, он был вездесущ, а потому и неуловим. Заставить его хоть на минуту «снизиться» не было никаких человеческих сил. Слововодя в Совете министров, в Совете рабочих и солдатских депутатов, на фронте и в тылу, он даже и не пытался руководить Политическим отделом своего военного кабинета. Тратя непростительно много времени на прием всевозможных просителей и непрошенных советчиков, он не удосуживался найти хотя бы двух часов в неделю для личного руководства нами. Для того, чтобы добиться переименования «Инвалида», я должен был устроиться в поезде, с которым Керенский спешно отъезжал в Могилев. Лишь за обедом в его салон–вагоне удалось мне изложить сущность дела и получить его согласие. В пути Керенский был в прекрасном настроении, охотно слушал мои рассказы о нашей с Савинковым работе на фронте, но углубления в проблемы избегал. Замученный правительственным кризисом и всею остальною круглосуточною петроградскою суетою, он чувствовал право на заслуженный вагонный отдых. Доложить ему мой план действия мне не удалось.
Думаю, что если бы Керенский чаще пользовался своим бесспорным правом на отдых, дело революции от этого только бы выиграло. Я глубоко уверен, что большинство сделанных Керенским ошибок объясняется не тою смесью самоуверенности и безволия, в которой его обвиняют враги, а полною неспособностью к технической организации рабочего дня. Человек, не имеющий в своем распоряжении ни одного тихого, сосредоточенного часа в день, не может управлять государством. Если бы у Керенского была непреодолимая страсть к ужению рыбы, он, может быть, и не проиграл бы России большевикам. Руководство людьми, да еще в революционную эпоху, очень большое искусство, требующее, как всякое искусство, точной и предметной интуиции. Интуиция же, младшая сестра молитвы, любит тишину и одиночество.
Не имея возможности лично руководить Политическим отделом своего кабинета, Керенский должен был бы поручить это руководство кому–нибудь из близких ему военных. Но он и этого не сделал, скорее всего забыл, занятый более важными делами. После ухода Станкевича, который, пробыв на своей должности всего только две недели, ушел комиссарствовать на фронт, не успев ничего наладить, Политический отдел совершенно повис в воздухе. Правда, во втором этаже сухомлиновского особняка мы, главные работники Политического отдела, ежедневно встречались за завтраком с ближайшими сотрудниками Керенского, генералом Барановским и товарищами военного министра генералом Якубовичем и князем Тумановым, но от этих, поначалу малодружественных встреч, не получалось ни малейшей пользы для дела.
Якубович, толстый, грузный человек, похожий на гоголевского Яичницу, и миниатюрно–изящный, грустноликий князь Туманов, не имели к нам никакого касательства. Барановский же держал с нами, в качестве начальника военного кабинета, лишь самую поверхностную связь (помню, как назначенный политическим редактором «Инвалида», я представлял ему своих сотрудников), но ни в какой мере и степени не руководил нами.
Предоставленные самим себе и не спаянные друг с другом общей идеей, мы поневоле начали действовать каждый сам по себе. Что делал капитан Калинин, я не знаю. Толстой, с выписанными им помощниками, всецело отдался вопросу юридического обоснования уже проведенных в армии реформ. А я, отложив в сторону всякое попечение о тех больших, принципиальных планах, которые побудили меня войти в Политическое управление, приступил, как умел, к исполнению своей прямой обязанности по организации культурно–просветительной работы в армии.
В этом малом деле я сразу же натолкнулся на все те трудности, в которых захлебывалось Временное правительство. Одним из главных орудий борьбы за душу армии нашим левым партиям представлялась агитационная брошюра и ее широкое распространение через новообразованные армейские комитеты. Ввиду провозглашенной Временным правительством свободы слова и печати в моем распоряжении не было ни малейшей возможности не допускать к обращению на фронте явно антиправительственной литературы. Влиять на общественное мнение в армии можно было только более или менее сложными окольными путями: личным воздействием на приезжавших с фронта делегатов, даровым снабжением их заранее заготовленною литературою и «пристрастным» распределением правительственных субсидий между отдельными партийными организациями. Вести эту работу приходилось, конечно, весьма осмотрительно, не как правительственную, а как общественную, с привлечением к ней представителей Совета, партий, учительского союза и отдельных видных деятелей педагогического мира.
Чтобы хоть как–нибудь влиять на это многоголосое представительство революции надо было иметь не только свою линию, но и хорошо знать партийную литературу, которую я никогда не изучал и к которой никогда не имел больших симпатий. Для быстрого овладения этим бесконечным материалом мне пришлось создать целый штаб лекторов, так как самому читать было совершенно некогда: я целые дни проводил в приемах фронтовых делегаций, в переговорах с представителями партий, на заседаниях культурно–просветительной комиссии Совета, в борьбе с министерством за расширение своего бюджета и в переговорах с авторами, так как новое положение дела требовало, на мой взгляд, создание новой по духу и стилю агитационно–просветительной литературы.
Одновременно мне, в связи с моим положением и духом эпохи, приходилось очень часто выступать на всевозможных митингах и собраниях.
Исполняя свои прямые обязанности наивозможно добросовестно и, думаю, не безуспешно, я все же очень тяготился ими. Направляясь в восемь часов утра какими–то тихими улицами и по набережной Фонтанки к месту своей службы, я никогда не радовался предстоящему дню и даже не думал об ожидающей меня работе, колесо которой меня механически захватывало лишь в ту минуту, когда я садился за письменный стол. Находясь вне службы, я дни и ночи думал не о культурно–просветительных брошюрах, а исключительно о подготовлявшемся наступлении и его неминуемой неудаче, которая, по моему мнению, должна была обернуться страшным усилением большевиков в тылу и на фронте.
Тревога о возможном срыве наступления мучила, конечно, всех, кто словом, делом и сочувствием участвовал в его подготовке. Но моего убеждения, что оно даже и в случае неожиданного успеха будет на руку большевикам, победа над которыми, как я уже говорил, мне представлялась возможной лишь при заключении немедленного, хотя бы даже и сепаратного мира, не разделялась в близких мне кругах решительно никем. Идея «замирения» казалась правительственным партиям настолько чудовищной, утопичной и преступной, что, постоянно мучаясь ею, я говорил о ней лишь с самыми близкими друзьями; официально же и прежде всего на страницах «Армии и флота свободной России» я твердо защищал оборонческую линию Временного правительства. Это было очень тяжело, но иного выхода, за исключением подачи в отставку, я для себя не видел. Трагедия всякой практической, в особенности же политической деятельности в том ведь и заключается, что в ней возможно лишь присоединение к одному из борющихся станов, но не возможна борьба за правильную идею, не имеющую под ногами никакой реальной почвы.
В начале этой главы я вскользь уже говорил, что последнюю причину всего, что случилось с Россией, надо искать в том, что народное понимание революции, как миротворческой силы, долженствующей положить конец безумию и греху войны, не разделялось ни одним из политических лагерей, кроме большевиков.
Возглавляемые профессором Милюковым умные, образованные и деятельные «кадеты», в руки которых сразу же попало министерство иностранных дел, были слишком определенными западниками–позитивистами, чтобы считаться в своей реальной политике с таким невесомым фактором, как нравственно–религиозное убеждение простого народа. Всенародную мечту о мире они сразу же взяли под подозрение, объявив ее печальным следствием успешного воздействия немецкой провокации и большевистской пропаганды на шкурнические инстинкты солдатской темноты. Стремясь к перевороту, прежде всего ради доведения войны до победоносного конца, партия Народной свободы была уверена, что и народ, обретя свободу, захочет победы.
На той же кадетской точке зрения стояли и социалисты–оборонцы, среди которых было сильно желание разбить вслед за «кнутогерманской» монархией Романовых и «оплот реакции» в Европе, монархию Гогенцоллернов.
В результате такого отношения к миру наших либералов и социалистов, идеей мира естественно завладели большевики. Теряя в большевистском освещении свою чистоту и совесть, она все же сохраняла в нем не только свою горячность, действенность, но даже приобретала и некую раскрещенную и тем демонизированную религиозность.
Ближе всех других к народной идее революции был, конечно, Керенский. Его ощущение революции, как общенародного дела, его бесспорный нравственный пафос, его лишенный шовинистического острия живой патриотизм, его внутренняя свобода, если не от интернационалистических организаций, то все же от тезисов Интернационала, как будто бы предопределяли его к услышанию народных чаяний и исполнению народной воли. Если он этой воли – и прежде всего воли к миру – все же не исполнил, то объясняется это тем, что он был слишком убежденным либерал–демократом, в русском смысле этого термина, то есть общественным деятелем, до мозга костей проникнутым убеждением, что «общая воля народа» не может быть явлена иначе, как на путях свободного волеизъявления свободно выбранных представителей всех слоев и партий.
Тратя бесконечное количество времени и почти все свои силы на создание той партийно–правительственной комбинации, в которой предносящаяся ему общая воля народа («volonte generale») по возможности полно сливалась бы с волею его представителей во Всероссийском совете («volonte de tous»), Керенский с каждым днем все очевиднее отставал от темпа событий и все безвозвратнее терял возможность стать настоящим вождем народной революции. Изредка проявляя отрицательные черты «вождизма», он по существу все же до конца оставался пленником неустойчивого советски–правительственного большинства.
Убеждение, что в случае дальнейшей отсрочки заключения мира Ленин одержит легкую победу над Керенским, сложилось во мне уже на первом Всероссийском съезде советов, где военный министр как будто бы одержал блестящую победу над большевиками.
Начавшийся 3–го июня, Съезд длился очень долго, чуть ли не около трех недель. Только что вызванный Станкевичем с фронта – я с тоскою и тревогою ходил накануне открытия Съезда по классам и залам Кадетского корпуса, присматриваясь и прислушиваясь ко всему происходящему.
Момент созыва Съезда внушал революционной демократии большие опасения. Подготовляя наступление, Керенский ощутимо натягивал вожжи. Только что за несвоевременностью был запрещен Украинский воинский съезд и восстановлена статья 129–я старого уголовного положения, угрожавшая тремя годами тюрьмы за подстрекательство к уголовным преступлениям, неподчинение властям и натравливание одной части населения против другой. В армии за неповиновение начальству, братание и сношение с неприятелем вводились еще более тяжелые кары в виде каторжных работ, лишения избирательных прав, лишения прав на землю и т. д.
Весьма раздражало демократию и то, что одновременно со Съездом советов в Петрограде заседали Офицерский и Казачий съезды и нарасхват раскупалась простонародьем «Маленькая газета» талантливых братьев Сувориных, которая под флагом независимого социализма твердо держала буржуазный курс и не без успеха шёпотом призывала к национальной диктатуре.
Приезд делегатов начался задолго до торжественного открытия Съезда. Огромное здание Кадетского корпуса уже к первому июня было запружено чуть ли не двухтысячною толпою, провинциальная часть которой тут же и ночевала. В синих от табачного дыма гулких коридорах стоял неумолкаемый шум. Вокруг бойких ораторов и делегатов с мест жадно теснились возбужденные слушатели. Чтобы понять, какие где ведутся речи, знакомому с советской средой человеку не нужно было прислушиваться к ним. Наметанному глазу издали было видно, какого толку жестикулирующий в конце коридора, или в углу класса, оратор. Левых социалистов–интернационалистов окружали потрепанные серо–черные пиджаки; большевиков – те же пиджаки, но с сильною примесью распоясанных и расстегнутых солдатских гимнастерок. Вокруг правительственных партий, блок которых (как впоследствии выяснилось) составлял 5/6 съезда, широко разливался защитный цвет, на фоне которого виднелось много офицерских, главным образом прапорщичьих кителей и вполне приличных интеллигентских пиджаков.
Особенно сильная давка замечалась, как всегда, у книжных киосков и в тесной, мрачноватой столовой, где шла постоянная борьба за стакан чаю и тарелку щей.
Вдали ото всей этой суматохи и суеты, за закрытыми дверями огромных классов, где еще недавно чинно сидели за партами стриженные машинкой кадеты в своих туго перетянутых ремнями форменных рубашках, шли непрерывные, фракционные заседания. Правые эсеры делали последние усилия, чтобы справиться с возникшей в партии левой оппозицией Комкова. Правые меньшевики вели такую же борьбу со своим теоретически сильным, но практически слепым крайне–интернационалистическим крылом. Благодаря такому аналогичному расколу в обеих партиях, традиционное разделение революционной демократии на народников и марксистов, осложнялось тактическим объединением правых народников с марксистским центром и левых марксистов–интернационалистов с левыми эсерами интернационалистами, настроенными на большевистский лад.
Этот сложный переплет фракционных точек зрения запутывала еще и скрытая от непосвященных глаз борьба между евреями–националистами и интернационалистически настроенным еврейством. На почве быстро развившегося меньшииственного сепаратизма и той большой роли, которую евреи играли в Совете рабочих и солдатских депутатов, эта внутриеврейская борьба приобретала очень большое значение в политике русских меньшевиков. Гномообразный, желтолицый Либер с ассирийской бородой настойчиво защищал национально–культурную автономию, а бритый, скептически–брезгливый Суханов считал членов, незадолго до Съезда советов собравшейся в Киеве Украинской рады «за безответственных интеллигентов и патриотов несуществующего украинского народа».
Нетрудно себе представить, что при таком положении вещей, всякий, попадавший в советский аппарат вопрос, бесконечно затягивался решением. Обыкновенно он вообще не разрешался, а лишь перетирался на идеологической терке. За редкими исключениями в результате многодневных прений вызревало не решение, а всего только ничего не разрешающая резолюция.
Полагаю, что большинство советских лидеров прекрасно понимало ненормальность создавшейся практики, но отойти от навыков своей работы не могло; просто не знало, что же вообще можно делать в жизни, если не заседать, не обсуждать докладов, не выносить резолюций и, главное, не бороться с правительством. Все несчастье заключалось в том, что годами налаженный, освященный традицией и «кровью героев» партийный аппарат и в новой обстановке продолжал работать по–старому.
Остановить эту бесплодную работу революционная демократия не могла, не рискуя остаться не у дел. Не мог остановить ее, то есть попросту разогнать Совет, как требовали правые круги и Керенский, так как в мешавшем ему управлять страною многофракционном демократическом аппарате было объединено большое количество преданных ему политических сил, без поддержки которых ему было бы очень трудно вести борьбу против правых элементов. Правда, в победе правых ничего угрожающего не было: революция смела столь многое, что о возврате к старому не могло быть и речи. Страшно было лишь то, что роспуск Совета усилит позицию большевиков, которые, в отличие от правых, с самого начала имели все шансы на победу.
Искренне защищая на этом основании Всероссийский совет рабочих и солдатских депутатов, как необходимый при создавшихся условиях базис власти, я приходил в полное отчаяние при виде того, что творилось на его заседаниях: бесконечно многословные доклады и бесконечные прения по ним, ни малейшего чувства эпохи и темпа событий, болезненный интерес к тончайшим оттенкам отвлеченных точек зрения и полное отсутствие серьезной озабоченности фактическим состоянием России. Во время немногих деловых докладов – полупустующий зал и зевки на всех скамьях. Общее впечатление то, что для «товарищей» Россия труп, на котором они со страстью изучают анатомию революции.
Занятый организацией своего культурно–просветительного отдела, я не очень часто заглядывал в кадетский корпус и ничего, кроме общего удручающего впечатления, не выносил.
Ярким пятном стоит в памяти лишь появление Ленина. Таинственно скрывавшийся в недрах своей партии вождь, впервые выступил на Съезде после докладов Либера и Церетели по вопросу о власти, то есть по вопросу об отношении к Временному правительству. В длившихся целых пять дней прениях Ленин говорил одним из последних. Хорошо помню, что время ораторов было уже ограничено 15–ю минутами.
Из 777–и делегатов с установленной партийностью, большевиков было всего только 105 человек. Говорить среди врагов много труднее, чем среди единомышленников. Впрочем, Ленину было на что опереться и во враждебной ему аудитории. Как ни как он был знаменитостью и возбуждал к себе величайший интерес.
Первое впечатление от Ленина было впечатление неладно скроенного, но крепко сшитого человека. Небрежно одетый, приземистый, квадратный, он, говоря, то наступал на аудиторию, близко подходя к краю эстрады, то пятился вглубь. При этом он часто, как семафор, вскидывал вверх прямую, не сгибающуюся в локте правую руку.
В его хмуром, мелко умятом под двухэтажным лбом руссейшем, с монгольским оттенком лице, тускло освещенном небольшими, глубоко сидящими глазами, не было никакого очарования; было в нем даже что–то отталкивающее. Особенно неприятен был жестокий, под небольшими подстриженными усами брезгливо–презрительный рот.
Говорил Ленин не музыкально, отрывисто, словно топором обтесывая мысль. Преподносил он свою серьезную марксистскую ученость в лубочно–упрощенном стиле. В этом снижении теоретической идеи надо, думается, искать главную причину его неизменного успеха у масс. Не владея даром образной речи, Ленин говорил все же очень пластично, не теряя своеобразной убедительности даже при провозглашении явных нелепостей. Избегая всякой картинности слова, он лишь четко врезал в сознание слушателей схематический чертеж своего понимания событий. Был в его распоряжении и юмор, не тонкий, но злой. Самое же главное, что связывало Ленина с рабочей аудиторией, была непосредственно ощущаемая в нем привязанность – не любовь – к рабочему классу. Не даром он заграницей, как рассказывает Крупская, охотно обедал в рабочих харчевнях не ради дешевизны, а потому что в них, по его мнению, готовили вкуснее, чем в дорогих ресторанах.
Содержание ленинской речи произвело на всех присутствующих, не исключая и некоторых большевиков, впечатление какой–то грандиозной нелепицы. Тем не менее, его выступление всех напрягло и захватило.
Прежде всего Ленин заявил, что, вопреки мнению господина министра почт и телеграфов гражданина Церетелли, будто бы в России нет партии, готовой принять всю власть целиком, такая партия в России имеется. Большевики не только в принципе готовы принять всю власть, но готовы сделать это завтра же.
Переходя к вопросу внутренней политики, Ленин удивил всех предложением немедленно же арестовать несколько сот капиталистов, дабы сразу прекратить их злостную политическую игру и объявить всем народам мира, что партия большевиков считает всех капиталистов разбойниками.
По вопросу о внешней политике, прославленный вождь отделался заявлением, что после принятия власти его партия немедленно выступит с предложением всеобщего мира. Нового в этом ничего не было, так как предложения о заключении мира уже не раз делались, как Временным правительством, так и Советом. О сепаратном мире не было сказано ни слова.
Ленину с большим ораторским подъемом и искренним нравственным негодованием возражал сам Керенский. С легкостью разбив детски–примитивные положения Ленина, он все же не уничтожил громадного впечатления от речи своего противника, смысл которой заключался не в программе построения новой жизни, а в пафосе разрушения старой.
Многочисленные враги Ленина чаще всего рисуют его начетчиком марксизма, схоластом, талмудистом, не замечая того, что, кроме марксистской схоластики, в Ленине было и много Бакунинской мистики разрушения. Быть может, Ленин был на Съезде единственным человеком, не боявшимся никаких последствий революции и ничего не требовавшим от нее, кроме дальнейшего углубления. Этою открытостью души навстречу всем вихрям революции, Ленин до конца сливался с самыми темными, разрушительными инстинктами народных масс. Не буди Ленин самой ухваткой своих выступлений того разбойничьего присвиста, которым часто обрывается скорбная народная песнь, его марксистская идеология никогда не полонила бы русской души с такою силою, как оно, что греха таить, все же случилось.
После обсуждения вопроса об отношении к власти перешли к обсуждению вопроса о войне. Многочасовой доклад скучно читал хриплый Дан–Гуревич. Снова в многодневных прениях выступали все ораторы от Керенского до Ленина. Благодаря тесной связанности обоих вопросов, во всех речах повторялись все те же мысли и даже те же обороты речи, что и в предыдущих прениях. Казалось, что перед тобою вертится какая–то словесная карусель. Было и безнадежно скучно и предельно страшно: как раз в эти дни на Юго–Западном фронте шли последние подготовления к наступлению, а по Петрограду расползались слухи о готовящемся выступлении большевиков в целях свержения Временного правительства.
Несмотря на то, что громадное большинство Съезда явно стояло на стороне Временного правительства, оппозиционные течения все же вели страстную борьбу против лидера правительственного большинства, Ираклия Церетелли (нельзя же не использовать всероссийской народной трибуны).
Группа Мартова непонятным образом защищала идею всеобщего перемирия, не вдаваясь в обсуждение вопроса о мире.
Сухановцы хитроумно, но беспредметно ратовали за немедленный разрыв с союзниками и «за сепаратную войну революционной России с империалистической Германией» в случае, если бы последняя и после разрыва Петрограда с Парижем и Лондоном, не отказалась бы от своих «грабительских» целей.
Большевики же шли еще дальше, проповедуя священную войну русской революции против всех европейских империализмов за освобождение всех попранных народностей Азии и Африки.
По сравнению с этими беспредметными программами, правительственный план: восстановление боеспособности революционной армии и оказание дальнейшего давления на европейскую демократию, а через нее и на союзнические правительства, в целях
прекращения войны, казался верхом политической разумности. Керенский в эту разумность верил.
В июне 1917–го года мало кому было ясно, насколько легче революции входят в логику своего безумия, чем в разум своей истины.
В день наступления 18–го июня работа в Политическом отделе ни у кого не клеилась. Все в страшном волнении ждали первых вестей с фронта. Перед зданием военного министерства на Мойке с утра начала собираться большая и много лучше, чем в те дни было привычно, одетая толпа. На ярком солнце веселого июньского утра живописно пестрели дамские шляпы, светлые зонтики и офицерские погоны. В толпе чувствовались праздничное волнение и патриотический подъем. Около полудня к собравшимся вышел товарищ военного министра, генерал Якубович и прочел телеграмму из Ставки, в которой сообщалось, что «ударники» увлекли за собою полки доблестной 7–мой армии, одержавшей блестящую победу над немцами.








