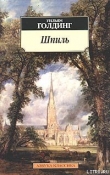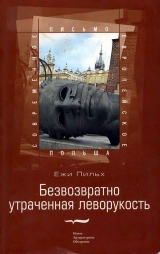
Текст книги "Безвозвратно утраченная леворукость"
Автор книги: Ежи Пильх
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 14 страниц)
Весенний марш
На публичную встречу с депутатом СЛД[36]36
СЛД – польская партия Союз Левых Демократов, образованная после падения ПНР (прямая наследница коммунистической ПОРП – Польской Объединенной Рабочей Партии).
[Закрыть] Антонием Кобелюшем в ресторане «Огродова» я отправился потому, что люблю это заведение. Был канун праздника труда, желтоватая духота то и дело перемежалась темными ливнями; не без ностальгии я констатировал, что предпраздничная аура совсем неощутима. Раньше, в эпоху славных тружеников городов и деревень, эта аура, разумеется, ощущалась. Каждый год с темного апрельского вечера и до лучезарного майского утра по центру Вислы шествовала духовая капелла под руководством старого Ноговчика. Музыканты шли от дома к дому (точнее говоря, от одного избранного дома к другому избранному дому), шли и, как это здесь говорится, «исполняли». Исполняли для ксендза Вантулы, исполняли для Полочека из «Форпоста» (Да. В этом доме жил и творил пан Болеслав Прус[37]37
«Форпост» – роман классика польской литературы Болеслава Пруса (1847–1912).
[Закрыть]), исполняли для Янека из Вымовы, исполняли для Чижей из Базара, исполняли для старого Кубицы, исполняли для Кралля-Кралличека, исполняли даже для Магнусека, который, хоть и католик, но все-таки пожарный.
В мощенном полевыми камнями дворе перед домом пана Начальника они появлялись обычно под конец ночи. Еще в полной темноте или при совсем не ясном свете зарождающегося дня играли они «Музыканты, Музыканты» или «Frühlingmarsch». А потом сидели за огромным, покрытым голубой клеенкой столом в нашей кухне и подкреплялись, перед тем как продолжить путешествие. Поистине патетический образ исполненных достоинства мужчин, пьющих водку в пять утра и одновременно отдающихся самому высокому из искусств – музыке, уже тогда накрепко засел в моем сознании. Но поскольку я, в общем, не сторонник подобного рода эффектов, то не стану говорить, что никогда потом не видел образа более прекрасного, не буду также утверждать, что никогда потом не слышал более совершенной музыки. И все-таки оркестр старого Ноговчика – это был великий оркестр. Когда в нем играли (и были в форме) все четыре брата Кжоки, «Alte Kameraden» или «Марш Радецкого» они исполняли со свободой венских филармонистов.
Они сидели за столом и в этом большом, словно по ошибке оборудованном кухонной плитой, концертном зале исполняли для пана Начальника его любимые фрагменты: «Колин, Колин», «Отцовский дом», «Там, где Чантория». Потом поднимали прощальный тост и уже во дворе, всегда на один, а то и на четыре темпа быстрее (спешка была, впрочем, обоснованной – первомайская демонстрация, в которой они должны были принимать участие, приближалась большими шагами), одним словом, в вольной, насквозь маршевой аранжировке исполняли «Кто отдает себя в опеку Владыке своему». И шли дальше.
С течением времени новые поколения вислинских музыкантов становились все слабее. (Растущая слабость является – как всем известно – канонической чертой новых поколений.) У них слабели руки, едва удерживающие золотые раковины инструментов, у них слабело дыхание, которого едва хватало библейским тромбонам, у них слабели головы. Слабели у них и ноги, и идущая строем в соответствии со строго продуманной схемой капелла старого Ноговчика к семидесятым годам (старый Ноговчик давно уже умер) постепенно превратилась в толпу заблудившихся во тьме уличных музыкантов. Актуальное, хоть и всегда малоправдоподобное место их пребывания удавалось теперь распознать не по звукам музыки, а по абсолютно невменяемым акустическим эффектам, которые производили, я бы сказал, совершенно уже независимые от них инструменты. Порой тела артистов лишались сил до такой степени, что они вообще не трогались с места и весь канун праздника труда, а также и сам праздник труда, просиживали именно тут, где сижу сейчас я, слушая разумные рассуждения депутата Кобелюша из СЛД: в ресторане «Огродова», бывшем «Пясте».
Депутат Кобелюш из СЛД говорит разумно и осмысленно, с истинно пролетарской заботой поднимает он животрепещущие проблемы, говорит разумно и осмысленно, но вот-вот он скажет (должен сказать) что-то неразумное и что-то бессмысленное, и тогда я встану – так поддерживаю я в себе угасающий дух борьбы, – тогда я встану и обзову его коммунякой. «Ты, коммуняка, – скажу я ему. – Ты, коммуняка разэтакий!» Впрочем, я не уверен, ибо кроме всего прочего, мной овладевает дух спокойствия этого места. Я смотрю на поганые физиономии местных орлов, на братьев евангелистов, как всегда погруженных в пагубную стихию левизны, смотрю на них, и меня – ничего не могу с этим поделать – обволакивает спокойствие, порожденное классически сочувственной позицией повествователя. В этом находящемся в ста шагах от моего родного дома легендарном трактире я ощущаю себя благостно, потому что чувствую присутствие до сих пор витающих в воздухе духов старых вислинских кутил. Нет уже выкрашенных синей масляной краской стен (есть деревянные панели), нет уже грязно-белых скатертей (есть безупречные скатерти карминного цвета), нет гомона дебатирующих о жизни и смерти гуляк (в абсолютной тишине слышен уравновешенный голос депутата Кобелюша из СЛД), из прошлого уже ничего не осталось, но в сентиментальном воодушевлении я вижу и слышу прежние истории.
Этот трактир всеми своими атрибутами удовлетворял требованиям классического трактирного corpus hermeticum: входящий сюда незнакомец чувствовал себя так, будто вторгся в чей-то дом, он был единственным чужаком в зале и, стоя в дверях, добрых пару минут подвергался инициационному ритуалу внезапно наступавшего молчания и испытующих взглядов. Каждый его жест мог быть использован против него – исключительно в интеллектуально-полемическом, понятное дело, смысле, ничего кровавого здесь никогда не происходило. В худшем случае прессинг направленных из-за столиков взглядов был элементом религиозной войны. Именно в этот трактир каждый день в убийственной спешке по дороге из почтового отделения забегал пан Начальник и, гонимый паническим страхом перед пани Начальниковой, стоя опрокидывал двести грамм. (Подобный тип страха, равно как и способ его укрощения, окажутся в следующих поколениях чертами чрезвычайно хорошо наследуемыми.) Именно в этом трактире трагически оборвался невеселый жизненный путь его младшего сына. Именно в этом трактире случилась тысяча приключений и была рассказана тысяча историй.
– А потому идите, братья, и будьте полны смирения, – слышу я голос депутата Кобелюша из СЛД. – Идите и убеждайте, – говорит депутат голосом доброго и мудрого пастора, – идите в смирении, убеждайте, уговаривайте и будьте тверды.
Очнувшись окончательно, я еще раз присматриваюсь к нему в последней надежде, что по крайней мере внешний облик его мне удастся поставить под сомнение. Но где там!
Этот коммуняка выглядит так, как сейчас выглядят все коммуняки. Этот коммуняка выглядит как европеец. У него хороший костюм, хорошая рубашка, хорошо подобранный галстук, и даже подстрижен он хорошо. Как тут доказать, что это только личина, думаю я в горячке, ведь не брошусь же я на него, не разорву ему эту голубую рубашку от Freemans, чтобы показать, что на груди у него синими чернилами выколоты серп и молот. И я машу на все рукой – в конце концов есть на свете вещи более важные, убеждаю я себя, например любовь, ведь любовь – это в жизни самое важное, любовь даже важнее, чем административная реформа, говорю я себе и, неожиданно обрадованный этой мыслью, ресторан «Огродова» (бывший «Пяст») покидаю.
Но на пороге, кажется, еще один голос из прошлого долетает до меня. Я стою и с любопытством напрягаю слух. Так оно и есть. Духовая капелла старого Ноговчика играет «Frühlingmarsch». Владелица кафе-мороженого пани Фурток (да-да, жена форварда-бомбардира Яна Фуртока) щедро сыплет банкнотами, и капелла трогается дальше. Героически поддерживающие традицию музыканты с минуту совещаются, идти ли сначала к складу или к супермаркету. Они исчезают за углом. Через минуту я слышу мощные и даже неплохо сыгранные такты «Марша победы» («Victoria Marsch»). Играют перед складом.
Старый Кубица и темнота
Старому Кубице, если бы он еще был жив, было бы сто пять лет, то есть он все равно бы уже не был жив. Он был отцом моего отца, был моим вторым, а по сути первым дедушкой, от него я унаследовал фамилию (под этим прозвищем, Старый Кубица, он был известен всем и каждому; посвященные знали, что настоящее его имя Павел Пильх), запальчивый характер, склонность к дурным привычкам, бычью силу и еще пару других качеств, о которых мне пока неловко говорить. Старый Кубица был, например, неисправимым женоненавистником, что звучит несколько тавтологично, поскольку в те времена, в первой половине двадцатого века, в тех краях, в известной своим распутством долине Вислы-Яворника женоненавистничество было принципом элементарным, женщины, как и столетия тому назад, жили там в угнетении, подавлении и унижении. Но Старого Кубицу несказанно раздражали даже эти угнетенные, подавленные и униженные девы; может, его унижало их унижение? Это вполне вероятно. Старый Кубица был слегка затронут манией величия; величие же, пусть и мнимое, не переносит ничтожности, а униженность есть род ничтожности.
Одержимый демоном святой истины, он снимал со стены двустволку и неустойчивым шагом направлялся на поиск прячущихся по дому теток, девок и старух. Однако его ритуальная охота на баб переходила границы охотничьего искусства, ergo переставала быть благородным мужским развлечением; скорее это был мрачный шаг в сторону окончательного разрешения женского вопроса. Если и была в этом смертоубийственном исступлении какая-то черта и без того проблематичного благородства, то заключалась она в том, что тотальное уничтожение женского пола Старый Кубица скромно намеревался начать с собственной семьи и ближайших соседок Знаменитые тираны-убийцы XX века подобной скромностью не обладали. Мрачная, отчасти дарвиновская и насквозь антифеминистическая идея Старого Кубицы разделила, однако же, судьбу других идей, воплощением которых должно было стать конкретное действие. Здесь тоже не хватило действия; действие было слабым, неудачным, неумелым. Шаги были неуверенными, движения спонтанными, трагикомическую идею несостоявшихся экзекуций овевал молочно-белый туман алкогольного психоза. По рассказам отца, который несколько лет в качестве адъютанта ходил рядом со Старым Кубицей и горящим факелом освещал темноту, в которой трусливо прятались предназначенные для отстрела представительницы прекрасного пола, так вот, по рассказам отца, за все время этих охот раздался лишь один-единственный выстрел. Какая-то из теток, начисто лишившись остатков инстинкта самосохранения – что, впрочем, весьма типично для всего женского пола, – в самом разгаре погони высунулась из-за угла.
– Марина, защищайся! – рявкнул Старый Кубица, сам не веря блаженству столь скорой развязки, сорвал с плеча охотничье ружье и выстрелил. Тетка Марина упала как подкошенная и начала кататься, метаться и выть нечеловеческим голосом, каковое поведение добавило Старому Кубице еще один аргумент в пользу видовой неполноценности женщин. Ведь первый выстрел, в соответствии с джентльменскими принципами, был предупредительным, и Старый Кубица прекрасно знал, что снаряд прошел как минимум в метре от тупой Марининой головы.
Время охоты на баб было уже, однако, временем заката, временем непонятной боли. А время подъема и гармонии в жизни Старого Кубицы не было слишком долгим. В одной из краковских галерей несколько лет назад экспонировалось собрание архивных фотографий межвоенного десятилетия. На двух или трех снимках, запечатлевших пребывание прогрессивных польских крестьян-гуралей в Швейцарии, я узнал профиль и характерную сдержанную улыбку Дедушки Кубицы. В двадцатые годы он был стипендиатом министерства сельского хозяйства, посещал швейцарские хозяйства, ловко подсматривал, как они организованы, и вскоре по возвращении в Яворник добился такого технологического и экономического уровня (легендарные автопоилки! перед войной! в Висле-Яворнике!), который до сей поры в тех краях неизвестен и недостижим. Но, как я сказал, опережение эпохи и жизненная фортуна продолжались недолго. Случилась какая-то неудачная сделка, он подписал чьи-то векселя, партнер оказался неплатежеспособен, и Кубица потерял все. Хозяйство (более двадцати гектаров) осталось, но весь доход шел теперь на выплату долга. Старому Кубице – фанатику идеи сверхчеловеческой работы в нечеловеческих условиях, автору поговорки, что человек должен делать не столько, сколько может, а столько, сколько нужно («не стоко скоко льзя, а стоко скоко надыть»), – суждено было стать посвященным в тайну работы поистине нечеловеческой, работы без смысла, антиработы, работы нетворческой, работы рабской.
Если в настоящей работе присутствует элемент любовного восторга (а он присутствует, и не элемент даже, а сама суть), если работу сравнивать с любовью, то можно сказать, что работа без удовлетворения и оплаты – все равно что любовь за деньги, технологически происходит то же самое, но все напрасно. От великих романтиков, вечно жаждущих великой любви, мы знаем, го их сочинений мы вычитали, сколь напрасной и безнадежной является иллюзии утоления истинного любовного голода в тайных домах терпимости.
Я не помню, кто – писатель, социальный аналитик, интеллектуал, проницательный человек, владеющий пером, – не помню, кто в своих автобиографических лагерных заметках сделал меткое замечание, что людям по природе ленивым было, как ни парадоксально, легче пережить лагеря, чем людям по природе работящим. Ленивому всегда скорее безразлично, к какой работе его принуждают, а любящий работать, будучи принуждаем к работе абсурдной, испытывает адские страдания. Для человека пишущего нет большей муки, чем писать что-то, не представляющее ценности. Франц Кафка, например, был человеком пера, и, работая в канцелярии страховой фирмы, он именно пером и пользовался, но эта кажущаяся тождественность писания творческого и писания механического была для него источником страданий поистине кафкианских. Старый Кубица был, как я сказал, фанатичным поклонником работы, изысканным знатоком аграрного искусства, и никчемность этого искусства, от которого осталась одна механика, одна технология, была для него невыносима.
Водка, всегда присутствовавшая в его жизни, теперь захватила над ним полную власть. Он стал смотреть на мир сквозь полупрозрачную, как поверхность молодого вина в сосуде, пелену. Начались утренние усмирения дрожащего тела. Начались времена непонятной боли. Что делать? Что делать, если каждое утреннее пробуждение – это как прийти в себя от свинцового наркоза в больнице после тяжелой операции? Что делать, если этого ощущения даже и назвать-то никак нельзя, если даже язык не дает такого облегчением, образного или метафорического, ведь Старый Кубица не перенес ни единой операции и ни разу не был в больнице. Что делать? Можно искать помощи и ободрения в Господе Боге, что и делал Старый Кубица, прилежно посещая костел. Господь, видимо, давал ему тогда облегчение, потому что этот измученный человек частенько засыпал во время богослужения. Он впадал в спокойную, вовсе не горячечную, а насквозь богобоязненную дрему. И нравилась его дрема Господу, но, к сожалению, не нравилась моей бабке (а его, Кубицы, свойственнице). Ибо, к несчастью, скамья Старого Кубицы была в костеле прямо перед нашей скамьей, и бабка с неизменной суровостью возвращала его к сознанию и страданию, а он поворачивался к ней, и по его испуганным глазам легко можно было понять, что так же, как и все мы, он боится ее больше, чем Господа на небесах.
Что делать? Что делать, если неоткуда ждать ни облегчения, ни утешения? Когда человек не может освободиться от водки, он кое-как пытается жить с водкой, а в некоторых случаях даже жить за счет водки. Старый Кубица (вместе с другим моим дедом) сконструировал во время оккупации промышленный самогонный аппарат, да что там самогонный аппарат, винокуренное производство они организовали, настоящее винокуренное производство. Некоторые элементы того непревзойденного механизма, латунные змеевики, например, сохранились до сих пор. Но и это чрезвычайно доходное, по расчетам, предприятие едва поспевало с переработкой сырья для собственных нужд, поскольку собственные нужды обоих конструкторов были внушительными. Боль мира не проходила, боль мира усиливалась. Старый Кубица принадлежал к тому безусловному большинству алкоголиков, которые собственный алкоголизм отрицают. Он знал, что водка дает какое-никакое утешение, но не ясно, отдавал ли он себе отчет, что отсутствие водки является источником муки. Эта простая конъюнкция бывает трудна для усвоения, большинству алкогольного братства кажется, что страдает оно не от отсутствия наркотика, но по причине объективной недоброжелательности мира, и водка – лекарство от этой недоброжелательности, а то, что она сама эту недоброжелательность мира творит и усиливает, – всегда упорно игнорируется.
Старый Кубица был вроде того медведя гризли из стихотворения Милоша[38]38
Чеслав Милош (1911–2004) – крупнейший польский поэт и эссеист, лауреат Нобелевской премии 1980 г.
[Закрыть] у которого всю жизнь болели зубы, но который этого не понимал, потому как откуда медведю знать, что у него болят зубы. Старый Кубица был алкоголиком, но ему казалось, что страдает он по другой причине. По той, например, причине, что без причины потеряна жизнь, испарившаяся, как ручей после засухи. На худой конец можно еще как-то уяснить себе, что прошли прекрасные времена службы в австрийском войске, что, в конце концов, прошла молодость. Но куда подевались годы мужской зрелости, где работа, где праздники и праздничные речи, кто если не Старый Кубица теперь староста, кто читает молитвы за столом (молитвы Старого Кубицы в силу его достаточно известной языковой навязчивости были поистине бессмертными, ведь фраза «Хлеба нашего насущного и еще того-сего даждь нам днесь. Господи» – это бессмертная фраза). Кто, если не Старый Кубица, читает теперь книги и газеты, кто теперь Комендант Добровольной Пожарной Команды, кто возглавляет Сельскохозяйственный Кружок, кто дирижирует хором во время визита пана президента Мощицкого? Непонятно кто. Я – не я, он – не он. Пока что, во всяком случае, не он. Не Старый Кубица. Старый Кубица временно отсутствует, он в дальнем путешествии, продолжается его адская поездка, из которой он, может быть, вернется, хотя неизвестно, каким способом. Тогда способов возвращения было меньше. Другое дело, что если бы в те времена даже и были все эти наши способы, средства и методы, индивидуальные и групповые терапии, успокаивающие медикаменты, детоксикационные отделения, психиатрия, психология, гипноз, группы поддержки и группы Анонимных Алкоголиков, если бы даже все это было. Старый Кубица все равно обязательно бы это отверг и, возможно, отверг бы с яростью, сняв с гвоздя охотничье ружье. И не из гордыни он бы сделал так, а из чувства собственного достоинства, из убежденности – как в другом стихотворении говорит тот же Милош, – что «нельзя потакать себе, позволять ничего не делать, размышлять о своей боли, нельзя искать помощи в больнице и у психиатра». Нельзя также говорить об этом и тем более упиваться собственным падением. «Я человек падший физически и морально», – сказал Старый Кубица своему бывшему адъютанту незадолго до смерти, и беззащитность этого признания явно свидетельствовала о близком конце.
Старому Кубице, если бы он еще был жив, было бы сто пять лет, то есть он все равно бы уже не был жив. Его нет в живых вот уже сорок лет. Нет в живых почти всю мою жизнь, хотя я помню его хорошо, помню похороны, помню его лежащим в гробу в коричневых ботинках, процессию, теплым днем следующую из Яворника до центра, в костел, и потом на кладбище. Я пишу о его боли, хотя по сути ничего о его боли не знаю. Чужая боль, боль другого – это всегда фантом. Я пишу о неудавшейся жизни Старого Кубицы, потому что с некоторых пор меня преследует и терзает образ человека, идущего сквозь темноту. Может, это его образ, а может, чей-то еще. Так или иначе, в нем еще обязательно будут разные поправки, изменения и новые версии.
Старый Кубица вдет сквозь темноту, перед ним шагает ребенок с горящей ветвью, а где-то рядом, приняв облик женщины (как велит мифологическое мышление), – таится само зло.
Завлекательная чахоточница
Сегодня четверг – день нечистого, прекратились наконец дожди, которые разнузданно лили уже много дней. Я хорошо спал, мне снились новые шахматы в коробке за целых пятьсот злотых, я хотел купить их в Сукенницах[39]39
Сукеннице – торговые ряды в центре рыночной площади Кракова, в средние века – суконные ряды (дословный перевод названия), ныне место продажи сувениров. Памятник архитектуры, наиболее выдающееся из сооружений подобного рода в средневековой Европе.
[Закрыть], худая торговка в черном платье была больна чахоткой, деньги у меня лежали в специальном секретном кармане, скрытом под рубашкой, но прежде чем я их оттуда извлек, сон изменился, теперь мне снилась Уршуля Козел[40]40
Уршуля Козел (р. 1931) – поэтесса, член редколлегии журнала «Одра», многие годы руководила вроцлавским отделением Союза польских литераторов.
[Закрыть] в дорогом пальто на меху, она сидела за снежной белизны столом и утверждала к печати мои стихи в ежемесячнике «Одра», блаженство разливалось во мне, но внезапно улетучилось, и уже не было рядом ни завлекательной чахоточницы, ни Уршули Козел, я не был поэтом, а было пять утра на исходе тысячелетия.
Я не спал, я лежал в постели, во мне бушевала утренняя ярость, и остатками разума я обдумывал, против кого эту утреннюю ярость обратить. Над кем бы мысленно покуражиться, чтобы пришло какое-никакое облегчение? Лучше всего над кем-нибудь невинным и уже измученным, над собственной женой, ребенком, над вредной матерью, над котом, которого еще нет, над каким-нибудь близким родственником и другом, над моим любимым дядей пастором, который уже давно в глубине души тщетно тоскует по прелестям целибата, над каким-нибудь государственным сановником, над распоясавшимся графоманом или над зашуганным лириком. Под самый конец сна еще кто-то появился рядом со мной, кто-то напугал меня и взбесил, я хотел его ранить, а может, даже убить. Как раз кто-то подходящий – мерзкий и поганый призрак, достойный объект моей утренней ярости, кто-то, кого еще и теперь я охотно бы изничтожил, но кто это был – к сожалению, не помню. Я не проснулся вовремя и не записал ни имени, ни телефона, ни так он выглядел, ничего не записал в элегантной тетрадке в линеечку, которая всегда на такой случай приготовлена у меня в изголовье.
Не помню, потому что беспамятство – правило сна. Не помню, потому что беспамятство – правило литературы. Не помню, потому что литература – это собрание записанных снов, библиотека – большой сонник, а самый длинный реалистический роман – это опять-таки подробно записанный и очень отчетливый сон. «То, что не произнесено (не записано), – отправляется в небытие». Но то, что прочитано, тоже туда отправляется, потому что и процесс писания, и процесс чтения очень много со сном, с забытьем и с забвеньем имеют общего.
Когда Патрик Зюскинд в своем лукавом тексте о полной утрате литературной памяти «Amnesie in litteris»[41]41
Примечание Пильха: «Amnesie in litteris» помещена в самой слабой книге Патрика Зюскинда «Три истории и одно наблюдение». Я сам писал, что люблю, что трогают меня как раз слабые книги сильных авторов, эта слабость придаст им какие-то человеческие черты. Где и когда сделал я такое замечание, нс помню. Если чужие тексты запоминаются выборочно, то свои не запоминаются вообще. И это тоже хорошо. «Нужно записать и перестать об этом думать», как сказал (нет у меня желания притворяться, что не помню) Артур Мендзыжецкий.
[Закрыть] описывает, как берет первую попавшуюся книгу (которую он уже брал, но не помнит), как начинает читать (он ее уже читал, но не помнит), как его охватывает абсолютный восторг (он его уже испытывал, но забыл), – так вот, не о чем ином, как о погружении в чтение-сон, он и пишет. «Я держу в руках выдающуюся книгу, где каждая фраза – удача, и, не отрывая глаз от текста, я добираюсь до своего стула, сажусь, продолжая читать, забываю все на свете, забываю, зачем вообще читаю, снедаемый жаждой наслаждения и новизны, открывающейся передо мною на каждой странице»[42]42
Здесь и далее перевод Э. Венгеровой.
[Закрыть].
Обнаруживается, понятное дело (повествовательный сюрприз никуда не годен, его легко предугадать), что эти совсем новые лакомства не были совсем новые, а просто были совсем забыты. Но теперь все это можно – без излишнего драматизирования и волнения по поводу своего, впрочем, в значительной степени вымышленного литературного склероза, – теперь можно все это вспомнить. На то и существует библиотека, на то и держат в доме книги, чтобы иметь возможность в любой момент освежить забытый сон. Ей-ей, святую правду говорит Зюскинд, когда размышляет, например, о стоящих в его библиотеке трех биографиях Александра Македонского. «Я когда-то прочел все три. Что я знаю об Александре Македонском? Ничего. В конце соседней полки стоят несколько фолиантов о Тридцатилетней войне, в том числе пятисотстраничная монография Вероники Веджвуд и тысячестраничный том Голо Манна о Валленштайне. Я все это честно прочел. Что я знаю о Тридцатилетней войне? Ничего. Полка внизу битком набита книгами о Людвиге Втором Баварском и его времени. Я их не только прочел, я перепахал их вдоль и поперек, сидел над ними год и в результате написал три сценария, меня можно считать чуть ли не экспертом по Людвигу Второму. Что же я помню сейчас о Людвиге Втором и его времени? Ничего. Абсолютно ничего. Ну хорошо, думаю я, эту тотальную амнезию относительно Людвига Второго я еще переживу. Но как обстоят дела с книгами, стоящими вон там, рядом с моим письменным столом, на стеллаже с более изящной словесностью? Что сохранилось в моей памяти из пятнадцатитомного собрания сочинений Андерша? Ничего. Из Белля, Вальзера, Кеппена? Ничего. Из десяти томов Хандке? Меньше чем ничего. Что я помню о Тристраме Шенди, о признаниях Буссо, о прогулках Зойме? Ничего, ничего, ничего. Ах да! Комедии Шекспира! В прошлом году я перечел все. Должно же что-то остаться, какое-нибудь смутное впечатление, какое-нибудь заглавие, хоть бы один-единственный заголовок одной-единственной комедии Шекспира! Ничего. Но, Господи Боже, Гете, по крайней мере Гете, например, вот этот беленький томик «Избирательное сродство», я перечитывал его трижды – и не сохранил ни малейшего представления. Все словно ветром сдуло. Да есть ли еще на свете хоть одна книга, которую я вспомню? Вон те два красных тома, такие толстые, с красной матерчатой закладкой, я же должен их вспомнить, они кажутся мне знакомыми, как старый диван, их-то я точно читал, я в них жил, в этих томах, не вылезая неделями, и было это не так уж давно, что же это, как называется? «Бесы». Так-так. Ага. Интересно. А кто автор? Достоевский. Гм. Да-а. Кажется, что-то я смутно припоминаю: действие происходит, по-моему, в девятнадцатом веке, и во втором томе кто-то стреляется из пистолета. А больше сказать нечего».
А вот я если и помню из «Бесов» чуть больше, то совсем чуть-чуть. Из «Братьев Карамазовых» помню очень много, а именно, мне известно, кто убил, то есть ничего не помню. «Волшебную гору» читаю каждые два-три года и более-менее знаю имена героев. Из прозы Фолкнера, Платонова, Бабеля, Шульца, Мелвилла, Кафки, Кундеры, Музиля, Броха, Ивашкевича не помню ничего. Всех этих писателей я очень внимательно, а порой и по несколько раз прочел, а помню очень мало. Но, сказать по правде, если б я хорошо их помнил, то был бы беднее, был бы несчастнее, был бы ближе к концу, был бы уже мертвым какой-то частью моей души. Ведь если бы у меня была настоящая уверенность, что я хорошо знаю и помню, ну вот, скажем, «Доктора Фаустуса» Томаса Манна, то у меня было бы также мучительное ощущение смерти этой книги, уверенность, что я уже никогда не стану ее читать, и, кто знает, может, я бы даже выбросил этот том из библиотеки, зачем же хранить то, что знаешь наизусть и к чему никогда не обратишься снова? В своих – еще раз подчеркиваю – несколько фальшиво сконструированных сомнениях Зюскинд вдет значительно дальше: «К чему тогда перечитывать хотя бы эту книгу, ведь я знаю, что через некоторое время в памяти не сохранится даже тени воспоминания о ней? К чему вообще что-то делать, если все распадается, исчезает, превращается в ничто? К чему тогда жить, если все равно умрешь?»
Перспектива продолжения этой рефлексии достаточно тривиальна в своей комичности. Зачем любить, если когда-то уже любил? Зачем есть, если уже ел? Зачем ехать в Вислу, если там уже бывал? Зачем идти в кино, если уже ходил? А затем, что жизнь – штука одноразовая и своей одноразовостью порождает сильный, беспощадный, мифический голод по повторениям. Книги читают не для того, чтобы их помнить. Книги читают для того, чтобы их забывать, а забывают для того, чтобы иметь возможность читать снова. Библиотека является собранием снов забытых, но сохраненных, шансом постоянного возвращения, а каждое возвращение может опять стать первым знакомством. Но вообще-то, если уж на то пошло, вся эта amnesie in litteris – явление весьма условное: то, чего не помнишь на поверхностном уровне, помнишь на глубинном. Даже из наиболее основательно забытых текстов в лабиринтах подсознания откладываются фрагменты образов, настроений, сюжетов. «Как можно забыть? А однако можно / Остаются (все же) детали, логика праха». В чтении забывание столь же существенно, сколь и запоминание. Новое, повторное прочтение – это не то что «переживем-ка все еще разок», это очередное оживление сна, а сон, пусть и снившийся когда-то, всегда непредсказуем. Зачем засыпать, если человек все равно проснется, и зачем пробуждаться, если человек все равно уснет?
Образ литературы как сна, библиотеки-сонника, собрания записанных снов имеет старинную, огромную и многообразную традицию, и совсем не по онирическому совпадению тысячи книг начинаются со сцены пробуждения или засыпания. Герой Пруста рано укладывается спать, Грегор Замза пробуждается и обнаруживает то, что обнаруживает, Илья Ильич Обломов лежит утром в постели. Литература является извечным выходом из сна и вхождением в сон. Пишущий человек всегда на грани, всегда на краю этих миров, даже находясь внутри творческого процесса он всегда на пороге творческого процесса.
Просыпаешься от беспокойных снов, и не важно, просыпаешься ли ты в обледенелом доме в горах или в нагретой, как мартеновская печь, высотке на Франческо Нулло, все равно ты весь трясешься от непонятной ярости, и напрасно упражняешь свои риторические способности, и притворяешься, что не знаешь, против кого должен свою муку и ярость обратить, притворяешься, что не видишь ни чистых элегантных тетрадок в линеечку, ни стопки первоклассной, девственно чистой, не тронутой чернилами бумаги на столе. И зачем притворяешься? Зачем притворяешься, если все равно ничего другого не умеешь? Ах, разумеется, ты притворяешься, потому что продолжаешь думать о той завлекательной чахоточнице, которая тебе во сне шахматы продавала, а в таких ситуациях – не важно, во сне или наяву, – ты всегда притворяешься. Думаешь о завлекательной чахоточнице и видишь ее отчетливо, видишь ее платье из черной тафты, губы, обведенные помадой Bourjois, серебряную цепочку на хрупком запястье, видишь ее отчетливо, и это хорошо. Литература – сон, но сон отчетливый, полносюжетный и с подробностями.