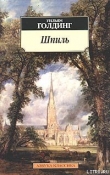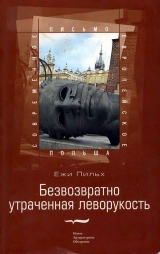
Текст книги "Безвозвратно утраченная леворукость"
Автор книги: Ежи Пильх
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 14 страниц)
Кошачья музыка
С некоторым опозданием я заметил, что Хануля в конце концов привезла кота из Франции. Само появление кота, сам момент его прибытия ускользнули от моего внимания – слаб я тогда был и в упадке.
Я лежал, притихший и исполненный скорби, и изумлялся умеренности ожиданий, какие в отношении меня питают мои ближние. Я покоился, утопанный в черное одеяло страдания, и поражался скромности предъявляемых мне требований. О тяжкая повинность, вздыхал я сугубо риторически, о тяжкая повинность, о священный долг, постанывал я театрально, я же знаю: моя жена, например, ждет от меня немногого, чтобы временами я проявлял сердечное тепло, мать моя всего лишь ждет, чтобы я приезжал к ней хоть раз в полгода, мой ребенок ждет, чтобы я прилюдно позора на него не навлекал. В «Тыгоднике Повшехном» ждут, чтобы я худо-бедно раз в неделю какой-нибудь текстик состряпал, Мариан Сталя ждет с неудовольствием, чтобы я на какую-нибудь глобальную тему высказался, Кася Морстин в редакционном секретариате ждет французскую сигарету, братья протестанты ждут, чтобы я оставил их в покое, короче говоря, ближние мои почти ничего от меня не хотят.
Если бы не то, что внутри я весь испепелен и утратил способность чувствовать, это было бы прямо-таки унизительно, у других-то ведь все по-другому, другие – это да, другим не только предъявляют требования, от других не только того и сего ждут, но другие прямо-таки эти ожидания реализуют и возложенные на них надежды оправдывают. От них ждут, например, что они будут руководить большими коллективами, и они делают это, руководят большими коллективами, от них ждут, что они будут возводить сложные конструкции, и они возводят сложные конструкции, от них ждут, что они починят телевизор, и они чинят телевизор. А вот от меня ожидается самая малость чего-то, но принести в дар кому-то самую малость чего-то у меня не слишком выходит. Даже кота поприветствовать мне не удалось. Знаю, что не стоит впадать в инфантильный энтузиазм антропоморфизации, знаю, что кот не ожидал хлеба с солью, триумфальных врат и приветственных комиссий, я все это знаю, у меня зрелое, онтологическое осознание, что кот есть кот, но ведь осознание не приносит отрады, а наоборот, углубляет чувство поражения, ведь чтобы вот так совершенно прибытия кота не заметить…
Тоскливо мне было и стыдно. И лишь когда мгла рассеялась, когда кот из тумана моего отчаяния показался целиком, мои угрызения совести как рукой сняло. Хорошо я сделал, что кота этого не сразу заметил, это сэкономило мне хоть нескольких дней чудовищного шока, инстинкт, наверное, или Господь Бог мною руководил. Что за кошачья морда! Что за рыло! Сколько фальши! Какое вырождение! Quel monstre! Я поднимаюсь, я возвращаюсь к миру, а тут надо мной колышется кошачья голова, словно фальшивый фонарь. Колышется и улыбается лицемерно.
Коты – что общеизвестно – по природе своей фальшивы, и кошачьи морды, все без исключения, полны фальши. И этот такой же, его морду прикрывает гримаса лицемерия. Но есть в нем еще что-то в дополнительной степени дегенеративное, какой-то дополнительный цинизм, какой-то криминальный налет, более ярко выраженный по сравнению с заурядной кошачьей криминальностью. Раболепно ластится, потягивается, зевает, и с этим зевком долетает до меня тошнотворное облако классического запаха. Господи Иисусе, да ведь от этой скотины разит Шанелью! Волосы у меня дыбом встали, руки опять начали трястись, и если бы не то, что был это не кот, а кошка, я бы этого кота грубым словом к эротическому меньшинству причислил. Да я тебя, бестия, – подумал я, – я тебя, бестия, в «Тыгоднике Повшехном» припечатаю, я прямо сейчас ядовитый текст напишу под заголовком «Кот на наклонной плоскости» и сухого места на тебе не оставлю! Я удержался от этой единственно известной мне формы человеческой активности, удержался, но уже все знал, до меня наконец дошло.
Ведь этот кот – француз, всеми силами старался я осознать, этот кот из Франции приехал, и, кроме естественного кошачьего разбоя, в нем есть еще и дополнительное французское вырождение. Я смотрел на этого пижона, смотрел на это парижское создание, смотрел на этого несчастного зверя, уже по самому своему географическому происхождению падшего, я взирал на него упорно, словно бы самой его порочностью завороженный, взирал, и постепенно, постепенно омерзение начинало перерождаться в восхищение.
Я видел в его глазах бездну столь же черную, как Варфоломеевская ночь, из его искрящейся шерсти выскакивали языки пламени костра Жанны Д’Арк, а может быть, костра Великого Мастера Тамплиеров, кот мяукал, и слышен был гром Великой Революции, полосы на кошачьем хребте были радикальными, как террор якобинцев, он ступал с чрезвычайной осторожностью, и шаг его был шагом коллаборационистов из Виши, он скрывался в закоулках квартиры, словно все еще стыдясь дела Дрейфуса, на форточку взбирался с решительностью палача, ведущего на эшафот ни в чем не повинного монарха, объявлял предметам войну и тут же капитулировал, как маршал Петэн в тысяча девятьсот сороковом. Я не мог обуздать этого видения, а еще я видел, я видел, как в кошачьем нутре перелистываются самые черные страницы истории его родины. Я понял, что кот отмечен Францией, так же как мы, поляки, Польшей, и готовность к действию наполнила мое сердце.
Сезон отчетов о собственной невезучести канул безвозвратно, правда, от меня по-прежнему никто ничего не ждал, но появился падший французский кот, и я мог немного сентиментально и несколько наивно предположить, что этот кот – первый, кто чего-то более существенного от меня ждет. Даже по логике вещей все сходилось, ведь и мои ожидания в отношении этого кота были значительными, и если бы я сказал, что ждал его так спасения, то пусть это и было бы преувеличением, но я действительно ждал его, я считал, что это домашнее животное умерит мое отчаяние, стояло лето моего отчаяния, а тонущий в дожде Краков, город моего отчаяния, был как гипсовая отливка города на дне океана.
И, возжаждав утешения, я страстно захотел и коту дать утешение, и молчал беспомощно, и стоял на хрупкой, как линия Мажино, границе нелепости. Ведь абсолютной нелепостью было бы объяснять этому даже столь трагически заклейменному историей коту, что он теперь в Польше, нелепостью было бы рассказывать ему про Польшу, нелепостью было бы утешать его Польшей. Коту не Польша нужна, а whiskas. Кот, ты прибыл в Польшу, – если бы я сказал так, – кот, ты прибыл в страну реформ, в страну, которая освободилась от московского ярма, видишь, mon cher chat, ты сейчас в краях, где родилось самое прекрасное со времен Спартака общественное движение, – если бы я сказал так, то даже если бы в построенном таким образом монологе я затронул суть вещей, то все равно, кот, я знаю, что тебе не Польша независимая нужна, а whiskas, по поводу чего, однако, не могу не заметить, что whiskas доступен в магазинах именно благодаря независимости Польши, но даже если бы я этот интересный парадокс отметил (whiskas независимый и whiskas западный) и даже если бы мне удалось во всем высказываниях сохранить стилистическое равновесие, то ведь осрамился бы я и выставил себя на посмешище. Кот как литературный персонаж – ради бога, но кот как медиум, как адресат публицистических метафор – решение неудачное, ложный путь, художественное фиаско.
И тогда я уразумел, что ничего не нужно коту говорить, он и так все слышит. Сидит во всем своем небывалом изяществе посреди комнаты и напрягает уши, бархатные, как обивка кресел в Версале. Сидит и слушает. Каждый шорох слышит, капли дождя, стучащие о парапет, скрип двери, шаги на ступеньках, грохот трамвая, едущего из Домбья, чей-то голос за стеной. Слушает, и есть в нем хорошо мне знакомая паническая реакция слуха, которая заставляет вскочить на ноги при звуке внезапно трогающегося лифта или велит оцепенеть при дребезжании неожиданного звонка. Кот слушает комнату, слушает дом и слушает город. Дождь перестал, слышно шуршание шин, вращающихся на мокром асфальте, кот слышит хлопки складываемых зонтов, слышит разговор двух медсестер, идущих по улице Коперника, слышит колокола, звонящие на день Ангела Господня, слышит музыкантов, раскладывающих ноты на Славковской, слышит шум воды, летящей по замурованным водопроводам. Город курится, как гора Арарат. Кот слышит музыку, как если бы сидел на моем плече. Улицы сейчас словно большие концертные залы, и я иду напрямик через поля музыки. На Сенной петербургские оркестранты играют увертюру к «Вильгельму Теллю», в конце Гродской трио в болоньевых куртках (кларнет, альт, аккордеон) играет Kegelstatt Моцарта, кот слышит доносящееся с Висльной «Адажио» из концерта для гобоя Альбинони, музыканты Львовской филармонии, а может, всего лишь пара учителей музыки из Киева (флейта и аккордеон) играют на Шпитальной сонату для флейты и клавесина соль минор Иоганна Себастьяна Баха, а откуда доносится «Ариодант» Генделя? А кто играет сейчас Лакателли, Корелли, Зеленку? Кот знает. Я иду по переполненному чужеземными музыкантами Кракову, чужеземный кот их слушает, флейта, гобой, скрипка, кларнет, виолончель, все уличные инструменты играют. Я иду и изумляюсь ничтожности ожиданий, предъявляемых мне музыкой, совершенной, как кошачий череп.
Подробное описание одного откровения
В середине шестидесятых на площади Коссака в Кракове я увидел первую женщину в мини-юбке. С ней рядом шла другая, в так же радикально укороченной материнской юбке – инициация имела двойной характер. Думаю, что стояла тогда, если быть точным, весна 1965 года. Все открытия западного мира добирались до нас всегда с многомесячным, а то и с годовым опозданием; открытие мини западный мир совершил летом 1964-го, и маловероятно, чтобы столь революционное изобретение смогло в течение нескольких недель пробиться за железный занавес и распространить свое влияние на территорию Варшавского Договора. Теоретически, в самом лучшем случае, это могла быть осень 1964-го, но скорее это была все-таки весна уже следующего года от Рождества Христова.
По площади Коссака шли две красотки в мини-юбках. Мы с Бронеком Нашем, Мареком Альбрехтом и Михалом Бурсой возвращались из школы; мы уже давно были во всех отношениях взрослыми мужчинами, наши бессознательные политические биографии тоже были не так себе, в конце концов еще при нашей якобы короткой жизни умер Сталин, состоялся XX съезд КПСС, умер Берут, случились Познаньские события[54]54
Познаньские события – или «познаньское восстание», крупнейшая экономическая забастовка рабочих в 1956 г., встряхнувшая Польшу. Явившись косвенным следствием десталинизации, в свою очередь во многом повлияла на ход общественных и политических перемен в Польше.
[Закрыть], пришел к власти Гомулка, Солженицын опубликовал «Один день Ивана Денисовича», Мерилин Монро совершила самоубийство, в результате покушения погиб президент Кеннеди, и много еще других вещей произошло, которые – знали мы о них или нет – наложили на нас свой мрачный отпечаток. Уголки ртов постепенно опускались вниз в гримасе горечи, тонкие морщины начинали покрывать лбы, седеть мы, правда, еще не седели, но всеохватывающий мужской скептицизм пропитывал нас насквозь. Ради святого спокойствия и прежде всего для отвода глаз мы таскали на спине ранцы и держали в руках мешки со сменной обувью. Одеты мы были в синие пиджаки с нарукавными знаками, и это тоже было неплохо – школьная форма отвлекала внимание от наших голов, в которых роились чудовищные мысли.
Мы стояли онемев. Две первопроходицы, две пионерки длины до середины бедра шли через площадь Коссака, шли неустойчивой походкой, их предельно обнаженные ноги ступали неуверенно, а неустойчивость, робость и отчаянно преодолеваемый стыд придавали им неведомое очарование. Нам тогда казалось, что мы уже знаем о женщинах все, однако же знали мы мало. Например, о тончайшей связи, которая возникает между нескромной перекройкой дамского гардероба и дебютантской паникой неумеренно открытого тела, мы не имели ни малейшего понятия.
Они шли, мы стояли. Они шли все увереннее и все ловчее, а мы стояли все неувереннее и все беспомощнее. Они, не успев перейти через площадь Коссака, из дебютанток превратились в виртуозок длины до середины бедра, мы же совсем потерялись, мы не знали даже, как отдаться собственному восторгу, потому что мы вообще не знали, что восторг существует для того, чтобы ему отдаваться. В этом ступоре, безмолвии и пустоте наши запястья начали непроизвольно двигаться, наши сшитые из подкладочной ткани мешки для обуви стали раскручиваться и затем вращаться, и этим кручением, этим вращением, этими нашими мешками для обуви, набирающими обороты, словно тряпочные пропеллеры, мы отдавали честь Смелости и Красоте, а также – как думаю я спустя годы – Исторической Преемственности.
Так я думаю, а скорее, так я считаю. Ведь эти девушки двадцати с небольшим лет, что в середине шестидесятых шли через площадь Коссака, должны были родиться в середине или в начале сороковых. Их матери, которые в середине шестидесятых дали им для укорачивания совершенно приличные юбки, их матери, которые в середине шестидесятых были интенсивными дамами за сорок, родиться должны были в середине или в начале двадцатых. Интересно, в свою очередь, как им это удавалось, эта их интенсивность? Ведь забота о красоте и Владислав Гомулка – две вещи несовместные, ведь мода, женская косметика и средства ухода за телом в эпоху Гомулки – не более чем череда оксюморонов. Но откуда же тогда крем? Откуда губная помада? Откуда тени для век? Откуда шампунь? Откуда ароматическое мыло? Откуда ткань на блузку? Откуда они это брали и как это делали?
Жизнь понарошку, что общеизвестно, это жизнь очень интенсивная, это жизнь, полная неожиданностей, в которой каждую минуту может произойти что-то замечательное. Кто-то может из-за границы протащить контрабандой кусок мыла Palmolive, который потом будет для особого случая храниться на дне шкафа, с неба могут свалиться бабки, за которые в комиссионном приобретется французская помада, дядя из Америки пришлет доллары, и с этими долларами можно пойти в валютный магазин в каком-нибудь большом городе. Кроме того, волосы, например, можно вымыть желтком, пивом, отваром из крапивы, осветлить ромашкой или разбавленной перекисью водорода, можно стародавнее пальтишко из тонкого твида ловко переделать в модное платье, не ношенную с самой, кажется, войны юбку из габардина можно укоротить. Ушивание и в особенности укорачивание значительно выше колена – вещь неотвратимая, но ведь неизвестно, можно ли так ходить? Можно ли в таком коротком хотя бы через площадь Коссака перейти? Или нужно будет моментально возвращаться домой на Филарецкую? Так что поборницы авангардной одежды лезли в чулан и укорачивали довоенные материнские юбки, шили мини из старомодного отцовского пиджака – ткани панама или тропик тридцатых годов не знали сносу.
Мы стояли на площади Коссака, чертовыми мельницами вращались наши мешки для обуви, мы сгибались под тяжестью мудрости, но историософско-гардеробная рефлексия о том, что первые мини-юбки, на которые мы смотрим, сделаны из еще довоенных материалов, не приходила нам в голову.
«Мужчины моего поколения, – рассказывает Беллоу в «Даре Гумбольдта», – так и не смогли привыкнуть к силе, длине и красоте женских ног, в прежние времена совершенно закрытых». Мужчины моего поколения, по-видимому, привыкли к силе, длине и красоте женских ног, закрытых когда-то на непродолжительное время, а потом постоянно открытых. Я, во всяком случае, привык совершенно безболезненно. Не могу, однако же, отвыкнуть от мысли, что первая открывающая женские ноги мини-юбка, какую я в жизни увидел, была сшита из досентябрьских тканей[55]55
Досентябрьские ткани – имеется в виду сентябрь 1939 г., начало Второй мировой войны.
[Закрыть]. Мысль эта не навязчивая (навязчиво я думаю кое о чем другом), но достаточно явственная.
«Мир этому дому»
Глаукома разъедала глаза, опасно увеличивалось внутриглазное давление, уменьшалось поле зрения, диабет точил крепкое тело пана Начальника, ранки не хотели затягиваться, ухудшалась свертываемость крови, сосуды становились хрупкими, начался склероз, после инсульта дед был наполовину парализован. Казалось, это уже конец, но он пришел в себя, вернулся в нормальную форму, хотя это была нормальная форма человека, погруженного в непроглядную тьму: еще задолго до кровоизлияния он был уже совершенно слеп.
Центр здоровья в Висле, частный кабинет в Устроне, больница в Заводе, больница в Чешине, больница в Кракове, неправдоподобные количества инсулина, тонны всевозможных таблеток, цистерны глазных капель, операция, уколы, но что хуже всего – диета.
Дедушка Чиж был человеком добрым, я, кажется, вообще не припоминаю его гнева, он был человеком большой души и переносил превратности судьбы с внутренним спокойствием. И в точности, как это сказано в Писании, делал он добро и зло добром побеждал. Когда все без малого его проекты по улучшению жизни шли насмарку, когда все причудливые инициативы заканчивались провалом, он сохранял спокойствие и безмятежность. Когда еще учеником Чешинской гимназии он без памяти влюбился в Марысю Хмелювну, которая ходила к сестрам-боромеушкам на курсы кройки, шитья и кулинарного искусства, он стойко переносил любовные муки.
В гимназии польскому языку дедушку учил Пшибось[56]56
Юлиан Пшибось (1901–1970) – поэт и эссеист, активный участник литературной жизни своего времени. Ведущий представитель и теоретик польского авангарда в поэзии, во многом повлиял на развитие польского свободного стиха.
[Закрыть], учеников было без малого тридцать, почти одни мужчины, только две гимназистки ходили в тот же класс, что и дедушка: Анна Бобкувна и Мажена Скотницувна. Скотницувну дедушка помнил прекрасно, она, похоже, была необыкновенно хороша, а кроме того, ее невозможно было забыть из-за трагедии: незадолго до окончания гимназии она погибла при восхождении на гору Замарла Турня. Когда почти через полвека я говорил дедушке, что Юлиан Пшибось о ней и ее смерти написал стихотворение под названием «Из Татр», что это очень известное стихотворение, что его печатают в школьных учебниках и что на примере этого стихотворения новые поколения выпускников постигают тайны авангардной поэзии, когда я пытался донести до сознания дедушки, насколько сенсационно близко (на расстоянии вытянутой руки от сидящей прямо перед ним Мажены С.) к важным эпизодам современной литературы он находился, дедушка сохранял глубочайший скептицизм. Видимо, Пшибось как полонист не пользовался особым уважением, о том, что он поэт, тоже, скорее всего, известно не было, и писательским наследием своего былого учителя дедушка совсем не интересовался. Не исключено, что в каком-нибудь графоманском порыве я захотел прочитать ему стихотворение, посвященное Скотницувне, но вовремя опомнился. Хотя я был тогда молодым поэтом, готовым ломать все традиции и нарушать табу, но какую-никакую дисциплину, видно, имел, потому что более или менее сознательно должен был отдавать себе отчет, что чтение поэзии Пшибося человеку, судьбою крепко битому, – грубая бестактность. Достаточно того, что я сверх меры допытывался об этом ведущем представителе Краковского Авангарда[57]57
Краковский Авангард – значительное поэтическое течение 20-х гг. XX в. в Польше, отражающее урбанистические и технократические тенденции эпохи.
[Закрыть], дедушка пытался от меня отделаться, иронично отмахивался и в конце концов процедил: «Напыщенный карлик», после чего разразился добродушным смехом, будто смехом хотел нивелировать едкую меткость фразы.
Темный зал математико-естествоведческого отделения, гимназисты поглядывают в сторону красивой однокашницы, сегодня она надела блузку тревожащего цвета шалфея, уж очень в ней прелестно однокашница выглядела, через пару недель под ее стопами должна была разверзнуться бездна, под их стопами, впрочем, тоже постепенно разверзались другие пропасти. Сидящий у окна Хлавичка, например, сдаст на аттестат зрелости, окончит учебу, пойдет на войну и выстрелом в затылок будет убит в лесу под Катынью, так же и Пробст, Радлинский станет министром химии в правительстве Гомулки, Кноппек солдатом немецкой армии погибнет на восточном фронте. Чиж станет после войны начальником почты… Можно перечислять фамилию за фамилией, без малого тридцать биографий двадцатого века, один выпускной класс, Чешинская гимназия, точно белый камешек, лежащий у подножия Карпат. Они пока еще вместе, их стопы еще касаются пола, вычищенного школьным сторожем Харатиком, напыщенный Авангардист снует среди них, и хотя он вообще-то мог бы что-то сказать, сказать ему нечего, никого он не заражает любовью к поэзии.
Дедушка влюблен в Марысю Хмелювну, и даже в голову ему не приходит, что можно ей написать стихотворение или какое-то уже написанное кем-то другим просто переписать, выслать почтой, вписать ей в альбом. Любовь дедушки так сильна, что обходится без литературы. Любовь дедушки, должно быть, сильна и постоянна, потому что, когда Марыся выходит замуж за преуспевающего вислинского мясника, эмоциональная жизнь дедушки не претерпевает никаких метаморфоз, возможно, любовь, окрашенная трагизмом, становится еще сильнее, трагизм помогает выживанию. Да что там говорить! Любовь его была чудовищна, страшна, сильна, постоянна и безосновательна, вера же его была крепка, как камень на Рувнице; и горячие молитвы, чтобы зажиточный мясник из центра Вислы как можно скорее познал вечное блаженство райской жизни, были выслушаны, через неполных два года после женитьбы мясник – видно так ему было суждено – разбился на мотоцикле.
Победила любовь, а еще победила доброта. Ведь если человек берет на шею вдову, старше себя на два года и с ребенком, если заодно берет обложенную долгами – как выяснилось – мясную лавку, он не только реализует себя в любви, он еще и реализует себя в добром поступке. Добротой дедушка добивался всего и из-за нее же все терял. Добротой, а точнее сказать, терпеливым добродушием пробовал он даже коммунистам противостоять. Когда в шестидесятых годах кто-то из уездных «товарищей», напрягая остатки революционного чутья, заметил, что занимающий ключевой пост начальник п/о Висла-Здравница гражданин Чиж Ежи не является «товарищем», среди «товарищей» произошло заметное оживление, начался идеологический штурм, стали вращаться невидимые шестерни и множиться необоснованные атаки, ничтожность активизировалась. Дедушка принял вызов, писал заявления, объяснительные записки, терпеливо отбивался от вымышленных претензий, опровергал все космические обвинения, выигрывал одно за другим топорно инсценированные дисциплинарные разбирательства, и хотя нападение он отразил и вообще-то одержал победу, но в целом проиграл, потому что стороны играли в две разные игры. Ведь «товарищи» знали, что речь идет не о фальшивом обвинении, а об отсутствии однозначной идеологической позиции и, следовательно, об идеологическом непослушании, то есть об обвинении настоящем и серьезном. Туг действовал классический набор диалектических системных механизмов, в другое время и с другой стороны я уже пробовал подробнее описать эту историю.
Коротко и образно говоря, начальник Чиж был таким человеком, что если, предположим, подходил к нему вызывающий смешанные чувства клошар и просил о материальной поддержке, то получал и поддержку, и доброе слово в придачу. В Чешинской Силезии клошары всегда были редкостью, даже теперь, в эпоху великого перемещения клошаров, их здесь почти нет, однако если во времена Терека или Гомулки обнаруживался какой-нибудь предвестник безработицы, и если испытывал он денежную нужду, предположим, на автобусном вокзале в Чешине, и если колебался, кого выбрать и к кому подойти, то после раздумий и по подсказке внутреннего голоса метко выбирал ждущего автобуса до Вислы начальника Чижа. И подходил к нему, и нерешительно формулировал просьбу, и дедушка вытаскивал из портмоне знаменитую монету с изображением рыбака, и вручал ее клошару, и говорил: «Вот, иди и живи с миром». Он любил говорить изысканной библейской фразой, а евангелический «мир» был в его языке словом-ключом. «Мир этому дому» – такова была ежедневно используемая им приветственно-прощальная формула. С большой радостью в голосе и одновременно с большой торжественностью он повторял: «Мир этому дому».
Одной из самых провальных его затей было разведение норок. Под это приспособили помещение старой скотобойни, были сконструированы специальные клетки, была оформлена подписка на «Прикладное животноводство» – и высокодоходное предприятие заработало. Планы были поначалу скромные, на первых порах предполагалось как-то обеспечить внутренние потребности, на ближайшую зиму все домашние должны были обзавестись теплыми шубами и дорогими шапками из норок, и только в последующие годы планировались наличные и инвестиции. К сожалению, дедушка Чиж уже тогда очень плохо видел. Когда ежемесячно приходили новые номера «Прикладного животноводства», мы садились в нашей большой кухне за покрытым голубой клеенкой столом и я читал ему вслух от корки до корки всю рубрику, озаглавленную «Пушные звери». А. Абрахамович, «Как наши нутрии размножаются и зимуют». К. Петрушевский, «Копуляция голубых полярных лисиц». З. Волинский, «Разведение нутрий за океаном». Й. Гедымин, «На пороге копуляционного сезона». Б. К. Дашкевич, «Перед спариванием норок». З. Войтатович, «Заметки о разведении норок в Чехословакии». Я читал статью за статьей, дедушка слушал с напряженным вниманием, набранные жирным шрифтом заголовки он еще видел, а самого текста уже нет. Сами норки были значительно больше букв, и их он видел хорошо, но, к сожалению, они не были также, как буквы, неподвижны. Почти всегда, когда он кормил их или когда с нерасторопностью и неловкостью близорукого человека чистил им клетки, какое-нибудь из этих чрезвычайно проворных созданий ускользало на свободу. Какие потом бывали облавы! Какие погони! Какая охота! Совершенно особые истории надо тут рассказывать, иные качественные стороны бытия описывать. Короче говоря, сбежавшая норка, пока ее где-нибудь в окрестностях не поймали, в общем и целом успевала у ближних, а иногда и у дальних соседей всю птицу передушить, ибо норка – животное невзрачное, но весьма кровожадное.
Понятное дело, что перипетии эти усложняли (хотя вместе с тем и упрощали) экономический баланс. А именно, весь доход предприятия шел на компенсацию затрат предприятия. Мать вместо шубы пошила себе элегантный головной убор, бабушка все равно шубу ни за что бы не надела, а я вздыхал с облегчением: призрак отвратительной меховой шапки, которую, наверное, не удалось бы спрятать в ранце, сгинул сам собой.
Единственной неожиданно полезной, как потом выяснилось, вещью во всей этой авантюре оказалась крапива. Крапива была необходимой составляющей корма норок, и дедушка эту кусачую траву срывал голыми руками. Косить не удавалось, а работа в рукавицах не входила в расчет по причинам фундаментальным. Взрослый мужчина, выполняющий работу, не важно какую, в рукавицах – это был даже не оксюморон, просто такого понятия, даже образа такого не существовало, потому что существовать не могло – химера за рамками всех категорий. Так что дедушка терпеливо и со спокойствием духа брал крапиву голыми руками и через некоторое время стал совершенно нечувствителен к ее яду, а когда начал слабеть и когда его начали преследовать болезни, он хотя бы с ревматизмом не имел проблем. Ревматизм его вообще не беспокоил, так как общение с крапивой вырабатывает к нему стойкий иммунитет и от ревматизма вылечивает.
С миром и покоем в душе сносил он слепоту, болезни, коммунистический режим. С миром и покоем в душе ловил сбежавших норок, смиренно переживал фиаско собственных планов, радовался, что нет ревматизма. Был он человеком добрым, а сам вид человека, щедро раздающего милостыню и голыми ругами трогающего крапиву, воспринимается как эпизод, взятый из агиографии. Но святым он не был, ненависть жила в его сердце. Дедушка Чиж всем сердцем ненавидел ограничения в еде и всевозможные диеты. Категорические запреты, диабетические предписания, пустая больничная еда приводили его в ярость. Лицо его темнело над тарелкой вареных овощей, запах выпечки и строжайше запрещенного творожника[58]58
Творожник (sernik) – наиболее распространенный традиционный польский десерт из творога.
[Закрыть] приводил его в бешенство или почти суицидальную депрессию. От стакана водки, которую дедушка также очень уважал, он отказывался без особых страданий, но коробка шоколадных конфет была искушением, перед которым устоять было невозможно. Этого ему ни под каким видом не позволялось – но он тайком покупал, чудом добывал сладости и лакомства, потом вслепую прятал их по разным карманам и украдкой поедал. Он уже тогда совсем не видел (временами что-то маячило в длинных диабетических снах), ничего не видел и всегда где-нибудь оставлял обрывок фольги от «малаги», «каштанки» или «птичьего молока». Настоящие многоголосные сцены разворачивались тогда в нашей широкой, как оперная сцена, кухне. Ведь более чем полувековая жизнь под боком у любимой Марыси Хмелювны тоже требовала доброты, мира и покоя духа.