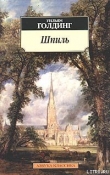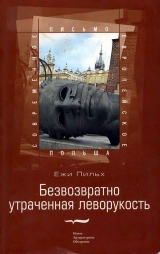
Текст книги "Безвозвратно утраченная леворукость"
Автор книги: Ежи Пильх
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 14 страниц)
Бюро некрологов и посмертных воспоминаний
По причине своих сентиментальных наклонностей я выбрал эффектную профессию автора некрологов и посмертных воспоминаний. Вот уже двадцать пять лет я составляю некрологи И посмертные воспоминания, принимаю также заказы на нетрадиционные надгробные надписи, рифмованные эпитафии, проникновенные погребальные речи; в общем, моя фирма оказывает всевозможные похоронные услуги письменного характера.
Начинал я скромно, познал и нужду, и голод, и унижения, но теперь мое «Бюро некрологов и посмертных воспоминаний» должным образом процветает. Год с лишним назад я взял на работу пани Илону и пани Ивону, двух бегло владеющих пером выпускниц киноведения, полгода тому назад сменил место и вывеску. Неприглядная клетушка в башне на Воле Духацкой сменилась на видный офис в центре города. А вместо висящей на ржавой проволоке опилочной доски с неуклюжей надписью от руки несмываемым фломастером появилась вмонтированная в стену латунная табличка с элегантной гравировкой и слегка стилизованным под готику шрифтом.
Стилизация под готику – это, конечно, абсурд, но она дает эффект достоинства, а достоинство тут необходимо. Когда я переступаю порог фирмы, то надеваю маску достоинства, когда отдаю распоряжения пани Илоне и пани Ивоне, я преисполнен достоинства (обе нравятся мне безумно, и чем безумней они мне нравятся, с тем более высокомерным холодом я отдаю им распоряжения), когда при звуках «Гольдберг-вариаций» в исполнении Глена Гульда я принимаю клиентов, я – само достоинство, я – воплощение достоинства, я – бог достоинства.
Достоинство – маска, за которой я прячу свое постоянное удивление. Я удивляюсь каждое утро. В моей жизни утро никогда не было временем удивления. На протяжении более полувека вместе с началом дня начиналось мое отчаяние. За плечами у меня более десятка тысяч безнадежных пробуждений, более десятка тысяч рассветов, озарявших мою дрожь, мое бессилие и мое безверие. Я был убежден, что ничтожная моя жизнь не изменится и умру я в ничтожности.
Но теперь я переродился, или, точнее говоря, был перерожден. Я познал перерождение, как Савл, как Мартин Лютер, как Борис Ельцин. Я удостоился превращения, как герой Кафки, хотя, поскольку метаморфоза моя благотворна, это дисквалифицирует меня как литературного героя. «Проснувшись однажды утром после беспокойного сна, Грегор Замза обнаружит, что он у себя в постели превратился в энергичного менеджера»[51]51
Первая строка рассказа Кафки «Метаморфоза» (перевод С. Апта), где изменены последние слова.
[Закрыть]. Эта фраза совершенно неприемлема, литература, оперирующая традиционными средствами, пока еще не может дать имя моему феномену, пока еще слышны вымуштрованные голоса политруков, голосящих о трансформации общественного строя, благодаря которой открывается поле для мелкого капиталистического предпринимательства, пока еще силу имеет первобытный язык тайных гадальных сонников: «На бирже играть – счастье в любви. Капитал умножать – дальняя дорога. Фирму основать – раздоры в семье. Инвестировать – смерть внезапная и неизбежная».
Как мог бы сказать поэт: то, что не названо, дает право на удивление. Так и есть, я имею право на удивление и щедро этим правом пользуюсь. Когда я смотрю вглубь анфилады светлых комнат, в которых еще недавно размещалась редакция обанкротившегося общественно-культурного еженедельника, когда я смотрю на худенькие, склоненные над компьютерами плечи пани Ивоны и пани Илоны, когда я смотрю на их волосы, вымытые красящим шампунем Poly Country Colors, и укладки, укрепленные питательным средством Laboratoires Garnier Paris, когда кончиками пальцев ласкаю бархатную поверхность дорогого велюра на моем столе, я не перестаю удивляться. Удивляюсь, и мне не хочется верить, что еще пару лег назад я сам, один, собственноручно, на разболтанной машинке «Эверест» выстукивал заказанные отделами пропаганды похоронные речи и посмертные воспоминания, восхваляющие заслуги и чтящие память скончавшихся партийных секретарей среднего звена.
Это вовсе не было тяжелой работой, с этого даже удавалось худо-бедно жить, но это была работа монотонная, низкая и интеллектуально опустошающая. В комитетах повятов и воеводств, даже в Центральном комитете партии я завоевал репутацию автора чрезвычайно трогательных и оригинальных похоронных речей и посмертных воспоминаний, они действительно такими и были, но их оригинальность и эмоциональность была вовсе не моей заслугой, мои похоронные речи тех времен были попросту грубым плагиатом. В букинистическом магазине на улице Славковской (ныне склад декоративных материалов) я приобрел в свое время достаточно редкую книгу «Собрание траурных речей Архиепископа Флориана Окши Стаблевского» (Познань, 1912) и просто-напросто одну за другой все эти похоронные проповеди, изменяя, конечно, соответствующим образом реалии и имена, начисто переписывал и отсылал в комитеты. «Товарищам» речи архиепископа нравились необыкновенно. Еще и потому, что здесь действовал главный для всех искусств эффект контраста. Я бывал на нескольких партийных панихидах, не буду скрывать – меня туда гнало тщеславие, я жаждал послушать первое исполнение якобы моих произведений, бывал и выслушивал, и не жалею. Я не утверждаю, что, предлагая продавшимся Москве чиновникам плагиат речей архиепископа Стаблевского, вел оппозиционную деятельность, этого я не утверждаю, но также ни о чем и не жалею.
Я стоял в плотной толпе участников похорон, лишенные крестов могилы партийных деятелей создавали необычайную иллюзию античности, мне всегда казалось, что Аллея Заслуженных – это найденное во время недавних раскопок нетронутое римское кладбище эпохи до нашей эры, под мраморными плитами покоились скелеты наместников Цезаря, плыли ледяные облака, красные знамена гудели на ноябрьском ветру. Сводный оркестр Краковского Предприятия городского транспорта играл «Интернационал», а одетый в неснашиваемый сталинский пыльник функционер вставал над открытой могилой и вынимал из-за пазухи траурную речь, которая была когда-то траурной речью на похоронах Флорентины Зарембины из графьев Бнинских в Гултове, или траурной речью на похоронах Аполинария Дрвенского, гимназиста, или речью на похоронах Александра барона Граев в Борке. «Когда, сраженный молнией, падет дуб, под зеленью которого недавно искали мы прохлады, когда от отцовского дома, свидетеля детских наших забав, в одну ночь лишь обугленное останется пепелище, когда небеса, что минуту назад в полуденном солнце золотились над нами, внезапно черным затянутся саваном и в зловещую ночь нас погрузят, – молкнет пир и тишина печали и тревоги разливается вокруг».
Цветистый стиль архиепископа Стаблевского до сегодняшнего дня волнует меня и пробуждает воспоминания, но у меня нет и тени сомнения, что с точки зрения рынка он уже непригоден. Сегодняшние потребности и ожидания значительно превышают запросы бывших «товарищей». Людям, понятное дело, по-прежнему не хочется умирать, быть может, некоторым (мне например) сейчас хочется жить даже еще сильнее, и именно поэтому живые жаждут придавать похоронам особый блеск, жаждут превращать погребение в интенсивную форму жизни, жаждут открыто и искусно рассуждать о смерти, жаждут оглашать незабываемые (а значит, вечные) похоронные речи, жаждут снабжать надгробия своих близких словами, исполненными поэтического мастерства. В людях возродилась вера в силу слова, в том числе – а возможно, и прежде всего – в силу слова последнего.
Сколько же за последнее время написал я прощальных слов, которые потом были положены в гробы, в карманы похоронных пиджаков, сколько последних прощаний, последних элегий. Четверть века занимаюсь я нелегким ремеслом воспевания умерших, а ведь я не отдавал себе отчета, сколь сильна потребность в корреспонденции с тем светом, в сочинении писем покойникам, занесении себя в альбом умершему, отправке стихов любимой, погибшей от несчастного случая. И все это сопровождается бережной заботой о формальном совершенстве, ведь те, что находятся уже по ту сторону, познали великие тайны, в том числе и тайну мастерства версификации и сложения строф, и если на надгробии должна быть октава, то это должна быть такая октава, которая все другие за пояс заткнет, потому что на том свете каждый ребенок знает, что такое октава. Умершие не только сохранили умение читать, они также стали обладателями секретов писательского мастерства. Отдел некрологов в местной прессе всегда был чрезвычайно популярной рубрикой, но теперь в нем есть еще и красота, формальное мастерство. Недавно я видел в книжном магазине теоретическое исследование, анализирующее содержание и форму сегодняшних некрологов. А посмертные памфлеты? А посмертное вершение правосудия на бумаге? А безукоризненно сформулированные литании проклятий?
С подобного типа вопросами, касающимися «формы зловещей», время от времени появляются преклонного возраста господа в изношенных, но сшитых из неплохого материала костюмах, черты лиц благородные, взгляды драматичные. Они держат переписанные на вырванных тетрадных листках литании своих несчастий, ксерокопии несправедливых приговоров, многостраничные описания допросов и тюремных отсидок. Они обращаются с любезной просьбой все это упорядочить, придать последовательность и форму, дописать в конце секретную формулу страшного проклятия, и если у фирмы имеется возможность, то еще и заламинировать. Я никогда не спрашиваю, что с этим собираются сделать, не спрашиваю, какова будет судьба этих мрачных пакетов, не спрашиваю, потому что меня обязывает деликатность, не спрашиваю, потому что знаю.
Пани Илона и пани Ивона со своей инфантильной прямотой спросили меня однажды, правда ли, что ночью, темной ночью (понятное дело, что ночью – днем такого быть не может) раздаются осторожные шаги, слышен хруст гравия и оправленная в ламинат запись страданий оказывается закопана в могиле оправителя. Стоит ли говорить, что я проигнорировал их обращение с исключительно надменным холодом. На следующее утро с еще более надменным холодом я попросил пани Илону и пани Ивону, чтобы вместо джинсов и свободных футболок они были любезны надевать на работу белые блузки и черные юбки. Я не предвидел, что, одетые таким образом (в белые блузки и черные юбки), они будут еще больше дестабилизировать мою концентрацию. Это был, увы, неосмотрительный шаг, но теперь отступиться, даже используя ледяную надменность, я не могу.
И все же формы зловещие попадаются редко, преобладают – как бестактно это ни звучит – заказы на формы легкие. Наиболее пригодным вариантом воспевания умерших и обращения к умершим повсеместно считаются рифмованные стихи. (И верно, в рифмованных стихах есть и формальное мастерство, и возвышенность.) А следовательно, и рифмованные некрологи, надписи на лентах, надгробиях, эпитафии, скорбные элегии и даже тексты прощальных песен, которые будут спеты над могилой. Между прочим, с тех пор как в городе открыли кладбище для домашних животных, число поэтических заказов возросло непомерно. Поначалу я отказывался, но тут же мне вспомнился Екклезиаст, который говорит, что «участь сынов человеческих и участь животных – участь одна… и одно дыхание у всех… Кто знает: дух сынов человеческих восходит ли вверх, и дух животных сходит ли вниз, в землю?»[52]52
Екклезиаст, 3.
[Закрыть]
Мне вспомнилась эта цитата, которую я в жизни приводил не единожды, вспомнились слова Екклезиаста, и я перестал отказываться. Рифмованные четверостишия, посвященные сдохшим собакам и кошкам, я стряпаю как на конвейере. Заказов столько, что я волчком верчусь, а в результате, когда случаются по-настоящему интересные и отмеченные метафизической глубиной и человеческим трагизмом заказы, у меня не остается ни сил, ни времени. Ситуация просто вынудила меня установить тайное сотрудничество с одним уже достаточно известным поэтом молодого поколения. Когда попадается особо сложная форма, с которой справиться я не смогу, как бы мне ни хотелось, я поднимаю трубку и звоню пану Мартину.
Не далее как на прошлой неделе в офисе появилась одна возбужденная вдова. Я приглашаю ее к себе, надеваю маску достоинства, краем глаза отмечаю недоброжелательное выражение лиц пани Илоны и пани Ивоны, в душе я рад, но не упускаю благоприятной возможности сделать им замечание. Подставляю возбужденной вдове стул, нажимаю кнопку, звучат «Гольдберг-вариации», сажусь сам. Когда-то, в самом начале, я ставил моим клиентам «Реквием» Моцарта, но со временем заметил, что всепоглощающая музыка Моцарта удручает, угнетает, склоняет к сдержанности, ergo скряжничеству. Напротив, Иоганн Себастьян Бах, особенно Бах в исполнении Глена Гульда, делает людей более смелыми, ergo более щедрыми. Я внимательно рассматриваю сидящую по другую сторону стола вдову. Ее тщательный траур оттеняется смелым декольте, но декольте – это всего лишь один из элементов ее магнетизма. Есть еще запах L’еаи par Kenzo, сдержанность движений и низкий, вибрирующий голос. Я весь обращаюсь в слух.
Нетипичное дело, с которым она пришла, заключается в том, что недавно ей снился покойный муж Сон был красивым и печальным. Она была в этом сне вместе с умершим мужем в большом заде ожидания, возможно, это был большой порт, возможно, вокзал, возможно, аэропорт. Они должны были вместе куда-то ехать, правда, они не несли никакого багажа, но у обоих были билеты. Вокруг толпы людей и необычный, густеющий свет, словно сумерки, запомнившиеся с детства. Все куда-то шли, контролеры в пуленепробиваемых жилетах проверяли билеты, муж перешел на другую сторону и уходил все дальше и дальше, и махал ей, а она в толпе.
В продолжающей сгущаться темноте не могла попасть к нему, хотя старалась поднимать руку с билетом как можно выше. И он полетел, а может, поплыл без нее, и она проснулась в слезах, в отчаянии, но также и с ощущением необыкновенной красоты. «Мой сон был прекрасным, как стихотворение, – сказала она, – и я хочу, чтобы о моем сне было написано стихотворение».
Я поглядывал на нее, вдыхал запах ее духов и скорбел о том, что сам стихотворения о ее сне написать не смогу. Я постоянно удивляюсь, но тут нечему удивляться. Черт возьми, если кто-то пишет некрологи и посмертные воспоминания, как, с позволения сказать, газетные фельетоны, то пусть не удивляется, что не в состоянии оказаться на высоте ожиданий возбужденных вдов. Я поднял трубку и позвонил пану Мартину. «Это уже достаточно известный, – обратился я к вдове, – поэт молодого поколения». Он, как обычно, воротил нос, ворчал, мол, откуда ему взять рифмы к билетам, залу ожидания и контролерам в пуленепробиваемых жилетах. Поворчал, но, понятное дело, согласился. У меня есть граничащее с уверенностью ощущение, что деньги, которые я ему плачу, являются главным источником его доходов. Стихотворение о сне вдовы должно быть готово на следующей неделе. Я жду стихотворение, жду возбужденную вдову, и мне досадно от собственного бессилия.
По причине своих сентиментальных наклонностей я выбрал профессию автора некрологов и посмертных воспоминаний. В сентиментальных наклонностях кроется множество моих духовных недостатков. Например, недостаток некоего фундаментального страха. Я боюсь смерти и боюсь, что когда-нибудь меня закопают. Но никогда, ни в самом глубоком детстве, ни когда-либо позднее я не боялся кладбищ. И никогда бы мне не пришло в голову, что недостаточный страх перед кладбищем – это может быть слишком мало.
Конкордия
Порой воздух бывал плотным, как увеличительное стекло. Я стоял в большой комнате у окна и людей на мосту видел как на ладони. Две фехтовальщицы в красных спортивных костюмах шли в направлении футбольного поля, они были по ту сторону огромных масс знойного воздуха, они касались балюстрады, та, что была с длинными волосами, поднимала вверх руку. За ними виднелась дорога на Партечник, из-за поворота, на расстоянии километра, появлялись две конские головы. «Конкордия уже едет, – говорила бабушка, она стояла у другого окна и говорила: – Ой-ой, Конкордия уже едет». На песчаное перепутье въезжала черная карета, парадно одетый Вымовьян сидел на козлах, вычищенные до блеска кони шли легкой рысью, черная телега небезопасно раскачивалась на ухабах. Фехтовальщицы в красных костюмах свернули к спортивному центру, я решил, что женюсь на коротко стриженной. Бабушка Чижова резко разворачивалась и бежала на кухню, на башне костела звенели колокола.
Смерть всегда, ежедневно, или, скажем, раз в неделю, бродила по горам, но сейчас ее знаки были неумолимы. Сейчас становилось доподлинно известно, что некто, еще лежащий у себя дома в открытом гробу, уже не будет воскрешен по милости Господней. Бабушка возвращалась к своим хозяйственным хлопотам, чтобы слишком долго не смотреть на черную телегу, чтобы не слушать колоколов, чтобы убежать от противопоказанной ей избыточной рефлексии. Лишь ускоренные шага и движения выдавали в ней более сильное, чем обычно, отчаянное согласие на неизбежный конец всего.
Кони шли прямо на меня, пустая Конкордия производила впечатление средства передвижения временного и несерьезного. Вымовьян целиком отдался своей врожденной склонности к быстрой езде и резко погонял; элементарное противоречие между лихим аллюром и самой сутью погребального воза было не от мира сего.
Причины, по которым катафалк был назван в моих краях латинским словом Concordia, я подверг расследованию пытливому, но осторожному. Осторожность происходила оттого, что, когда молодым провинциальным еретиком-варваром я переступил порог Университета в Кракове, один из тамошних ученых, перед которым я готов был снимать шляпу и бить поклоны, провел со мной беседу на тему культурной бездонности тех земель, оттуда я родом. В какой-то момент он как бы невзначай, но со знанием дела обронил, что «есть также в тех краях гора Киркавица, название которой, без сомнения, происходит от имени мифологической Кирки, Цирцеи, что, безусловно, представляет собой чрезвычайно интересную проблему», – поставил он логическую точку, и черты его лица начали отражать процесс интенсивного средиземноморского раздумья.
Мой панический страх перед миром большой науки и вообще перед большим миром усилился. Выходило, что я не знаю ничего, не знаю даже того, что, казалось мне, знаю неопровержимо. Киркавица, которую я почти что вижу из окна, – это гора со взъерошенным хребтом и взлохмаченными склонами, гора, словно бы игриво растрепанная королем ветров Бореем. А слово «киркать» в моем, в тамошнем, наречии означает как раз «взъерошивать, взлохмачивать, растрепывать». А тут вдруг оказывается, что название это вовсе не происходит просто-напросто от формы горы, а название это дано греческими богами. Поэтому, исследуя механизмы ассимиляции слова concordia в сознании местного населения, в выводах я был осторожен. Я просматривал словари, расспрашивал знатоков, зондировал мнение местных историков погребального оснащения, и в результате получилось, что скорее всего термин Конкордия произошел от названия довоенного похоронного предприятия в Чешине. В Висле до той поры услугами этого предприятия пользовались редко, если вообще пользовались, и даже с самых удаленных хуторов гробы носили на плечах. Всегда должно было быть по крайней мере две смены похоронных носильщиков, восемь крепких мужчин. Необходимость эта включала в себя большое эпическое напряжение, рассказы об исполненных тяжкого труда походах, о высокогорных маршрутах последнего пути, снежные склоны, бездорожья, переправы по раскачивающимся мостикам над пенистыми потоками, гробы, скользящие, словно сани, и плывущие, точно ладьи. Значительную часть этих неизбежных перипетий отражает местный эвфемизм: «Они пока тащили, так устали, что надо было им что-то дать».
Старый причетник рассказывал, как формировалась география складчины на Вислинскую Конкордию, когда он стоически обходил с этой целью долины. Яжембяне, например, не торопились выкладывать деньги на похоронный воз, ведь они были всего в двух шагах от кладбища, хотя, понятное дело, речь здесь шла не о лишних расходах, отнюдь, близость кладбища делала их похороны короткими и убогими. Жители этой прикладбищенской горы и без того чувствовали себя аутсайдерами в вопросе похорон, а с возом все должно было стать еще быстрее, еще короче.
Когда во второй половине дня похоронные процессии проходили под нашими окнами, воздух был уже холоднее и терял телескопические свойства, так что не было видно, кто на мосту, но все-таки я видел лица участников процессии: впереди шел нереально серьезный мальчик с крестом, потом ксендз Вантула, или ксендз Фишкал, или ксендз Франк. Пел хор. Вымовьян степенно сжимал вожжи, думая о том, что по дороге с кладбища снова пустит лошадей быстрой рысью, а может, и галопом. Участники процессии пели, но в перерывах между песнопениями разговаривали друг с другом, и их скорбь и степенность, казалось, улетучивались. Приближалось кладбище, наименее страшная часть похорон. Приближалось истинное и предписанное гармонией утешение.
Я никогда не боялся кладбищ. Даже в самом глубоком детстве. Когда я читал десятки разных юношеских романов, в которых ключевые, самые страшные вещи происходили на кладбище, ужас этих сцен не брал мою в общем-то пугливую душу. Из кладбищенского эпизода в «Томе Сойере» я, конечно, что-то запомнил, например, предложение: «И он обобрал мертвеца. Потом вложил злополучный нож в раскрытую правую руку Поттера и уселся на опрокинутый гроб»[53]53
Перевод К. Чуковского.
[Закрыть], но запомнил я это, наверное, скорее по причине некоторой (до сегодняшнего дня, впрочем, актуальной) комичности, нежели из-за страха.
Настоящим страхом был призрак смерти, ходящей по горам, настоящим страхом были старые лютеране в открытых гробах, настоящим страхом была протирка лица покойника спиртом. Бабушка Чижова была сведуща в этих процедурах: одевании, подготовке покойников к последнему пути и я помню ее, по-хозяйски хлопочущую над открытыми гробами. Открытые гробы предков. Открытый гроб Старого Кубицы. Открытый гроб тетки из Малинки. Открытый гроб тетки Ханки. Открытый гроб киномеханика Пильха. Открытый гроб бабушки Чижовой. Открытый гроб Епископа Вантулы. Открытый гроб ксендза Франка. Открытый гроб доктора Гажджицы. Открытый гроб Вымовьяна. Открытый гроб директора Пустувки. Открытый гроб ксендза Фишкала. Открытый гроб дяди Адама. Открытый гроб начальника Чижа. Целое поле открытых гробов. Ксендзы пасторы в черных тогах, произносящие речи над этими гробами. Открытые гробы, которые потом те, кто был для этого назначен, поднимали на плечи и несли из дома в костел и из костела на кладбище, сменяясь «У берега» или «В оазисе». Или если старый причетник уже собрал деньги и все, даже яжембяне, сложились на покупку Конкордии, то близкие умершего, как и везде, брали гроб на плечи и выносили из дома, клали Вымовьяну в Конкордию, потом вытаскивали и клали у алтаря, выносили из костела и снова укладывали в Конкордию, а потом взбирались по крутой кладбищенской тропе.
До сегодняшнего дня, если случается мне быть на похоронах в Висле, когда приходит момент снятия гроба с алтаря, я вижу, как некоторые старые лютеране ерзают на своих местах, вижу, с каким недоверием они наблюдают, как нечто, осуществляемое целыми веками и поколениями, теперь делают специалисты в белых перчатках. Делают элегантно и ловко, но на лицах старых лютеран – выражение, словно говорящее: появление похоронных бюро тоже свидетельствует об упадке наших времен. Простое сравнение автомобиля-катафалка с плесневеющей в сарае старой Конкордией, на древесине которой буквы альфа и омега уже едва читаются, я оставляю в стороне.
Мы стояли у окон в большой комнате и смотрели на проходящие похоронные процессии. На башне причетник дергал за языки колоколов. Вымовьян держал упряжь, и искусственная нога, которую он с трудом помещал на козлах, прибавляла ему величия. Процессия шествовала мимо и исчезала, а когда колокола переставали звонить, это означало, что все уже на кладбище. И уже нечего было бояться.