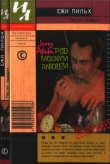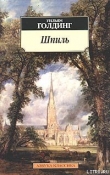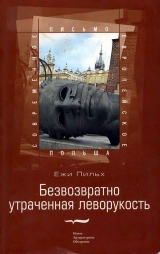
Текст книги "Безвозвратно утраченная леворукость"
Автор книги: Ежи Пильх
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 14 страниц)
Неиссушимая добродетель порядка
Если б я не был уверен, что делаю это последний раз в жизни, то отступился бы и делать ничего не стал, но поскольку я в этом уверен, то предпринял сие богоугодное дело и упорядочил библиотеку.
У меня имелся определенный план нового книжного порядка, но поскольку любая физическая работа ослабляет мой мозг, реализация плана не была четкой. Снятие с полок, предварительное стирание пыли, затем стирание тщательное, затем стирание одержимое и стирание маниакальное при помощи специально для маниакального стирания предназначенного веничка, дальше отбор, упаковка в коробки, после смены концепции распаковка коробок и повторная упаковка, но уже чего-то другого, ликвидация мертвых вторых рядов, перетаскивание громоздящихся на полу стопок, разрушение искусных конструкций, возведенных много лет назад в каждом углу, обнаружение хитрых тайников с нелегальной литературой, письмами, фотографиями забытых возлюбленных, которые давно уже поумирали от старости, раскурочивание стен, сложенных из лютеранских календарей, обнажение фундаментов, сооруженных из произведений Герцена, срывание обшивок из издательских серий и, наконец, размышление, что оставить в Кракове, что вывезти в Вислу, а что отдать на съедение вечно алчущим чтива коллегам из «Тыгодника Повшехного». Все это было свыше моих сил – свыше сил, понятное дело, душевных, потому что, благодаря унаследованной от Старого Кубицы бычьей силе, физически я был в состоянии свою скромную книжную коллекцию одолеть. И тем не менее заключительные, послеобеденные и вечерние этапы работы я выполнял в полном бреду, темное марево пыли окутывало мое стокилограммовое тело, квазибытовой прах въедался в мозг. Но что уж содеял, то, очумелая голова, содеял, и теперь после короткого, но интенсивного реабилитационного периода пытливо анализирую результаты.
Самая разительная перемена в моей библиотеке – это, скажем так, возрастание роли поэзии. Томики стихов, которые раньше, как сельди в бочке, были плотно упиханы на недосягаемых досках под потолком, сейчас представительно занимают пять центральных полок, теперь они находятся на уровне глаз и на расстоянии вытянутой руки. Негативная селекция не затронула поэзию совершенно, только три сборника ныне здравствующих польских авторов были из книжного собрания изъяты; сказать по правде, изъяты они были не только из книжного собрания, они были изъяты в принципе. В остальном же, напротив, всякое поэтическое творчество, обретавшееся на недоступных перифериях и невидимых задних рядах, оказалось благородно выставлено.
В свою очередь сомневаюсь, что значило все это нечто большее, нежели значит продиктованное аккуратностью наведение порядка среди вещей. То, что поэзия оказалась в моей библиотеке демонстративно выставлена вперед, не означает, что теперь я буду прилежно читать поэзию, потому что поэзию я прилежно читал всегда, скажу больше, поэзию я знаю достаточно хорошо, недавно даже самого Мариана Сталю поймал на поверхностном знакомстве с деталями одного стихотворения Милоша. Само стихотворение Сталя, разумеется, что уж там говорить, знал, но не знал деталей. Уличенный мной в небрежности, он испытывал досаду, и с целью успокоить его досаду я обнародую это происшествие в печати. Ибо печатное слово облагораживает, благородство же успокаивает.
Но о поэзии я хочу еще кое-что сказать. Так вот, лично для меня поэзия всегда была важнее прозы, тем более что традиция польской поэзии основательнее, чем прозаическая традиция, каковой, впрочем, скорее вообще нет, а если и есть, то невразумительная. Наверняка вследствие широко известной исключительности нашей нации у нас все было наоборот, не так, как принято; поэты выражались ясно, а прозаики туманно, поэты овладели искусством построения фразы, а прозаики отнюдь. Ведь до сих пор даже самые сильные в прозе Старые Поляки, Пасек или Скарга, требуют серьезной читательской концентрации, нужно по меньшей мере внимательно следить, где начало, а где конец фразы. Чеслав Милош – нет, все-таки удивительно, что Сталя не знал деталей одного из ключевых его стихотворений, – так вот, Чеслав Милош многократно и в разных местах писал об отсутствии постановки голоса у старопольских писателей.
Тем не менее, когда смотрю я на полку с польской прозой, то вижу, что не только все Старые Поляки, с Марией Виртемберской включительно, стоят на ней как стояли, но что ксендз Скарга чуть ли не первым здесь писателем – по рангу занимаемого места – оказывается. Принимая во внимание своеобразные взгляды ксендза на протестантизм, это может производить впечатление несколько парадоксальное, но что поделаешь, люблю, люблю я время от времени почитать себе вслух какой-нибудь фрагмент из «Житий» или «Сеймовых проповедей», а проповедь четвертую, «О третьей болезни Речи Посполитой, которая есть нанесение ущерба католической религии через еретическую заразу», люблю я особенно. Никакой инфантильной извращенности в этом предпочтении вовсе нет, только лишь неопровержимая вера, что с точки зрения литературного потенциала мученичество выразительнее веротерпимости, памфлет интереснее панегирика. Большое эстетическое счастье, что Скарга вовсе не был предвестником экуменизма, ведь тогда читать его было бы совершенно невозможно. А так натыкается человек на строчку о «еретической науке, добродетель иссушающей и корень ей подрезающей», натыкается человек на такой пассаж и волнующе задетым в самой чувствительной точке себя ощущает.
Старые Поляки стоят на полках нетронутыми как стояли, ведь даже на больную голову не придет мысль, чтобы их трогать, – как не тронул я Гомбровича, Шульца или Виткация. Чем увереннее, однако, не трогал я классиков, тем более основательному перемещению подвергся литературный молодняк. Что касается молодежи не живущей, то действовал я – как сейчас вижу – примерно следующим образом: всю молодежь не живущую, например, Хласко, Бурсу, Иредынского, Стахуру, Брыхта, я отправил в Вислу, из живущей молодежи оставил только Хюлле, остатки же живой молодежи, например, Андермана, Стасюка, Комольку, Юревича, Мусяла, Токарчук, Битнера, Филипяк, Гретковского, Слыка, Кирша, Тулли, Солтысика, поделил на две группы, а именно на группу пишущих юношей и группу пишущих девушек; молодежь поделил, первую группу отправил в Вислу, а вторую отнес в «Тыгодник Повшехны».
Что касается взрослых, с ними было так: Ивашкевич остается на полке, Кусневич едет в Вислу, Терлецкий идет в «Тыгодник Повшехны». Неверли (поздний) остается, Конвицкий в Вислу, Войчеховский в «Тыгодник Повшехны». Гловацкий остается, Новаковский в Вислу, Бохенасий в «Тыгодник Повшехны». Хаупт остается, Бобковский в Вислу, Орлось в «Тыгодник Повшехны». Бялошевский остается, Бучковский в Вислу, Завейский в «Тыгодник Повшехны». Мрожек остается. Голубев в Вислу, Жилинская в «Тыгодник Повшехны». Херлинг остается, Стрыйковский в Вислу, Киселевский в «Тыгодник Повшехны». Филипович остается, Хен в Вислу, Бреза в «Тыгодник Повшехны»… И так далее. And so on. Und so weiter. Сейчас все это пересказывается спокойно, сейчас вся операция выглядит как последовательность симметричных движений, а ведь какое это было кровавое побоище, какие адские метания, сколько сомнений, сколько колебаний, сколько неуверенности! Заглядывание внутрь, чтение случайных фрагментов, проверка качества первых предложений. Невротическое застывание на целые часы с какой-нибудь книгой в руке, потому что непонятно, как поступить.
Вот Анджеевский, например. Над творческим наследием Ежи Анджеевского с полдня пребывал я в неподвижной задумчивости, Анджеевского – думал я – в жизни уже никогда читать не буду, не буду читать ни «Врата рая», ни «Мезгу», ни тем более «Пепел и алмаз». Для чтения мне Анджеевский уже не нужен, но кто знает, может, для писания какого пригодится, может, буду я писать что-нибудь о прежней Польше, или о школьной программе по литературе времен ПНР, или о костюмах послевоенных партийных работников, кто знает, в конце концов, когда-то это был важный для меня писатель, так что если я буду что-нибудь о самом себе писать, то, может, совсем неплохо было бы даже и этот несчастный «Пепел и алмаз» иметь под рукой, кто знает, думал я, просчитывая возможные комбинации и чувствуя, что в головокружительности этих комбинаций утопаю, и ясно вдруг осознал, что для писания не только Анджеевский, для писания вообще все может пригодиться, и если бы хотелось мне придерживаться критерия пригодности для писательского труда, тогда ничего из этой не библиотеки даже, а заброшенной свалки макулатуры не должен бы я трогать, ни одного клочка бумаги, ничего. Для писания самые никчемные вещи могут пригодится: и старые телефонные счета, и «Пепел и алмаз», и вырезанная из газеты фотография Изольды Извицкой – советской Мерилин Монро.
У меня были целые тонны никчемной литературы, и ни в Вислу я этого не отправил, ни в «Тыгодник Повшехны» не отнес, а прямиком на помойку, именно так, на помойку все в исступлении вывалил, а ведь были там писательски пригодные годовые подшивки «Новых Дорог», стилистически привлекательные сочинения Иосифа Сталина и редакторски соблазнительные «Идеологические основы ПОРП» пера Б. Берута и Ю. Циранкевича. Поскольку критерий пригодности, как я уже говорил, делает бессмысленным любой отбор, этот критерий я отбрасывал, оставаясь с критерием читательским, ergo поскольку знал, что Анджеевского, может быть, уже никогда в жизни и уж во всяком случае в ближайшее время читать не буду, то стоял молча над грудой сочинений этого писателя и мысленно спорил сам с собой, выслать ли его в Вислу или, может, отнести в «Тыгодник Повшехны». И так долго колебался, так долго размышлял, так долго взвешивал все за и против, что в конце концов все книги Ежи Анджеевского, вместе с «Пеплом и алмазом», оставил на полке. Анджеевский остается. А ведь это лишь один пример, один рассказанный по ходу эпизод, одно из сотен парадоксальных приключений, какие пережил я в те дни при раскладывании книг.
А что сказать о мировой литературе? О классиках философии? (Шопенгауэр остается? Аристотель в Вислу? Кант в «Тыгодник Повшехны»? А может, все наоборот?) Об эссеистике? О литературной критике? А что с книгами о шахматах? Что с томами русских классиков в оригинале? (Чехов остается? Гоголь в Вислу? Гончаров в «Тыгодник Повшехны»? А может, все наоборот?) Что касается мировой литературы, то, разъяренный до предела, я нажал педаль сортировки до упора, и, скажу откровенно, мало что после этого у меня осталось. Пожалуй, я слегка перестарался, потому что полка с иностранной литературой выглядит теперь, словно библиотечка честолюбивого абитуриента, интересующегося литературой. Есть Достоевский, Фолкнер, Кафка, Набоков, Манн, Маркес, и это почти все (Кафка остается. Рот в Вислу, Хеллер в «Тыгодник Повшехны», Флобер остается, Стендаль в Вислу, Бернанос в «Тыгодник Повшехны»). Именно так все и происходило, даже более радикально, и думаю, что, пожалуй, с одной стороны, я определенно при отбраковке переборщил, с другой же стороны, был чрезмерно при отбраковке сдержан, потому что и тут и там можно было бы еще кое-что подчистить.
Взять хоть бы всего этого Кафку. Кафка остается, и очень хорошо, правда, сейчас, когда взглядом, распаленным сортировкой, я по Кафке блуждаю, то вижу, что Кафки, пожалуй, осталось слишком много, что я мог бы оставить только «Превращение» и «Письма к Фелиции», «Процесс» и «Замок» отправить в Вислу, миниатюры же, и в особенности беседы с Яноухом, – в «Тыгодник Повшехны». С Маркесом то же самое: «Любовь во время чумы» остается, «Сто лет одиночества» – в Вислу, «Генерал в своем лабиринте» – в «Тыгодник Повшехны». И Манна, и Толстого, и Достоевского («Идиот» остается, «Преступление и наказание» в Вислу, «Дневник писателя» в «Тыгодник Повшехны»), и Кундеру, и Грабала, и Шкворецкого, и Бальзака, и Джойса можно еще раз тщательно перебрать, вижу, ждет меня еще порядочно работы, тем более что новые книги уже начинают прибывать и занимать место. Не далее как вчера купил я «Справочник бармена», «Долину страха» Артура Конан Дойла, а также том бесед Барбары Лопенской[62]62
Барбара Лопеньская (1949–2004) – журналистка, автор репортажей и интервью. В Польше учреждена премия ее имени за лучшее интервью в прессе.
[Закрыть] с разными интересными людьми об их библиотеках, и пока что все это стоит у моего изголовья, но со временем нужно будет разместить книги на полках. А на полках книги должны быть поставлены «ровно, ровнехонько», – говорит Лопенской профессор Януш Тазбир[63]63
Януш Тазбир (р. 1927) – известный историк, почетный доктор Польской Академии наук, в течение нескольких лет был вице-президентом ПАН.
[Закрыть], и на нынешнем этапе моей противоречащей природе библиотечной аккуратности мне этот принцип вполне подходит. В универсальном смысле, впрочем, мне этот принцип тоже подходит, потому что если даже ксендз Скарга прав и «еретичество иссушает добродетель», то добродетель порядка иссушает оно в самую последнюю очередь.
Желторотое сердце
Мы стояли над открытым гробом Епископа и пели самые красивые погребальные песни. Сначала пели мы «и своего Господь призвал слугу» из сборника религиозных песней Хечки, номер 747, потом пели номер 777 «Днесь еще жив я, но заутра, может, / иль в предвечерии смерть встречу. Боже», потом номер 789 «Благочестивых души живы, у Бога вечный день, / надгробия лишь прикрывают земную жизни тень», потом номер 783 «И вот свершилось, сердце отстрадало», потом еще номер 770 «Я ведаю, что в небесах есть место красное», а в самом конце, перед молитвой и перед закрытием крышки гроба, мы запели вдохновенную и душещипательную, точно украинская думка, песнь номер 825 «Я есмь в тоске, я есмь в тоске».
Я обожал этот погребальный шлягер, пел от всей души, и, когда подходила четвертая, исполненная герметичной поэтики строфа, дрожь пробирала мое желторотое сердце. Мне было двадцать четыре года, я заканчивал учебу, писал магистерскую работу об эстетических концепциях «Искусства и Народа»[64]64
«Искусство и Народ» – конспирационный журнал, издававшийся в 1942–1944 гг. в Варшаве. Дал название литературной группе, поддерживающей правонационалистическое движение в условиях гитлеровской оккупации.
[Закрыть], у меня все было впереди, и я все знал. Я смотрел на мир с исполненным жалости чувством превосходства, а мозг мой окутывала абсолютная тьма. По-человечески говоря, я был тогда полным дебилом, и, пожалуй, только благодаря неумолимым биологическим процессам, которые во мне, как и во всех, происходили, я помню слова и образы. Мои чувства, мое нутро, моя вечно алчущая целого мира кожа, мои беспокойные нервы были у алтаря, у пылающих восковых свеч, у открытого гроба Епископа Вантулы.
Голова моя была тогда где-то в иных краях, потому что в юношеской гордыне я полагал, что где-то в иных краях – суть вещей, где-то в иных краях настоящая жизнь, где-то в иных краях настоящее искусство. Где именно, этого я еще точно не знал, где-то на очень высоких парцеллах, на облагороженных территориях, и уж точно не здесь, между храмом, домом и трактиром, не в старом сборнике религиозных песней Хечки, не в беззастенчивых взглядах преждевременно пробудившихся конфирманток. А ведь машинально вызубренные в воскресной школе слова старых евангелических песней должны были спасти меня, а ведь между храмом, домом и трактиром «Пяст» (впоследствии «Огродова») должны были свершиться судьбы, разыграться драмы, а ведь неисполнимое желание скромных сестер по вере прикоснуться к лютеранской коже должно было меня возвысить, а ведь домашний культ Епископа Анджея Вантулы должен был дать мне крепкую опору.
Даже если бы я захотел в этом месте сдержать неукротимую склонность к пафосу, мне это не слишком удастся, нет у меня такой возможности. Быть может, я и вправду слегка перегибаю пашу, например, со спасительной силой евангелических песней – «песничек», как говорится в моих краях, – но воистину говорю вам, не такой уж плохой штукой является знание на память евангелических песничек, а тем более если кому-то особым предначертанием судьбы выпадает на долю второстепенная роль летописца хаоса, то беглая ориентация в области протестантского песенного искусства расширяет в этом случае документальную перспективу. Или если ты призван – еще более особым предначертанием судьбы – быть певцом души похмельной, в этом случае основательное знание, к примеру, сборника песней ксендза Хечки становится не самым бедным интеллектуальным подспорьем. Для какого-либо снижения пафоса в рассказе об Анджее Вантуле нет основательных причин, здесь интересен как раз полнейший разгул пафоса.
Культ Вантулы был в нашем доме абсолютным, безграничным, и ему послушно подчинялись все. Мои родные и мои пред ки были непогрешимы, жили в совершенстве и осуществляли абсолютную власть над миром, и сам факт существования кого-то, кого эта шайка гордецов была готова покорно слушать, кого хотела постоянно видеть у себя и с чьим мнением смиренно считалась, был потрясающим до неправдоподобия. Сколь же невероятному перевоплощению подвергался в присутствии Епископа мой патриархальный отец, как менялась моя всемогущая бабка, а уж о моей вредной матери даже говорить неловко, мать была влюблена в Епископа бесстыдной любовью девочки-подростка. Впрочем, ему, кажется, это обожание не шло во вред, к счастью, у него была одна черта, которая у ксендзов выдающихся и нестандартных не всегда заметна, а именно, Вантула верил в Бога и, как следствие, прилежно соблюдал все десять заповедей. На религиозности Епископа базируется моя уверенность, что ни до чего у них не дошло, хотя матери в этом отношении, увы, доверять итак нельзя. Культ исключает всякую фамильярность (кроме фамильярности любовной), так что, когда ксендз Вантула стал епископом, мы все даже в мыслях своих приняли это его новое имя. Один только дедушка Чиж не изменил форме и упорно говорил Епископу «Анджей», но это было, скажем так, исключением, подтверждающим правило. Само слово «епископ» в домашнем обиходе так абсолютизировалось, так срослось с Вантулой и стало не столько синонимом его личности, сколько стало просто его личностью, что и по сей день другие варианты использования слова «епископ» в первое мгновение кажутся мне языковой ошибкой. Какой Епископ? Епископ – это был Вантула. Епископ летел в Женеву. Епископ был на Конгрессе Всемирной лютеранской федерации. Епископ прислал открытку из Найроби. Епископ с супругой проводил праздники в Гое. У Епископа была огромная библиотека. Епископ рассказывал о писателях, с которыми дружил старый Вантула. Епископ приводил молоденьких пасторских жен в дикий экстаз (вера победила). Епископ толковал Библию. Епископ курил «Силезию». Епископ разбирался в литературе.
Отец покупал книги, покупал Фолкнера, Кафку, Броха, по поводу Томаса Манна у него был полный бзик, он раз за разом перечитывал «Доктора Фаустуса», до оскомины цитировал драгоценные премудрости Серенуса Цейтблома и под конец жизни абсолютно потерял по отношению к этому тексту дистанцию. Своеобразную, однако же, историю читательских пристрастий моего отца следовало бы начать с одного июньского дня 1959 года, когда Епископ Вантула вручил ему в подарок «Волшебную гору». У меня и сейчас хранится этот экземпляр, я неизменно его перечитываю примерно каждые два года, он неизменно стоит в моей недавно лихорадочно упорядоченной библиотеке. Первый том слегка поврежден, первый том слегка попорчен, поскольку в свое время старик мой, узнав, что я собираюсь пойти на полонистику, швырнул его в стену. Я вошел в комнату и сказал, что, пожалуй, выбрал бы польскую филологию, поскольку мечтаю в будущем заниматься литературой, и отец, услышав новость, схватил как раз лежащую под рукой «Волшебную гору» и швырнул в стену. Потом он схватил стоящий на столе советский будильник и тоже швырнул в стену. Будильник разбился вдребезги, а «Волшебной горе» почти ничего не сделалось. Время перестало существовать, литература спаслась.
Вантула на мои литературные планы смотрел с пониманием, масштаб которого, собственно, только теперь я в состоянии оценить, так же, впрочем, как только теперь я в состоянии оценить значимость подаренных им книг. Четверть с лишним века назад мне казалось, что, например, «Об искусстве и существе лирической поэзии» Шумана, «Комизм» Быстроня или даже «Сочинения» Конинского – старье, я принимал эти книги из учтивости сердца, сегодня же, скажем так, моя склонность к старью возросла настолько, что я ценю уже и сердце не столь учтивое, сколь все еще желторотое.
Я писал свою несчастную магистерскую работу (сочинение с сегодняшней перспективы совершенно невразумительное); в Кракове не было подшивок «Искусства и Народа», я ездил в Варшаву, штудировал в Национальной Библиотеке подпольные журналы, ночевал в гостевых комнатах странноприимного дома на Медовой. Стояла холодная весна 1976 года. Епископ умирал. Жена Епископа с полной смущения улыбкой объясняла, что, к сожалению, теперь они по утрам спят чуть дольше и с завтраками я должен сам что-то придумать, зато каждый вечер они сердечно приглашают на ужин. И действительно, когда утром я выходил из гостевых комнат, этажом ниже под дверью Вантулов все еще стояло молоко, лежала газета «Жиче Варшавы», и я беззвучно, оберегая сон домочадцев, сбегал по лестнице, беззвучно обходил эту странную тишину, на троллейбусе доезжал по Краковскому Предместью и Новому Свету до большого перекрестка, в молочном баре[65]65
Молочный бар – разновидность дешевых столовых общественного питания, популярных в Польше и по сей день.
[Закрыть] напротив Дома партии ел булку с сыром, потом в неприглядном, битком набитом трамвае добирался до архивов Национальной Библиотеки и – за работу, за работу. Сколь же силен был мой исследовательский пыл и сколь внушителен творческий порыв, если в течение одного дня я был в состоянии своими незрелыми мыслительными комбинациями заполнить более десятка страниц формата А4.
Вечером Вантула спрашивал, как прошел день, и когда я говорил, что исписал десять страниц, в нем видна была тоска уже по самой механике интеллектуальной работы. Он тосковал по исписанным страницам и, кажется, собирался, как только прибавится сил, как только потеплеет, начать писать воспоминания. А сил было мало, по утрам по-прежнему стояли заморозки, он похудел до неузнаваемости и сидел, одетый в халат, в большом, еще с Гой, кресле или полеживал у себя в кабинете. Я ужинал, мы смотрели «Новости», и Епископ Анджей Вантула в меру своих сил множество очень разных вещей в эти вечера рассказывал. Партнером для бесед я был, понятное дело, никудышным, но, видимо, само мое присутствие пробуждало в нем охоту говорить. Порой мне кажется, что я помню каждое слово, каждый жест, каждую историю, а порой наступает абсолютная тьма.
В интересе к смерти есть определенная доля порнографичности, заставляющая тех, кто еще не умер, выяснять, насколько те, кто умер, понимали, что умирают. И в преддверии скорого путешествия на тот свет насколько хорошо ориентировались они в теме того света? Какие видели знаки и как их понимали? Сколько в них было отречения, бунта, сколько отчаяния, несогласия, сколько знания, сколько неведения? Что на самом деле думал и как далеко за границы земного бытия выглядывал Анджей Вантула, когда, например, рассказывал о похоронах своего отца, о том, что тогда как раз установилась хорошая погода, ведь Старый Вантула очень хотел перед смертью, чтобы на его похоронах была хорошая погода, и казалось, это не сбудется, потому что все время страшно лило, но однако же, однако же в день похорон замечательно распогодилось, и никаких тут чудес – Епископ едва ли не презрительно взмахивал рукой, – просто исполнилось желание старого Вантулы.
Помню я или не помню предсмертные монологи ксендза Епископа, а если помню, то можно ли мне и хочется ли мне их записать? Он возвращался к своим проповедям, именно тогда вышли «Крохи со стола Господня» – толкование Евангелия его авторства, он очень радовался этой книге и в один из вечеров задал мне прочитать проповедь, написанную на воскресение Святой Троицы, я прочитал не вдумываясь, простая мысль, что проповедь может быть полноценным литературным жанром, в те времена была для меня – высокообразованного эксперта – все-таки слишком сложной, на следующий день я что-то говорил, к счастью, не помню что. Поскольку Вантула произносил эту проповедь в 1954 году в Висле и я грудным ребенком мог быть тогда в костеле, разговор, кажется, зашел на тему сомнительности присутствия малых деток на богослужении. Вантула говорил, что, кто знает, может, есть в этом все же какой-то смысл, ведь это преимущественно маленькие лютеране так дерут горло в храме, словно бы и вправду бессознательно внимаемое Слою Божье изгоняло из них дьявола.
Через неделю я перечел все номера «Искусства и Народа», заполнил сотни карточек и уехал домой. Через три месяца рак полностью уничтожил легкие Вантулы, и он умер. Он хотел быть похороненным в Висле, и накануне похорон мы ждали, когда его привезут из Варшавы. Было уже очень тепло, последнее путешествие в Силезию затягивалось, и когда его наконец привезли, когда мы вносили гроб в костел, была уже жаркая июньская ночь. Жена Епископа и гояне, которые ехали с ним, немного боялись, как бы по дороге не случилось чего-нибудь плохого, но Епископ в открытом гробу выглядел словно спящий. Бабушка, Дедушка, Дядя Адам, Отец, мы все еще были живы, мы стояли над ним и пели ему самые красивые песни.
Я пишу о нем, потому что всегда, даже в свои бессознательные периоды, знал, что буду о нем писать, и еще я знаю, что пока сказал мало. Я решил включить сюда эти несколько страниц, потому что, приводя в порядок свои книги, наткнулся сейчас (в сентябре года 1998 от Рождества Христова) на «Крохи со стола Господня». Я открыл книгу, отыскал проповедь, написанную на воскресенье Святой Троицы, и, понятное дело, увидел приведенную в тексте четвертую строфу душещипательной и вдохновенной, точно украинская думка, траурной песни «Я есмь в тоске, я есмь в тоске» из сборника религиозных песней Хечки, номер 825. «О, ликуйте, о, ликуйте, в Салем пилигрим прибудет, В град златой прийдет. Боже, Разум то постичь не может».
Цитирование песни было вполне оправданным, ибо проповедь говорила о невозможности абсолютного познания Бога.