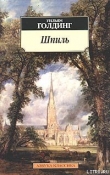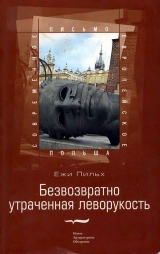
Текст книги "Безвозвратно утраченная леворукость"
Автор книги: Ежи Пильх
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 14 страниц)
Кот, который удерживает меня в этой жизни
Я просыпаюсь в черную минуту, и черные мысли бродят у меня в голове. Я слышу звон колоколов на башне костела, слышу доносящиеся сверху восклицания матери, здоровающейся с собаками, – а потом сквозь глухую степную тишину возникает далекий стук колес поезда, идущего из Глембец. Пять утра, потом шесть, потом семь. В редеющем полумраке проступает моя насквозь случайная библиотека, виц которой повергает меня в депрессию.
Время от времени я привожу из Кракова в Вислу какие-то квазиненужные книги, которые в ближайшем будущем определенно читать не буду, но когда-нибудь, возможно, прочту, хотя скорее всего нет. Именно таким образом возникает абсолютно невразумительное, безумное и криминогенное книжное собрание. Юрген Торвальд «Век криминалистики», Тильман Шпенглер «Мозг Ленина», Иммануил Кант «Религия в пределах только разума», Сергей Довлатов «Свобода – мой кумир», ксендз Томаш Венцлавский «Где есть Бог?», Йозеф Шкворецкий «Львенок», Макс Хайндель «Мировоззрение розенкрейцеров», Хаймито фон Додерер «Убийство, которое совершает каждый» (разумеется, первое издание 1963 года), Сюзан Форвард «Вредные родители», Вольфрам Эберхардт «Китайские символы», Эрнст Геллнер «Постмодернизм, разум и религия» (а это еще откуда взялось?), Рене Ровен «Словарь убийц», Андрей Тарковский «Запечатленное время»… Уже достаточно, хотя это всего лишь начало первой полки. Дальше – хуже. Дальше идет запрещенная эротическая литература, перемешанная со старыми евангелическими календарями. Здесь холодно, здесь чертовски холодно, настолько холодно, что книжные корешки кажутся мне покрытыми инеем. Случайный набор книг имеет ту положительную сторону, что его можно и даже нужно избегать. Если человек обречен на книги, из которых каждая в принципе прекрасно годится для чтения и в то же время ни одну в принципе читать невозможно, – тогда он принимается за классику. Именно так перечитал я где-то тридцать лет спустя, впервые худо-бедно понимая смысл, «Мертвые души» Гоголя. А сейчас я читаю – и тоже, сдается мне, с большим, чем когда-то, пониманием – «Пана Тадеуша».
Инеем покрыта и груда тетрадок в линеечку в элегантных обложках. Ничего не могу поделать – у меня большая слабость к тетрадкам в линеечку в элегантных обложках. У меня вообще слабость к писчебумажным товарам, к канцелярским отделам в магазинах и к бумажным складам. Тетрадки в линеечку (без полей) и в элегантных обложках я покупаю в иллюзорной надежде их исписать. Однако еще никогда, ни разу не удалось мне исписать тетрадь, как Господь велел, от корки до корки, хотя некоторые из этих промерзших до основания блокнотов все же частично заполнены. Несколько строчек или страниц беспорядочных заметок и шелест линованных листов, напрасно ждущих продолжения. Когда черные мысли начинают бродить в голове, когда бледные когти Мировой Пустоты впиваются в меня, я тянусь за новой тетрадкой и начинаю писать, не важно о чем, просто терапевтически высвобождая психофизический навык письма. Как сказал Гроховяк, со стихов которого все и началось: «Перо в руках – оно излечит раны. / Смерть станет далека, как было в детстве».[15]15
Перевод Н. Астафьевой.
[Закрыть]
Я иду наверх по деревянной лестнице (с трудом отрывая примерзающие подошвы), иду наверх завтракать, слышу хрип и ворчание собачьих глоток, сажусь за стол, беру хлеб, сыр и мед. Собаки, две живущие в вечной ненависти суки, успокаиваются и с достоинством усаживаются: одна по левую руку от матери, другая по правую. Я смотрю на них тяжелым взглядом, в котором мать ошибочно усматривает восхищение.
– Вот-вот, – говорит она, – бери пример с собак. Ты с собаки пример бери, – мать слегка повышает голос, – с собаки пример бери. Собака не пьет!
Я весь съеживаюсь, я чувствую, как обида закипает в моем сердце, в конце концов родная мать должна бы знать, что я глубоко убежден в превосходстве кошек. Единственное животное, к которому я испытывал привязанность, – кот по имени Глупелёк. В те времена, когда все были еще живы, а «смерть далека», кот Глупелёк катался под потолком по сконструированной мной канатной дороге, млея от разнузданной лени. Кот Глупелёк был настолько ленив, что ему даже не хотелось падать на четыре лапы. Когда в очередной раз конструкция рассыпалась и сооруженный из обувной коробки вагончик канатной дороги летел в пропасть, кот Глупелёк вместо того чтобы приземляться, как ему пристало, с кошачьей ловкостью, со всего маху шлепался пузом на покрытый линолеумом пол нашей огромной, словно фабричный цех, кухни. А потом лежал полумертвый и ждал, когда ему окажут первую помощь. Этот кот вообще постоянно лежал, возможно, с ходьбой у него был связан какой-то кошачий комплекс, потому что, когда он ходил, то по кошачьим меркам безобразно топал. Время от времени, как-то спорадически, в нем пробуждались некие зачатки амбиций, и он отправлялся на крышу якобы охотиться. Во всяком случае, он на это намекал. Но кутерьма, которую он там устраивал, его позорные промахи, плохо рассчитанные прыжки, бесполезные засады не там где надо, увы, обрекали его на постоянные провалы и унижения. Возвращался он сконфуженный и с явным облегчением укладывался на печи. Давно все это было, может, тогда, когда я впервые читал «Мертвые души», кстати, то же издание, что и теперь (изд-во «Ксенжка и Ведза», 1949, перевод Владислава Броневского, оформление обложки Леопольда Бучковского).
Время явно – как сказал бы какой-нибудь классический рассказчик – завершило круг. И дело не только в том, что хрупкий скелет кота Глупелька давно упокоился, глубоко закопанный под жасмином (где его душа – я не знаю и даже не спекулирую на этот счет; Екклезиаст, правда, не исключает существования души у животных, но я не пускаюсь в подобного рода рассуждения, потому что хочу оказать почтение памяти Глупелька, который был интеллектуально ленив и, не слишком любил метафизических изысканий), и не только в том, что я спустя годы снова читаю «Похождения Чичикова, или Мертвые души», дело прежде всего в том, что, как показывают все знаки на небесах и на земле, спустя годы у меня снова будет кот. Хануля должна в июне привезти его из Франции.
Когда Янек Новицкий[16]16
Ян Новицкий (р. 1939) – один из самых ярких современных польских актеров, снявшийся в более чем ста польских и заграничных фильмов, в т. ч. у А. Вайды и К. Занусси.
[Закрыть] привозил себе собаку из Рима (а в Рим собаку Новицкого привезли из Лондона, потому что это очень редкая собака), я втайне подсмеивался над ним, мол, что это за каприз такой, где это видано – собака с собственным билетом летает на самолете, будто мало туг у нас своих собак… Я подсмеивался над Янеком Новицким, что он себе собаку из Италии привозит, а тут на тебе, вроде так получается, что я сам себе кота привожу из Франции. А посему объясняю разницу. (Я все еще сижу с матерью и ее двумя живущими в вечной ненависти суками за завтраком и объясняю разницу.) Так вот, никакого я себе кота из Франции не везу, это Хануля получит кота – так было решено – в подарок от своей подружки Малгоси. Подарок, понятное дело, – это святое. Не какой-то там эксцентричный каприз, не блажь и не фанаберия, а исключительно высшая необходимость.
А весьма редкая привезенная из Рима собака Новицкого это все же был каприз, правда, объяснимый – по крайней мере, для меня. Ну что еще остается делать актеру, который уже все сыграл и который вдобавок знает, что может еще все сыграть? Ведь может! Захотите, чтобы Янек сыграл вам военного преступника, – сыграет военного преступника, захотите японскую принцессу – сыграет японскую принцессу, захотите, чтобы сыграл плитку ПВХ, – сыграет плитку ПВХ (хотя плитку ПВХ сыграет он, скорее, неохотно, потому что эта роль для него, скажем так, недостаточно демоническая). Что должен делать такой глубоко несчастный человек? Ничего. Вот он ничего и не делает. Ходит по Рыночной площади и дает волю безумствам. То собаку из Рима привезет, то какой-нибудь редкий велосипед себе купит, то раз в год страничку энигматической прозы выдаст. Или – что уж совершенно не дай Бог – какой-нибудь монолог, полный пафосных житейских мудростей, произнесет. И все. Нет, ну конечно, он работает, играет, очень много играет в кино, в театре, на телевидении. Он постоянно занят. Однако, испорченный собственным всемогуществом, к актерству он проникся глубоким отвращением. Актерского запала в нем уже практически не осталось. Какой-никакой запал еще появляется, когда он должен сыграть (лучше всего, если на главной Рыночной площади) сцену приветствия. Если случится вам с ним встретиться, он неизбежно преподаст бесплатный мастер-класс приветственного этюда.
Поднимается занавес. На Рыночной площади зажигаются огни. Входит Ян Новицкий. «Ежи!!??» (улыбка, полная радостного изумления, тело окаменевшее и неподвижное: Янек играет человека, который застыл как вкопанный). «Ежи!!!» (интонация радостного удивления мастерски преображается в интонацию полного ликования, тело расслабленное, медленный полушаг вперед: теперь Новицкий готов ринуться к вам с приветствиями, как боксер в атаку). «Ежи, это, правда, ты?!!» (неожиданное обманное движение: два больших, почти танцевальных шага назад – я должен тебя лучше разглядеть, словно говорят эти шаги). «Ну-у-у!!!» (руки широко и сердечно в стороны). «Ну-у-у!!! Ежи!!!» (руки в стороны еще сердечнее и шире, радостное движение вперед пружинистым шагом). «Ежи!!! Отлично выглядишь» (первые объятия, первые поцелуи). «Ежи!!! Я страшно давно тебя не видел!!!» (теперь Янек максимально просветляет взгляд и слегка гасит улыбку). «Я думал о тебе. Ежи. Что у тебя? Как здоровье?» (черты Янека обретают серьезность, может даже показаться, что настоящая черная туча озабоченности надвигается на его чело). «Ну я ведь вижу, что лучше!» (возвращение триумфальной интонации). «Ежи, зайдем посидим куда-нибудь на секунду» (интонация деловитая, Новицкий оглядывается вокруг, имитируя размышление над выбором места, хотя выбор давно уже сделан). «Я тороплюсь – сел наконец писать – но хоть минутку поговорим… Может, в «Звисе»?»[17]17
«Звис» – имеется в виду культовый краковский бар «Vis-a-vis», более известный под своим редуцированным названием, излюбленное место встречи актеров, литераторов, музыкантов и художников.
[Закрыть] (Янек виртуозно играет человека, внезапно озаренного совершенно неожиданной мыслью). «Идем, посидим немного, надо столько всего обговорить» (интонация по-прежнему деловитая; сцена приветствия в общем-то завершена. Свет гаснет. Занавес).
После завтрака нужно пойти в город за газетами, заглянуть на почту и в книжный. На улице минус десять. Полный самых черных мыслей, я выхожу из промерзшего дома в мир – еще более промерзший. Дурные предчувствия меня не обманывают: везде полно лыжников в разноцветных комбинезонах. Вид лыжников в разноцветных комбинезонах повергает меня в крайнюю депрессию. Вид лыжников в разноцветных комбинезонах повергает меня в депрессию еще более сильную, чем вид моей случайной библиотеки. И потому еще быстрее, чем велит здравый рассудок, я направляюсь в центр, беру в киоске отложенные газеты, заглядываю в книжный магазин (покупаю «Мост короля Людовика Святого» Торнтона Уайлдера), забегаю на почту (нет никакой почты) и торопливо, через парк, вдоль реки, мимо бассейна (там не так уж много лыжников в разноцветных комбинезонах) поднимаюсь на гору, домой. Мать сидит за столом и разгадывает кроссворд в журнале «Хозяйка», а две живущие в вечной ненависти суки вяло грызутся друг с другом.
– И что там нового внизу? – спрашивает мать.
– Ничего нового, – отвечаю.
– Людей много?
– Много.
– Встретил кого-нибудь?
– Никого не встретил, – говорю я с растущим раздражением, потому что чувствую, как опять разочаровываю ее.
– А в костеле? – остатки надежды слышатся в голосе матери. – Может, в костеле какие-нибудь объявления о смерти?
– Нет никаких объявлений в костеле. Никто не умер, – говорю я с растущим чувством вины и ухожу к себе. Стараюсь не смотреть на книги, но не смотреть на стопку тетрадок не удается. Со стопкой тетрадок в линеечку в элегантных обложках я должен в конце концов духовно потягаться. Выглядят они, конечно, провокационно – так, словно ждут момента великого вдохновения, когда, охваченный неудержимым творческим неистовством, я испишу их все сразу, от корки до корки. Но дело в том, что я в этих тетрадках вообще не пишу ничего стоящего (обычно я все пищу на простой канцелярской бумаге А4). В тетрадках я лишь фиксирую самые черные минуты, делаю случайные заметки, помещаю там интимные исповеди, начинаю и не заканчиваю. До бесконечности покупаю все новые тетрадки в линеечку в элегантных обложках, потому что знаю, что бесконечно будет продолжаться время черных минут, случайных заметок и до середины доведенной откровенности. Отрываю взгляд от фатальных тетрадок и смотрю в окно. Над туманными очертаниями Козинцев пробивается свет, становится теплее. «В июне привезут кота из Франции, – вспоминаю я. – Кот в июне, – думаю я и шепчу: – Кота привезут в июне, это хоть какая-то развязка».
Роман и конец романа
Когда автобус из Могилян съезжает вниз, в туманной перспективе появляется Краков, с правой стороны видна Гута, с левой Мыдльники, а в середине под балдахином пыли – центр города, темный и извилистый, словно огромный расколотый орех. Меня пронизывает сентиментальная дрожь. Сентиментальная дрожь пронизывает меня по множеству причин, хотя бы по той причине, что я испытываю эмоции, которые теперь, под конец столетия и тысячелетия, никто уже не испытывает.
Давно жившим, давно умершим либо давно описанным людям знакомы были подобные переживания – после длительного странствия поднимались они, утомленные, на очередную возвышенность и наконец-то, наконец обнимали взором весь лежащий у их ног город, бывший целью их путешествия. Они смотрели на стены, на крыши, на дым, выходящий из труб, на огни и костры, слышали визг сирен, шум фабрик и скрип экипажей; их охватывал внезапный страх неведомо перед чем, за их плечами бежала белая известковая дорога, тянулись поля. Так было, пока не уплотнилась архитектура, пока не перестали на ночь закрывать укрепленные ворота, пока бетонные форпосты пригородов не заняли все свободное место, ведь во время любого путешествия нельзя не заметить, что каждое место стало теперь предместьем. Такими бывали давние странствия и возвращения, и так до сегодняшнего дня выглядит въезд в Краков, во всяком случае, так он выглядит для того, кто со стороны гор автобусом едет по Закопянке. Как говорит поэт: «Передо мною Краков в серой котловине (…) / Передо мной блестящая трава, как / лезвия ножей, скворцы, как скауты, полоска горизонта / другие города, границы, балконы / мысли / двойные смыслы. Туман рассеивается / туман сгущается. Тела больших костелов / как шарики на привязи колышутся / неторопливо». Я сижу в рейсовом автобусе, но я словно лечу, будто у меня есть крылья, через Матечны, через Дембницкий мост, лечу вдоль Аллей и над Клепажем, возвращение в Краков уже само по себе окрыляет меня, а на этот раз (середина февраля, дожди и жара), на этот раз я еще и окрылен мыслью о незавершенном рассказе, который ждет завершения в моей одиннадцатиэтажной бетонной башне на Франческо Нулло. (С балкона я вижу темные башни костелов.)
Рассказ этот – о Стале и Фиалковском[18]18
Томаш Фиалковский – многолетний ответственный секретарь редакции «Тыгодник Повшехны», в настоящее время заместитель главного редактора и руководитель отдела культуры.
[Закрыть] и их погибельной любви к некой женщине. «Помню один скандал» – такую апострофическую фразу пару недель назад я записал в одной из моих элегантных тетрадок в линеечку, но это было неудачное начало, потому что, хотя в этой истории, взятой прямо из жизни, скандалов было хоть отбавляй, сама она скандалом не была, она была романом, фантасмагорическим и упоительным романом. «Помню один роман» – так должен был я начать, и так я начинаю.
Влюблены в нее были оба: Фиалковский и Сталя, она же, поскольку обоих очень, ну просто очень любила, не могла между ними выбрать, впрочем, быть может, никогда никакого окончательного выбора в расчет и не брала. Она училась на театроведении, потом на кинокритике, читала множество книг и, естественно, хотела написать такую магистерскую работу, какой до нее никто никогда не написал и потом не напишет. С магистром Сталей она сталкивалась на погруженных в полумрак лестницах и в коридорах Голубятни (вечный ноябрь царит в Институте польской филологии на улице Голубиной)[19]19
Голубятня – «домашнее» название факультета полонистики Ягеллонского Университета в Кракове.
[Закрыть] и безошибочно, на сверхинтуитивном уровне постигала, что главная эмоция, которая их объединяет, – это страх неведомо перед чем. Перед чем? Повторяю четко и ясно: страх неведомо перед чем, именно так и следует оставить, и не надо благородную категорию страха неведомо перед чем раскладывать на составляющие, не надо ломать голову, почему масло масляное. В итоге она решила писать о мотиве воды в творчестве Бергмана, хотя, конечно, подразумевала также и мотив огня, мотив воздуха или мотив дьявола, или вообще тему демонизма в творчестве Бергмана. Надела свою единственную черную юбку до середины икр и туфли-лодочки на низком каблуке и, терзаемая страхом неведомо перед чем, отправилась на консультацию к магистру Стале. (Среда, между одиннадцатью и двенадцатью тридцатью в ассистентских комнатах.)
– Но я же в этом абсолютно не разбираюсь, не имею об этом ни малейшего понятия, я не хожу в кино, – прерывающимся голосом сказал магистр Сталя, когда она голосом в свою очередь очень спокойным и даже слегка холодным задала вопрос, в котором упоминалось обо всем, кроме самого ответа.
– Я знаю, что вы в этом не разбираетесь, но вы вызываете доверие, – парировала Малгожата (такое для отвода глаз я даю ей имя).
После чего в ассистентских комнатах наступила необыкновенная тишина, там сделалось так тихо, как в Аккерманской степи[20]20
«Аккерманские степи» – название первого сонета из сборника «Крымских Сонетов» Адама Мицкевича.
[Закрыть], там было совсем тихо, поскольку магистр Сталя не знал, что ответить. Его молчание, с сегодняшней перспективы совершенно необъяснимое, тогда, в те времена, в ту эпоху, было все-таки отчасти объяснимым. А именно, Мариан Сталя уже тогда знал, что будет заниматься литературой модернизма, но его терзали угрызения совести, что он не знает всей литературы модернизма. Тогда он еще всех книг, изданных на земном шаре между годом 1891-м (появление первой серии «Поэтических произведений» Казимира Пшервы-Тетмайера и начало «Молодой Польши»[21]21
«Молодая Польша» – течение в литературе, изобразительном искусстве и музыке Польши в 1890–1918 гг., отражающее общеевропейские тенденции искусства рубежа веков.
[Закрыть]) и годом 1918-м (начало межвоенного периода и конец «Молодой Польши»), так вот, тогда он еще всех книг, написанных и изданных человечеством между двумя этими датами, не прочел, и это его тревожило.
Тревога, отнявшая у него голос, не помешала, однако, обратить внимание на ту змеиную гибкость, с которой Малгожата (в юбке до середины икр) поднялась со стула и слегка покачивающейся походкой покинула ассистентские комнаты. Вид уходящей Малгожаты, несмотря на то, что был видом, казалось бы, успокоительным (исчезает очередное препятствие, препятствующее чтению), успокоения, увы, не принес, более того, стал видом как-то по-особенному горестным. Их первый разговор получился одновременно предпоследним. Когда через несколько месяцев Малгожата (на сей раз в джинсах и туфлях на высоком каблуке) зашла на консультацию к магистру Стале, он в совершенно непонятном для него порыве отчаяния согласился пойти выпить с ней кофе. Во всяком случае, они об этом договорились. Договаривались на среду, а в среду передоговорились на пятницу, что было ему даже на руку, потому что до четверга он рассчитывал закончить читать Каспровича, а значит, после того как он закончит Каспровича и перед тем как приступит к Тетмайеру, теоретически он мог бы встретиться с этой дылдой, вдобавок не чурающейся высоких каблуков. Рост у Малгожаты – что, возможно, не имеет, а возможно, имеет значение – был ровно сто восемьдесят пять сантиметров, и она действительно не чуралась высоких каблуков, что усиливало врожденную тенденцию ее хрупкой фигуры к покачивающимся движениям.
Однако отчаяние отчаянием, волнение волнением, а нервы нервами. Они договаривались и все никак не могли договориться, где встречаются – в «Мозаике» или в «Колоровой», а кончилось все тем, что в пятницу в пять часов один сидел в «Мозаике» (Мариан С.), а другая (Малгожата метр восемьдесят пять) в «Колоровой». И так они сидели, совсем близко друг от друга, разделенные лишь узкой, как замерзший ручей, улицей Голубиной, сидели неподвижно, и, хотя каждый из них знал, что достаточно только встать и перейти на другую сторону, ни она, ни он не сдвинулись с места. А потом страх неведомо перед чем не позволил им разъяснить это трагическое недоразумение. Когда они сталкивались друг с другом в погруженных в полумрак коридорах и на пронизанных достоевщиной лестницах Голубятни, в их молчаливых поклонах не было нежности. Он без остатка отдался вредной привычке чтения, она же начала встречаться с Фиалковским.
Потому что Фиалковский решительным образом был куда более решителен. Они часто встречались, часто разговаривали, ходили в кино, к примеру, на фильме «Кабаре» их видели раз десять, а то и больше. Да-да, Фиалковский, безусловно, встречался с Малгожатой, и в этом нет ничего удивительного, в конце концов в этой паре – я имею в виду пару Фиалковский и Сталя, – так вот, в этой паре Фиалковский всегда был немного круче и играл первую скрипку. Возьмем, например, столь много говорящую сцену, как ритуальное появление профессора Стали и лектора Фиалковского в книжном магазине. Ведь их появление в книжном (или букинистическом) магазине – это как появление пары кровожадных бандитов в салуне. Шум разговоров стихает, пианист перестает играть, бармен застывает за стойкой, карты падают из рук шулеров, в глазах потаскух загорается жадное пламя восхищения и вожделения. Когда Сталя и Фиалковский появляются в книжном магазине, стихает даже шелест переворачиваемых страниц, случайные книги падают из рук случайных читателей, продавщицы поправляют прически и мобилизуют свои познавательные резервы, в глазах студенток полонистики загораются черные лампады смерти. В абсолютно гробовой тишине Фиалковский неизменно вдет впереди и, будто меткий стрелок, точными одиночными выстрелами поражает на столах и стеллажах самые интересные или самые диковинные экземпляры. А Сталя вдет сзади, будто морально падший шериф, разочаровавшийся в ближних и потерявший веру в добро, и из длинноствольного ружья ведет непрерывный огонь, долгими, полными иронии взглядами обметая столы и стеллажи, все презирая и все игнорируя.
Томек Фиалковский познакомился с Малгосей метр восемьдесят пять вот каким образом: она принесла в редакцию «Знака» (где он был важной фигурой) рецензию на именно тогда изданную «Игру на промедление» Януша Андермана. Рецензию приняли к печати, но так вышло, что сразу после этого поляк стал папой Римским, потом нахлынула «Солидарность»[22]22
«Солидарность» – общественно-политическое движение, сыгравшее решающую роль в падении коммунистического режима в Польше. Возникло в 1980 г. как профсоюзное движение, руководимое гданьским электриком Лехом Валенсой. С 1981 г., после введения военного положения, до 1989 г. носило нелегальный характер.
[Закрыть] объявили военное положение, начались забастовки и заседания Круглого стола[23]23
Круглый Стол, или Переговоры Круглого Стола – под таким названием в историю вошла встреча властей ПНР и оппозиционной «Солидарности» в 1989 г., в результате которой началась трансформация общественного строя Польши. (Форма стола переговоров символизировала равенство и ассоциировалась с эпосом о короле Артуре и Рыцарях Круглого Стола.)
[Закрыть], Польша обрела независимость – и в нагромождении всех этих исторических событий никому не было дела до Малгосиной рецензии. В дальних уголках редакции на улице Сенной, а может, как раз во время переезда в Дворек Ловчий она куда-то подевалась. Малгося, впрочем, тоже куда-то подевалась. Защитила магистерскую работу («Мотив дома в творчестве Бергмана») и безвозвратно покинула город. Ее роман с Фиалковским, хоть и бурный, в итоге получится коротким и закончился, в сущности, неизвестно почему. Злые языки говорят разное. Одни злые языки говорят, что он пересказал ей – дословно, как ему свойственно, – на одну книгу или на один фильм больше, чем следовало. Другие злые языки говорят, что в блюдо из риса она добавляла слишком много индийского шафрана и этот чертовски желтый рис, который она ему подавала, повергал Фиалковского в глубокую депрессию. Те, кто теперь может видеть Сталю и Фиалковского идущими вместе на обед или в книжный магазин, поговаривают, что роман закончился, как заканчиваются все романы, а все романы, как известно, заканчиваются тем, что героиня в один прекрасный день сбегает с русским офицером. Похоже (есть свидетели), героиня и этого романа сбежала с русским офицером. Она уехала с ним туда, куда в те времена героини романов уезжали с русскими офицерами. То есть в Легницу, в гарнизон Советской армии.
Я иду по тонущим в ослепительном блеске, или в непроглядной тьме, или в зимнем дожде закоулкам Старого Города, и каждый раз, когда в туманной перспективе вижу высокую, щуплую и длинноволосую женскую фигуру, мое сердце начинает колотиться, потому что я думаю: она вернулась. Но сердце мое, хоть и крайне часто, но колотится всегда напрасно. Часто – потому что в мире сейчас неслыханно много неслыханно высоких, неслыханно молодых и вдобавок практически не покачивающихся женщин. Словно последнее дамское поколение родившихся под конец последнего раздела Польши по какому-то Божьему капризу оказалось наделено импонирующей статностью и уверенностью движений. А в прежние времена высокие, больше метра восьмидесяти девушки попадались редко и даже в лодочках на низком каблуке чувствовали себя неуверенно.