Век перевода (2005)
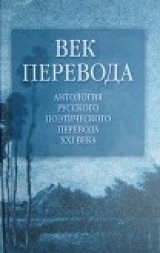
Текст книги "Век перевода (2005)"
Автор книги: Евгений Витковский
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 18 страниц)
Остынь, душа, остынь. Твои доспехи хрупки,
Земля и твердь прочны на вековых корнях.
Душа моя, тоске не делай ты уступки
И не забудь о тех беспечных долгих днях.
Во мраке рудников брат брата ненавидел.
Я спал и не скорбел по льющимся слезам.
Сочились кровь и пот, но в снах я их не видел
Не знал забот, пока был не рожден я сам.
А ныне тщетно я найти хочу причину
Шагаю и дышу, смотрю на солнца лик.
Остынь, душа, остынь. Нам видеть лишь годину:
Пусть произвол царит, давай потерпим миг.
Взгляни: земля и твердь больны с времен созданья.
Вот думы тщетные, что сердца рвут струну:
Презрение и зло, страх, ненависть, страданья, —
Зачем проснулся я? И вновь когда усну?
На тропах памяти всегда растут цветы минувших дней.
Прекрасны прежние года: мы роз не видели красней.
Побеги юной резеды нам улыбаются вослед,
Фиалок сладкие ряды не увядают столько лет!
Там мама нежною рукой ласкает у дверей сирень;
Плывя вдоль памяти людской, вдыхаем ароматов тень
И вновь переживаем все былые радости не раз,
Дань отдавая той красе, что детям ведома подчас.
Старенье, смерть – живых удел. Хранит лишь память мертвых след;
Кто пышной юностью владел, освобожден от мук и бед.
Малыш, что Богом призван был так много, много лет назад,
Младенцем в памяти застыл – я встрече с ним безмерно рад.
Восторг не канул в бездну лет. Не уничтожат дождь и снег
Ушедшей розы дивный цвет, что знала ласку росных нег
И в памяти свежа, как в миг, когда лишь сорвана была.
Ее прекрасней ныне лик, чем в день, когда она цвела.
На тропах памяти всегда цветет блаженство прежних дней,
Бог дал нам власть, чтоб вновь сюда призвать их из страны теней.
Ночами, будто наяву, мы входим в мир былых чудес
И грезим, глядя в синеву давно поблекнувших небес.
Ах, если б в платьях «от кутюр»
Любому нравиться повесе,
Есть шоколад и конфитюр,
Забыв о весе.
С латыни текст переводить
И заниматься римским правом.
Семь дочек хочется родить
С веселым нравом.
Ходить в брильянтах и шелках…
Но есть заветное желанье:
Мне б на балах и пикниках
Хранить молчанье.
Ах, если бы молчать мне на банкетах.
Досадно слышать каждый раз,
Как, заглушая даже джаз,
Слов трачу месячный запас,
За фразой сыплю фразу.
Но с детства – нет уж больше сил —
Лишь колокольчик прозвонил,
Так, словно черт меня подбил,
Болтать кидаюсь сразу.
Прием, девичник иль фуршет —
Зачем перечить мне соседу,
Спешить, как бабочке на свет
Встревать в беседу?
Подруги, что меня умней,
Не рвутся обсуждать всё скопом.
Я ж в спор влетаю, как жокей,
Лихим галопом.
Кино, спектакли, сплетни дня
Сужу, ряжу о моде властной,
И что ж? Готов убить меня
Сосед несчастный.
Ах, если бы молчать мне на банкетах.
Когда кипит котел страстей,
Зачем же мучить мне гостей
Сентенциями всех мастей,
Теряя всякий разум?
Я спор веду как дирижер,
Но тут выходит форс-мажор —
Последний стойкий ухажер
Сбегает раз за разом.
Фортуна, жду твоих даров!
Мне б спать полдня и петь кантаты,
На скрипке – лучше мастеров —
Играть сонаты.
Порхать изящнее пера —
Гран-па исполнить без изъяна.
Но только вспомню, как вчера
Вещала рьяно…
Взамен богатства без труда,
Хвалебных отзывов в газетах,
Ах, если бы молчать всегда,
Ох, если бы молчать всегда,
Эх, если бы молчать всегда
Мне на банкетах.
Казенный конверт: небеса,
Синяя вышина.
Штампует здесь адреса,
Глумясь над надеждой, Луна.
Прочтет нам Смерть-прокурор
Отсрочку иль приговор?
Стою на Божьем клочке у дальнего края земли.
Вздымаются пики вокруг, река бормочет у ног.
Гадаю, зачем я был создан, впустую ли дни ушли:
В последнем моем приюте настолько я одинок.
В последнем! Да, смерть близка. Слыхал ли ты плач мужчин?
(Рыданья корежат их души и рвут их, словно в аду.)
Бывало, и я рыдал, но слез больше нет средь морщин,
Сижу в пустынном безмолвье, покоя вечного жду.
Покой! Ну, так вот он вокруг; безмолвье до самых корней.
Оделись хребты в горностай, наряд золотой у холма.
Илистый, синий Юкон бурлит у хибары моей.
Мне, думаю, только река сойти не дает с ума.
Ты – монстр безжалостный днем, ты – черствая, жадная тварь.
Стремнины, пятна мазута – и смерч кружит над рекой.
А ночью – Титан ты в муках, угрюмый, темный бунтарь,
Навеки в бешенство впавший, жаждешь найти покой.
Ты требуешь дань человечью, но не попаду в западню.
Юкон, я нрав твой усвоил, и ты признал мой диктат.
Я лес рублю и сплавляю, в Доусон плот свой гоню,
Там деньги, виски и бабы, а следом за ними – ад.
И ад и муки затем. Живя в одиночестве здесь,
Я б жизнь, что осталась, отдал, чтоб бремя с себя свалить.
(Отказано в искупленьи тем, кто злобствует днесь. —
Те губы, что Бога хулили, не смогут Его молить.)
Бессильный, как жук, что наколот навек на иглу Судьбы;
Несчастный в камере смертных, к тюремной ограде взлети!
Задавлен безбрежным миром, я жду, устав от борьбы,
Тону в тишине, где лишь небо и звезды, как конфетти.
Смотри! Из дальней долины рапира вонзилась в ночь,
Прожектора луч с парохода – он молча шарит в горах.
Вот гордая сила чужая, что тьму прогоняет прочь,
Уверенно, торжествуя, везет и надежду, и страх.
Словно смотрю на сцену – мне жизнь парохода видна:
Мелькают веселые лица, доносится стук колеса.
Сердце бьется всё громче, но падает вновь тишина.
О чувствах в нахлынувшем мраке знают лишь Небеса.
Быть может, меня замечал ты, быть может, меня жалел —
Бродячего лесоруба, вот здесь у хибары моей.
Однажды меня не увидишь; презренье – изгоя удел,
Жалость меня не утешит: усну до скончанья дней.
Была моя жизнь задачей: в ней ответа нет искони.
Я бился, глуп и небрежен, не знал о тщете труда.
И вот итог нулевой. Скорее, о Смерть, смахни
С доски меня, будто школьник: однажды и навсегда.
Вот конец войне жестокой – как победы сладок миг!
Мы сквозь слезы победителей встречали.
В пурпур улицы оделись, наш триумф был так велик!
Гром литавров – и не место для печали.
Крыши скрыты морем флагов, блеск мундиров и наград,
Колокольный звон гремел под облаками.
Шли солдаты Королевы на торжественный парад,
Мы гордились победившими войсками.
Вдруг стемнело, тень упала – так зловеща и мрачна,
Вмиг колокола затихли, смолкло эхо.
И как тряпки сникли флаги, их накрыла пелена,
Молча ждали – людям стало не до смеха.
Небо всё темнело, ветер гнал обрывки серых туч,
Сердце сжал нам страх, и глас раздался рядом:
«Пусть оденут город в траур, будет флагов цвет гнетущ,
Войско Мертвых к нам сюда идет парадом».
Он всё ближе, ближе, ближе, тот ужасный, жалкий строй —
Память прежней грозной воинской гордыни.
В шрамах трупы: кровь и струпы, а из ран сочится гной,
Взгляд пустой пропитан горечью полыни.
Пена на губах иссохших, в муке изогнулась бровь!
Так шагали полусгнившие колонны:
Ноги хрупки, рук обрубки, всё смешалось – грязь и кровь,
Долетают заунывной песни стоны!
«Мертвых бросили средь вельда, но мы, вражеский окоп
В этот день оставив, прошагали мили.
Под Магерсфонтейном пали, в Коленсо, у Спион-Коп,
Ваш триумф ценою крови оплатили.
Вы должны нам, а в награду – лишь могила наш удел?
Получить свой долг мы к вам пришли в надежде.
Славьте нас теперь за муки, боль и доблесть ратных дел,
Как не чествовали никого вы прежде».
Лица в страхе леденели, к нёбу прилипал язык,
И мутился ум, таким речам внимая.
С ужасом взирали люди на погибших горемык,
И захлестывала нас тоска немая!
Как оболган их приходом самый первый мирный день!
губ кривых оскал и в трупных пятнах лица.
За шеренгами шеренги всё тянулись, словно тень.
Вдруг я понял – мне кошмар весь этот снится.
В пурпур улицы оделись, наш триумф был так велик!
Между крышами и небом флаги рдели.
Город словно обезумел; точно мальчик, пел старик:
В небе радостно колокола гудели.
Свет, веселье, но порою всё ж мелькнет в глазах тоска.
И когда живого чествуем героя, —
Милосердный Бог, пусть помнят все грядущие века
Марш бойцов, что не вернулись с поля боя.
На кладбище в любви слились
Мы с Мэй во тьме кромешной
И на могиле предались
Утехам страсти грешной.
Женитьбы нашей близок час —
Бранить нас нет причины…
Запретный слаще нам экстаз,
Чем брачные перины.
Средь страстных вздохов и утех,
Прильнув к губам губами,
Не мог не думать я о тех,
Кто мирно спит под нами.
Бедняги! Долг вас чтить велит,
Нам ваша милость – в радость.
Надеемся, не возмутит
Вас, мертвых, жизни сладость.
Когда уйду я в мир иной,
В могилу землю бросят.
Пусть часто клятвы надо мной
Влюбленные приносят.
Обет услышав, я сердит
На них не буду, верно:
Любовь жизнь новую родит —
Я рад тому безмерно.
Я врыл палатку под сосной
На травяном холме,
В рудник вгрызался в летний зной,
Отчаялся к зиме.
Мне снился прочный капитал
И самородки в ряд;
Увы, под носом клад лежал,
Как люди говорят.
Решив, что дело мне во вред,
Я клял мечту свою.
Решив, что золотишко – бред,
Всё бросил – и адью.
На холм тот швед пришел потом
И ковырнул киркой:
Нашел богатство под кустом, —
Нрав у судьбы такой.
От тех богатств хранит нас Бог,
Что голову кружат.
Он закутил, он занемог
И провалился в ад.
Вожу, немного потужив,
Я грузовик с мукой.
Швед помер, я покуда жив, —
Нрав у судьбы такой.
Майя Цесарская{37}
Коль случай нас с тобой сведет,
Уверен, что меня
Не примешь точно ты в расчет,
Пройдешь как мимо пня.
В лицо не взглянешь никогда —
Нет дела до калек,
Ведь я – безликий, как орда, —
Обычный человек.
Не ты ль работаешь, как вол,
И спишь с женой потом,
Чтоб для детей накрыт был стол
И был уютным дом?
В тебе всё те же есть черты —
Всего лишь имярек…
Сдается, парень, что и ты —
Обычный человек.
Нас не представят к орденам,
Работа – наш кумир.
Но парни, что подобны нам,
Вращают этот мир.
Надежный курс даем судьбой,
И с нами Бог навек.
Прочь шляпу – Сила пред тобой:
ОБЫЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК.
1
Сел у скалы, на слепящем сколе.
Юным, южным,
чуть повеяло летним ветром,
будто добрым ужином.
Приучаю сердце – наверно,
не так уж трудно —
к тишине; приманиваю мотив
непрошедшего, уронив
голову, руку.
Вглядываюсь в гриву гор,
и каждый лист, скол,
блик – отсветом твоих скул.
Вижу, на целом свете
ни души; тропка, ветер
юбку твою вздул.
Вижу, как в путанице ломких
тонких веток выбился локон,
как дрогнули груди, мягко-мягко,
и снова, снова всё сначала,
и Синва-речка по камешкам,
круглым, белым зажурчала
смехом на зубах русалочьих.
2
Люблю, о, до чего люблю я
тебя, сумевшую звучать
заставить лгущую впустую
сердца глубинную печаль
и твердь земную.
Тебя, что в тишь самим собой взбешенным
потоком прочь от меня бежишь, а я
реву и рвусь с вершин своих по склонам,
вблизи тебя, такой далекой, бью
об землю и об небо, как люблю
тебя, родная мачеха моя!
3
Люблю тебя, как ребенок маму,
как глубь свою молчаливые ямы,
как любят свет безлюдные храмы,
как огонь – душа и как покой – тело!
Люблю, как смертные жизни рады,
любят, покуда не отлетела.
Каждое движенье, улыбку, слово
вбираю, как земля упавший предмет.
Как кислотой в металл, в основу
души втравливаю снова и снова
все изгибы очертанья родного,
и нет в ней сущего, где тебя нет.
Минуты со стрекотом мчатся, минуют,
а ты в ушах притаилась немо,
одна звезда сменяет другую,
а ты в глазах стоишь и застишь небо.
Стынет во рту, как в пещере тишь,
вкус твой, чуть-чуть вея,
а на чашке рука белеет,
и видно жилки-трещинки,
пока глядишь.
4
Что же тогда за материя сам я,
раз взгляд твой резцом ее формует?
Какая душа, какое пламя,
неописуемое словами
чудо, раз, сквозь ничто-туман бросаясь,
по склонам плоти твоей брожу я?
Раз, как глагол в просветленный разум,
в тайны твои проникаю разом!..
Где крови кругами, в немолчной дрожи
куст розы вновь и вновь
трепещет, чтоб на нежной коже
щеки твоей распуститься в любовь,
плоду ее колыбель готовя.
Где желудка почва простая
чутко сплетает и расплетает
нити и узелки по краю,
соков узорами растекаясь,
корни и крону легких питая,
чтоб гимн себе своими устами
шептала листва густая.
Где радостно по туннелям вечным
преображается и хлопочет
жизнь-материя трактом кишечным,
шлаки купая в гейзерах почек!
Где холмы вздымаются сами,
звезды вздрагивают и угасают
где шахты к небу провалы щерят
несчетные копошатся звери
мошкара
и ветра,
где жестокость беспечна, добра,
солнце светит кромешной мгле,
не познавшей себя земле,
вечности до утра.
5
Спекшимися от крика
сгустками крови
слово за словом
падает пред тобою.
Суть – заика,
лишь закону не прекословит.
Всё. Поздно: потроха, что заново их
день ото дня выдыхают в стих,
к немоте готовы.
И всё же, и всё же —
к тебе, в миллионах отысканной,
взывают еще, к единственной:
о живое ложе,
зыбка, могила, мира дороже,
прими такого!..
(Светает; о, как высока высь!
Тьма света – не пережечь его.
Как больно глазам, куда ни ткнись.
Видать, погиб, делать нечего.
Всё. Откуда-то сверху сердце
бьет, мечется.)
6 (сбоку-песенка)
(Мчится поезд, ворожит на ходу:
может, я тебя сегодня найду,
может, схлынет разом краска с лица,
может, кликнешь тихонько с крыльца:
Я воды согрела, полью тебе!
На, утрись скорей, вот рушник тебе!
Сядь, поешь, я мяса сварила!
Ляг, я нам вдвоем постелила!)
Сергей Шоргин {38}
Ночами я пугаюсь, вдруг поймав
твое дыханье: что ж люблю я так?
Вот этот жалкий поршень, автоклав,
прерывисто сопящий пшик, пустяк?
Прислушиваюсь, как ворует жизнь
живой паровичок – из ничего.
Да что ж со мною станет, окажись,
что Бог, играя, выронил его?
Случайность, непонятный механизм
в скорлупке глупой – жизнь моя сама;
замедли ход, рвани ли, захлебнись —
в Дунае утоплюсь, сойду с ума.
На что же я надеялся, дурак?
Картежник-мот и тот в сто раз умней
или беглец с сокровищем своим,
доверившийся прихоти морей.
То на колени плюхнусь, то вскочу,
то жар, то дрожь берет, и я тревожно,
как трус последний, жалобно шепчу:
«О, осторожно»…
Посеребрился локон золотой;
О время, ты спешишь неумолимо,
Борьба с тобой останется тщетой,
И молодость, увы, проходит мимо.
Цветок красы не расцветает вновь;
Не вянут корни – вера, долг, любовь.
В жилище пчел преображен шелом,
Молитва стала участью солдата,
И слышится торжественный псалом
Взамен сонетов, певшихся когда-то.
О, дал Господь безгрешные сердца
Тем, кто попал в деревню из дворца!
Простых людей из ближнего села
Он учит в скромной комнате своей:
Кто королеву любит – тем хвала,
Проклятье тем, кто зла желает ей.
Богиня, не препятствуй сей мольбе:
Он был твой рыцарь и служил тебе.
Вчера Томлинсон на Беркли-сквер скончался в своем дому,
И сразу же Призрак, посланник небес, на дом явился к нему,
За волосы с койки его поднял и потащил в руке,
В долину, где Млечный Путь шумит, как перекат в реке;
Потом еще дальше, где этот шум затих и умер вдали;
И вот к Воротам, где Петр звенит ключами, они пришли.
«Восстань! – велю тебе, Томлинсон», – так Петр с ним заговорил, —
И нам расскажи о добрых делах, что делал, пока ты жил.
Какое добро на далекой Земле свершил ты, о жалкий гость?"
И побелела пришельца душа, словно нагая кость.
«Был друг дорогой, – он сказал – у меня, советчик и пастырь мой,
Он дал бы ответ за меня сейчас, когда бы здесь был со мной».
«Что в жизни земной был приятель с тобой – запишут тебе в доход,
Но этот барьер – не Беркли-сквер, ты ждешь у Райских ворот;
И если друг твой прибудет сюда – не даст за тебя ответ;
У нас для всех – одиночный забег, а парных забегов нет».
И огляделся вокруг Томлинсон, но толку с того – ни шиша;
Смеялась нагая звезда над ним, нагою была душа,
И ветер, что выл среди Светил, его, будто нож, терзал,
И так о добрых своих делах у Врат Томлинсон рассказал:
«Об этом я слышал, а то – прочел, а это – сам размышлял
О том, что думал кто-то про то, что русский князь написал».
Скопилась стайка душ-голубков, поскольку проход закрыт;
И Петр ключами устало тряхнул, он был уже очень сердит.
«Ты слышал, ты думал и ты читал – вот все, что сказал ты нам,
Но именем тела, что ты имел, ответь – что ж ты делал сам?»
Взглянул Томлинсон назад и вперед, но не было пользы с того;
Была темнота за его спиной, Врата – пред глазами его.
«О, это я понял, а то – угадал, об этом – слыхал разговор,
А это писали о том, кто писал о парне с норвежских гор».
«Ты понял, ты слышал, – ну ладно… Но ты стучишься в Райскую Дверь;
И мало здесь места средь этих звезд пустой болтовне, поверь!
Нет, в рай не войдет, кто слово крадет у друга, попа, родни,
И кем напрокат поступок был взят, – сюда не войдут они.
Твоё место в огне, твой путь – к Сатане, тобою займется он;
И… пусть та из вер, что ты взял с Беркли-сквер, тебя да хранит, Томлинсон!»
За волосы Призрак его потащил, чтоб, солнца минуя, пасть
Туда, где пояс Погибших Звезд венчает Адскую Пасть,
Где звезды одни от злобы красны, другие – белы от бед,
А третьи – черны от жгучих грехов, их умер навеки свет,
И если с пути они смогут сойти, – того не заметим мы:
Горят их огни иль погасли они – не видно средь Внешней Тьмы.
А ветер, что выл среди Светил, его насквозь пронизал,
И к адским печам он рвался сам – он в пекле тепла искал.
Но там, где вползают грешники в ад, сам Дьявол сидел у Ворот,
Он душу спешившую крепко схватил и перекрыл проход.
Сказал он: «Не знаешь ты, верно, цены на уголь, что должен я жечь,
Поэтому нагло, меня не спросив, ты лезешь в адскую печь.
Я все-таки детям Адама – родня, так что ж ты плюешь на родство?
Я с Богом боролся за племя твое со дня сотворенья его.
Присядь, будь любезен, сюда на шлак», – так Дьявол ему говорил, —
«И нам расскажи о дурных делах, что делал, пока ты жил».
И посмотрел Томлинсон наверх, и там, где спасенья нет,
Увидел звезду, что от пыток в аду сочила кровавый свет;
Тогда он вниз посмотрел, и там, вблизи мирового Дна,
Увидел звезду, что от пыток в аду была, словно смерть, бледна.
Сказал он: «Красоткой я был соблазнен, грешили мы с ней вдвоем,
Она б рассказала, будь она здесь, об этом грехе моем».
«Что в жизни земной был грешок за тобой, – запишут тебе в доход,
Но этот барьер – не Беркли-сквер, ты ждешь у Адских ворот;
И если подруга здесь будет твоя – тебе в том выгоды нет;
За грех двоих здесь каждый из них несет в одиночку ответ!»
И ветер, что выл среди Светил, его, будто нож, терзал,
И так о дурных своих делах у Врат Томлинсон рассказал:
«Раз высмеял там любовь к Небесам, два раза – могильную пасть,
А трижды – чтоб храбрым считали меня – я Бога высмеял всласть».
А Дьявол душу в костре раскопал и дал есть остыть чуток:
«На дурня безмозглого переводить не стану я свой уголёк!
Ничтожнейший грех – дурацкий твой смех, которым хвалишься ты;
Нет смысла моих джентльменов будить, что по-трое спят у плиты».
Взглянул Томлинсон вперед и назад, но пользы не высмотрел он:
Страшась пустоты, толпился вокруг бездомных Душ легион.
«Ну… это я слышал, – сказал Томлинсон, – об этом был общий шум,
А в книге бельгийской я много прочел француза покойного дум».
«Читал ты, слыхал ты… Ну ладно! И что ж? А ну, отвечай скорей:
Грешил ли хоть раз из-за жадности глаз иль зова плоти твоей?»
«Пусти же меня!» – закричал Томлинсон, решетку тряся что есть сил, —
«Мне кажется, как-то с чужою женой я смертный грех совершил».
А Дьявол, огонь раздувая в печи, смеялся из-за Ворот:
«Ты грех этот тоже прочел, скажи?» – «Так точно!» – ответил тот.
Тут Дьявол дунул на ногти – и вмиг к нему бесенята бегут.
«Содрать шелуху с того, кто стоит под видом мужчины тут!
Просеять его сквозь звезд решето! Найти его цену тотчас!
К упадку пришли вы, люди Земли, коль это – один из вас».
На мелких чертях – ни брюк, ни рубах; их – голых – пламя страшит;
И горе у всех – что крупный-то грех из мелких никто не свершит.
Они по углю, крича: «У-лю-лю!», гнали отрепья души
И рылись в ней так, как в вороньем гнезде роются малыши.
Вернувшись назад, как дети с игры, с игрушкой, разорванной сплошь,
Они говорили: «В нем нету души, и делась куда – не поймешь.
Внутри у него – так много всего: душ краденых, слов чужих,
И книг, и газет, и только лишь нет его паршивой души.
Пытали его и терзали его когтями до самой кости,
И когти не лгут – клянемся, что тут его души не найти!»
И Дьявол голову свесил на грудь, не в силах печаль унять:
«Я все-таки детям Адама – родня; ну как мне его прогнать?
Пусть наш уголок далек и глубок, но если в нашем огне
Я дам ему место – джентльмены мои в лицо рассмеются мне,
Хозяином глупым меня назовут и скажут: 'Не ад, а бардак!'.
Нет смысла моих джентльменов сердить, ведь гость – и вправду дурак».
Пыталась к огню прикоснуться душа, а Дьявол глядел на нее,
И жалость терзала его, но он берег реноме свое.
«Проход тебе дам, трать уголь к чертям, ступай к вертелам, вперед! —
Коль душу придумал украсть ты сам». – «Так точно!» – ответил тот.
И Дьявол вздохнул облегченно: «Ну что ж… Душа у него, как блоха,
Но сердце спокойно мое теперь – там найден росток греха.
Сей видя росток, я бы не был жесток, будь вправду я всех сильней,
Но знай, что внутри – иные цари, и власть их – выше моей.
Проклятые есть там Заумь и Спесь – и шлюха, и пастырь для всех;
Я б сам не хотел ходить в их предел – в тот особый пыточный цех.
Не дух ты, не гном, не книга, не зверь, – тебя никак не назвать;
Что ж, ради спасения чести людей – ступай, воплотись опять.
Я все-таки детям Адама – родня; не жди от меня вреда;
Но лучших – смотри! – грешков набери, когда вернешься сюда.
Вот черные ждут тебя жеребцы, чтоб отвезти домой;
Не мешкай же, чтоб успеть, пока гроб не закопали твой!
Вернись на Землю, открой глаза и детям Адама скажи,
Поведай людям ты слово мое, покуда ты снова жив,
Что за грех двоих здесь каждый из них несет в одиночку ответ,
И … пусть сбережет там Бог тебя – тот, что взял ты из книг и газет!»






