Век перевода (2005)
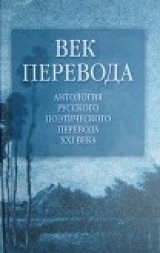
Текст книги "Век перевода (2005)"
Автор книги: Евгений Витковский
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 18 страниц)
И поразил Иисус всю землю… и всех царей их: никого не оставил
(Нав.10:40).
Марина Гершенович{10}
Где та земля, что молоком и медом
Нас утолит, как Бог обетовал?
Повсюду вместе с избранным народом
Пронесся здесь огня и крови шквал;
Подобны кедрам и дубам
Тела погибших всюду там.
О, горделивый град Иерихон!
Трубой Навина ты приговорен.
Не место здесь для милых пасторалей
И для прогулок томных под луной.
Беспечных снов на фоне чудных далей.
Игры теней веселых в летний зной…
Мы на развалинах живем,
И всё страшнее с каждым днем
Осознавать, что мы разбили стан
На той земле, где правил Ханаан.
Но где покой и мир душе мятежной,
Где неба синева и солнца свет,
Когда всё Божество в любви безбрежной
Приемлет нас в спасительный завет?
И милости тройной венец
Готов для молящих сердец —
Он Троицей воздвигнут на века,
Его дарует нам пронзенная рука.
«Итак, христианин, тебе по праву
Земля принадлежит, владей же ей», —
Как часто мы готовы на расправу,
И оттого наш путь еще мрачней:
Ведь с каждым днем всё круче вниз
Нас гонит жизни резкий бриз;
Безрадостен и горек этот век:
Хоронит Мальчика усталый Человек.
Раскрой нам очи, Солнце нашей жизни,
Чтоб нам увидеть Твой прекрасный мир!
Даруй нам обрести покой в отчизне,
Где Ты нам приготовил брачный пир.
Развей улыбкою весны
Все наши беды, словно сны,
И не позволь нам у руин рыдать, —
Пусть к башням вечности ведет нас благодать.
Я шла сквозь лес. Плоды
сердец на ветках зрели:
и те, что, болью налиты, алели,
и те, что недозрелы и тверды.
Чуть выше головы,
свисая, трепетали;
я ощутила тяжесть их и дале
оставила звенеть среди листвы.
Одно я сорвала —
пурпурно-зрелый слиток,
венок из маргариток
вокруг него сплела.
И ритм его живой
внезапно осознала:
сочилось сердце ало
горячею смолой.
Сквозь кожуру рвалось,
с надтреснутой губою, —
сердечко голубое,
что в муках родилось.
Одна луна взойдет, другая станет тенью.
Неразличимы дни, и жизнь моя проста.
О драгоценный лик, тебя венчает пенье:
синицы синей трель и черного дрозда.
Дрозд черно-бархатист, напев его разумен,
а флейты голос чист во тьме и невредим.
Лесная дева, знай, среди замшелых гумен
сбегается зверье к источникам твоим.
Коричневы их лбы с растущими рогами…
А у ночей твоих
павлинья красота цветет в редчайшей гамме,
и шепот или крик колеблет их.
Рептилий изумруд. И россыпь насекомых
вкруг лезвия ножа уклейки золотой.
Упадок летних сил в зеркальных водоемах,
и тишина приходит на постой.
Владения мои! В путь отправляюсь дальний;
я волхвовать могу, могу колдуньей быть.
Да будет сад цвести и зреть орех миндальный
и алое вино, коль захочу я пить.
Прозрачная земля, от жажды умираю!
Ты зреешь… Силы дай, чтоб я смогла понять,
как ручку повернуть у врат тяжелых рая
и снова в том саду под деревом стоять…
Я в городе невзрачном родилась,
где церковка, два-три ученых сана
и крупная больница (как ни странно —
«психушка»), что за годы разрослась.
Я в детстве часто говорила «нет».
В том радости для близких было мало.
Я и сама бы, право, не желала
такую дочь произвести на свет.
В одну из многих войн училась в школе.
Я рассуждала так в двенадцать лет:
«Не будет войн, наступит мир без бед», —
о совершенном думая глаголе.
Учителя признали мой талант,
засим образование мне дали.
Мы слова «сокращение» не знали,
когда нам выдавали аттестат.
Учителя нам ставили отметки,
заботились об уровне юнцов,
стараясь в жизнь нас выпустить из клетки…
опала я в бюро, в конце концов.
Я день-деньской на службе пропадала,
работала почти что задарма.
А вечерами что-то сочиняла
(отец решил, что я сошла с ума).
Карандашом по карте я вела
свои маршруты мнимых путешествий.
А в тихий день без всяких происшествий
большого счастья, так сказать, ждала…
У мелких городов одно лицо.
Все мазаны они единым мирром.
Окно. Мужчина. Завтрак: хлеб, яйцо.
И мухи, что кокетничают с сыром.
Подмигивает сахар и корица.
Соленья возбуждают аппетит.
И «Монпасье» на солнышке лоснится
и с детской ненасытностью роднит.
А за прилавком сдобная матрона —
с пакетиками в ручках – тут как тут
и между тем вещает скорбным тоном:
«А цены на муку опять растут…»
Поскольку грусть в глазах твоих жива
и лоб высокий думы омрачают,
позволь тебя утешить, – так слова
находит тот, кто колыбель качает.
Я призову и Солнце, и Ветра
дарить тебе хорошую погоду;
прекрасных снов да снизойдет пора
взамен тенет ночного небосвода.
А если ты споешь мне новый стих,
я всем стихиям благодарна буду
за то, что грусть жива в глазах твоих
и лоб тяжел от мыслей, равных чуду.
Сегодня видела я поезд уходящий.
Он шел как раз в Швейцарию. Иной
считает, «Студебеккер» лучше…
Но мне милее с давних пор могучий
дымящийся состав – кумир экрана;
когда-нибудь приедет он за мной
и увезет в неведомые страны.
Я не могу ни на одном перроне
спокойно возле поезда бродить
и, словно деловитый посторонний,
вокзалы стороною обходить.
Как это нелегко (поймут не сразу) —
в такие дни в автобусе, в час пик,
спокойным тоном выговорить фразу:
«Один билет до Штеглица…» Тупик.
Я видела сегодня: поезд скорый
ушел в Париж. Я остаюсь опять
на должном расстоянии стоять,
что мне без слов понятно в эту пору.
Никто не будет ждать в той стороне.
На привокзальной площади нет эха.
И места, где тоскуют обо мне,
нет в планах поездов и списках Рейха.
Они бросали в него каменья.
Улыбка с лица не сошла, —
он хотел собой оставаться,
не собственной тенью.
Никто его душу не разглядел.
И не было слышно ни жалоб, ни пенья,
когда в пустыню ушел Еремей.
Они бросали в него каменья.
Он дом построил из тех камней.
Сказав «Тоска по Родине», я мыслю
иллюзией: нет Родины в том смысле,
в каком ее я знаю, – в этом знанье
всё то, что подавляет нас в изгнанье.
Чужие мы в родных местах тех лет.
«Тоска» осталась. «Родины» лишь нет.
Я не ревнива по своей природе.
И в мыслях нет чего-то в этом роде.
Ах, в прошлый раз…
В тот раз, конечно… Впредь
благоразумной стану,
поглядеть
тебе на это будет интересно.
Допустим, что тебе со мною тесно.
Гуляй себе, я слова не скажу.
(Но: встретишься с Мими или Жужу,
за столиком в кафе с ней сядешь рядом…
И если я ее отмечу взглядом,
за светской болтовней и новостями
той даме – лаком крытыми когтями —
сама вцеплюсь в бесстыжие глаза!)
Моль вещи жрет в один присест,
а клоп берет натурой,
и каждый червь жив тем, что ест.
Я – сыт литературой.
Будь проза это или стих,
сюжет любой смакую,
хоть детектив, хоть миф:
от них я, как гурман, ликую.
Я так начитан, как никто,
я не дурак, признаюсь.
Что книга значит – знаем то!
Я книгами питаюсь.
Сил и смекалки даст сполна
та пища господину.
Что прочий тянет из зерна,
то я из Гёте выну.
Литературой я прожжен,
библиотекой вскормлен.
Но вкуса ворох книг лишен
и плохо приготовлен.
От чтенья есть и толк и прок,
хитрец нас убеждает.
Но есть в обжорстве свой порок:
он время убивает.
Не потерять бы головы,
над книгами коснея…
Ведь поглощенье книг, увы,
не делает умнее.
«В порту „Джульетта“ нам ли горевать!
На катере выходим завтра в море,
Айме, моя последняя невеста, —
когда-то так же звали мою мать;
и Марио, наш сын. Была сиеста…»
Тот голос, скрипучий, как обод стальной,
других берегов достигал.
В Марселе, в типичной портовой пивной
гитара бренчала, певица кричала,
и слух наш изрядно страдал.
Девица прошла через зал,
молодая и незанятая,
запретные карты купила (чтоб после их перепродать).
Заказа она, в общем, тоже не прочь подождать.
Матросы с усмешкою: «Так вот оно и бывает!»
То был очень жаркий, по-южному солнечный день
вблизи Notre Dame de la Garde. Полдневная тень
ушла под столы, что к обеду гарсоны накрыли.
Двенадцать ударов часы аккуратно пробили.
Имели бы денег сполна иностранцы – с порога
акулий плавник заказать или, лучше всего, осьминога.
Но мистер лишь дюжину мидий велел принести.
О мидиях мистера справочник оповестил.
И с чувством фальшивым гитара стрекочет устало.
Певица в ускоренном ритме всё громче кричит;
а всё потому, что в тарелку монета упала
и в этой тарелке оббитой призывно бренчит.
Но там, за столом, где обычно шумит и теснится
гурьба моряков и крутых иностранных солдат,
где мясо без меры с тарелок руками едят,
там всё по-другому, чем пела старуха-певица.
Чуть что – за ножи, что лежат ближе к телу.
Гремит полицейский свисток то и дело!
Снаружи волной Средиземное Море играло,
вблизи кораблей еще ярче синело оно.
И солнце вокруг как положено солнцу сияло.
– И всё это также в расценочный лист включено.
Сад не увянет. У меня нет сада.
Нет дома, где бы ветер плакал от досады.
Не причиняет боль мне туч свинцовых клетка,
Поскольку небо вижу я и так довольно редко.
Я к звездам не стремлюсь уже, как прежде.
Мне газовый фонарь укажет путь к надежде.
Не огорчит беда, не впечатлит отрада.
Мне осень не страшна,
Ведь у меня нет сада…
От коньяка мне стало хорошо.
Уже танцуют стены и предметы!
Их надо поблагодарить за это
и заключить, что хмель мой не прошел.
Ну вот, опять я лишь навеселе.
Ни разу в жизни не пришлось надраться.
Иной бы разум кануть рад стараться
на дно стакана… Мой всегда в седле.
С роскошным фраком пью на брудершафт.
Движенья верны, каждый жест отточен.
Рассудок мой при этом, между прочим,
пасет меня, исследуя ландшафт.
И вспомнив день похожий, год назад,
хочу тихонько к двери прислониться.
Лишь хмель со мной… И впору удивиться:
так для кого же новый мой наряд?
Тебя опять, конечно, рядом нет,
когда мне плохо. В основном – ночами.
Под бой часов похмелье гасит свет…
– И завтра снова буду я в печали.
Со мной такого прежде не бывало;
других я вечно заставляла ждать.
Сижу среди кофейного развала…
А стоит ли – пора вопрос задать.
Всё по-иному, чем в былые дни.
Мы понимаем: наша песня спета…
Не спрашивай – слова нам не нужны,
нет смысла даже говорить об этом.
Уж заполночь! Последний гость не в счет…
Я в городе, где, огибая сушу,
четыре миллиона душ течет,
но редко встретишь родственную душу.
Когда одна я, дом и не живет.
Чужие существа глядят с портретов.
Здесь книги, мной оставленные где-то…
Гвоздики вянут, сохнет бутерброд.
Тоска. Шумит хозяйская родня.
И остается лишь в кино податься.
– С Эллен мне было так легко общаться…
Она помолвлена, и ей не до меня.
…Год пролетел, как не было его,
оставив от меня лишь оболочку.
Врач скажет: нервы, ужин в одиночку…
Живут же как-то люди, ничего.
Мне снится иногда: сирень цветет.
Порою вижу сон такой банальный,
чтобы проснуться в комнате опальной
(почуяв: холод с улицы идет)
и вместо нежных веток голубых
срывать листы календаря сухие,
сворачивать тоски своей стихию
и прятать узы летних снов своих.
Всё так же мерзнет под моим окном
сирени куст, темнеет снег на грядках.
Дымится печь. И требует порядка
и новых светлых стен хозяйский дом.
Мой близкий друг уехал от меня.
И птичка улетела в непогоду.
И буря гнет свое день ото дня.
Лишь я сижу и жду весны прихода.
Владимир Глозман{11}
Притихли все дома во всех кварталах,
таверны спят и танцевальный зал.
Всё смолкло – вплоть до песенки усталой,
что уличный мальчишка напевал.
Машины спят, заводы опустели.
И грезят дети счастьем и весной.
Супруги возвращаются домой,
на шторах пляшут их худые тени.
Автобус, грохоча, ночной асфальт утюжит.
Бродяга на скамье простужено храпит.
И слепо пес чужой вдоль подворотен кружит,
оплакивая тех, кем брошен и забыт.
Как черное рванье, нависла ночь земная.
В своих кроватях те, кто там и должен быть.
Луне самой давно пора глаза закрыть.
Лишь те, кто болен, бодрствуют, стеная.
Так тихо, словно в мире горя нет.
И о борьбе за хлеб дневная песня спета.
– Лишь смерть свое продолжит дело где-то.
Об этом мы узнаем из газет…
Рвется сердце мое на Восток —
На крайнем Западе я.
Ни вкусной едою
Уже не могу наслаждаться,
Ни бремя долгов и забот
Не могу нести я, когда
Потомки Исава в Сионе,
А я в сетях Исмаила.
Ничем уж не манят меня
Щедроты испанского края:
Дороже всего мне – взглянуть
На руины сожженного храма.
Корона всех времен с вершин слетела —
Звезда зари покинула чертог.
Цветы засохли, урожай убог —
Земля лохмотья траура надела.
Померкли небеса, весь мир скорбит;
Сиянья месяц сроком смерти стал,
И стонами его заполонит
Звезда зари, покинув пьедестал.
Звезда зари! Теперь я смерть хвалю
С тобою в паре – и ее люблю:
Чудесна смерть, хоть и тебе не пара,
Твоих достоинств ей не умалить.
А сладостью твоею напоить —
Смерть станет слаще меда и нектара.
Влюбленная красавица-девица
Пришла к врачу, лекарство попросила:
Мол, столько дней душа ее томится,
И днем и ночью давит с новой силой.
Едва девица пред врачом предстала,
Проверил – нет ли у больной горячки.
Тут у него вдруг сердце воспылало,
Проснулись чувства, точно после спячки.
От изумленья онемел мужчина,
Тогда девица вновь заговорила:
«Неужто, врач, болезнь неизлечима?»
А он в ответ: «Не бойся, о девица,
Ты лучше б рану мне теперь зашила.
Не врач я, самому пора лечиться».
Смотри, о земля, какими мы мотами были!
В лоне твоем благодатном мы прятали зерна, не более…
Жемчужинки полбы, тяжелые зерна пшеницы,
Ячмень золотой, чьи колосья пугливей лисицы.
Смотри же, земля, какими мы мотами были:
Цветы – из свежайших, из лучших – мы в землю зарыли,
Лишь солнце их первым своим поцелуем коснулось
(Красу свою прячет бутон, чаша едва распахнулась) —
Зарыли. И полдень не знал их наивной печали,
И вкуса росы их ростки в полусне не узнали.
Бери наших лучших, влюбленных в мечту сыновей:
Сердца их и руки чисты. Но стать им грязью твоей.
Их дни были нитями в ткани чистейших надежд.
И нет им замены. Ты, может, видала? Где?
Укрой их, земля. Да взойдет их росток в срок!
Врата величья и силы, народа священный исток!
Мы тайной их смерти величье себе возвратили…
Смотри, о земля, какими мы мотами были!
В сутолоке дневной
Идет сквозь ревущую улицу
Очень пугливая курица
В городе милом и дальнем.
А где-то поближе к вечеру
Пронесутся два ряда каштанов
В направлении тишины:
Их речи залиты ночью.
Мы с тобою тихо ступаем
По луною шитым коврам,
Уже мы успели скинуть
Лохмотья тяжелого дня.
А когда потаенный возница
На ночь замахнется кнутом,
Мы с тобой налакаемся вдоволь
Белизны промелькнувшего детства.
Белым квадратом зуба
вонзись в мой палец,
чтобы красной залился кровью.
Черным глазом —
о нежной ночи душа! —
проникни в меня:
веселись там, пляши,
как темнеющий лес
в бледной ночи.
Или как черная птица
в темно-синем пространстве.
И едва затрепещет рассвет —
упаду пред тобой на колени
и пред самим собой —
ты впечатана в жизнь мою.
Поколение, умевшее речи толкать,
не успевавшее слушать,
разобралось во всем,
а взлететь не сумело.
Вот оно, пред тобой,
на сей раз – в лохмотьях,
слушающее тишину
внимательно, как никогда прежде.
Как вдруг за ночь одну
ворота распахнулись.
Эй ты, робко ждущий за дверью,
жаждущий слов моих,
как прежде ты искал
того, кто слушать готов.
Ты знаешь, ты видишь,
не я постучался в дверь,
не я тебя звал —
мы сегодня позвали друг друга.
Красивый, древний гимн, который как-то
Осенним вечером пропел ты мне,
Когда трудился дождь в моем окне
И в песнь мою врывался гром бестактно, —
Глубокий звук его – органный звук;
Мотив был легок для запоминанья,
Чужой язык, нездешнее сиянье
И воспаленный, в алых маках, луг.
Стучало его сердце – за дождем,
За каплями измученным окном,
За много миль от темного заката,
В сиянье, где пропал его ответ,
И в тяжести упитанного сада…
Была ли я в той песне – или нет?
Здесь не услышу голоса кукушки,
И дерево не спрячется в снегу,
Но среди этих сосен, на опушке,
Я снова с детством встретиться могу.
Звенят иголки сосен: жили-были…
А я сугробы родиной зову,
И этих льдов густую синеву,
И песен тех слова, слова чужие.
Быть может, только перелетным птицам,
Которых держит в небе взмах крыла,
Известно, как с разлукою мириться.
О сосны! Родилась я вместе с вами,
Два раза вместе с вами я росла —
И в тот, и в этот край вросла корнями.
Небеса умирают. Деревья
Подготовились к смерти.
Кто знает? – Быть может, лишь камню
Суждено пережить нас
И выступить нам в оправдание,
Если его не убьют,
Настилая шоссе к новостройке.
Кто поверит? – у нас было имя,
В Небесах начертанное,
В складках древесной коры
И в сердцах у камней, —
Мы были,
Дышали
И прескверно ругались мы
В городе этом.
Когда ты любишь боль
Шипов, от крови алых,
Я удалюсь в пустыню,
Выучусь страдать;
А если веришь в стих,
Лишь высеченный в скалах,
В ущелье буду жить
И на камнях писать.
Но если там, в песках,
Застанет нас ненастье,
А лучшую из книг
Покроет черный снег,
Скажи мне те слова,
Что лучше слез и счастья:
Он, видимо, любил
Меня – тот человек…
Мы с Иерусалимом —
Что слепой с безногим:
Он глядит вместо меня —
До самого Мертвого моря,
До самого скончания времен.
А я сажаю его на плечи
И вслепую ступаю: всё вниз да вниз.
Не только мечи на орала,
Но даже орала
Перекуем на тромбоны
И на геликоны…
И если кому-то
Неймется сражаться —
Пусть он сначала
Всю эту музыку
Перекует на орала.
Дай мне то, что у дерева есть и чего ему не потерять.
И дай мне способность терять то, что у дерева есть.
Тонкие эти черты. И ветер, чертящий летнею ночью.
И тьму, в которой нет ни чертежа, ни облика.
Дай мне облики те, что были и нет их теперь.
Смелость думать о том, что пропало. Дай мне
Глаз, чтоб осилить то, что он видит. И руку —
Тверже, чем то, что она просит.
Оставь мне наследство так, чтобы мне не досталось
Ничего из того, что соскочит в момент полученья.
Дай мне способность коснуться без страха
Именно этих предметов, из тех, что нельзя получить
В наследство. Дай подступиться.
Старик – как протекает жизнь его?
Встает с утра, не чувствуя утра,
И тащится на кухню. Теплый кран
Ему на руку выплеснет совет:
«А раз уж тебе столько, столько лет…»
Старик – что происходит по утрам?
Проснулся летом. Но от этих ламп —
Вечерний свет, лишь осени под стать…
Поход свой в коридор он завершал
Довольно долго – всё соображал,
За что теперь приняться, что читать.
Старик – да что ты в книгах не видал?
Их быстро пролистают сквозняки
И там, где есть о близости конца
Слова, загнут страницам уголки.
Во всеоружьи он поднимется,
Столь многоопытен, глаза блестят…
Старик, что скрыть глаза твои хотят?
Задумается, давний день войны
Всплывет в нем, жажда схваток и удач,
И риска, приближающего дни
Забвения. Из горла в этот миг
Выходят, как разведчики из рва,
Недолгие раскаты кашля – в них
Звучит рычанье тигров молодых…
Старик – да где же эти тигры, а?
Еще он выйдет в джунгли, как ходил,
Бывало; вдруг на зелень ляжет тень, —
Мальчишка беззаботный, полон сил,
Он выйдет на охоту, будет день.
Старик оставит годы позади,
Как долгое шоссе. В тот буйный час
Машина, задыхаясь, загудит;
В машине – сам он, жмет педали, мчась
За временем, ушедшим навсегда…
Старик, а знаешь, ведь в твои года…
Он дремлет, он боится засыпать.
Глаза прикрыты; каждую звезду
Он спрашивает, правда ли в саду
Раздался шепот: «в эту ночь – конец…»
Старик, что вдруг увидел ты в окне?
Окно открыто, в заоконный дым
Вплывает незнакомец – предлагать
Вновь обратиться тигром молодым.
Всегда лишь брать и ни за что не дать
Тому, что за окном, – не разрешить
Ему в последний вечер рядом быть…
Старик – чего он в этот вечер ждет?
Не царь он —
Не на меч он упадет.
Там узнала я страсть, какой никому не знать;
Это было в субботний день, день седьмой, —
Иглами к небу тянулись кедр и сосна.
На всем был свет: он хотел как ручей взлетать;
И кружок зрачка влюбился в круг золотой.
Так узнала я страсть, какой никому не знать.
И вечно готов был свет на верхушках кустов сиять,
Плавясь в ручье, зажигаясь любой волной;
Апельсин моей головы он глазами хотел глотать.
Золотые кувшинки в ручье распахнули рты, чтоб глотать
Всплески воды и стебельки над водой;
Был субботний день, потому что он был седьмой, —
Вожделенно, иголками к небу тянулись кедр и сосна,
И тогда узнала я страсть, какой никому не знать.
Не знаю я, откуда эти горы пришли ко мне,
Я их и спрашивать не стану.
Уселись в мои светлые кресла,
Салфетки с бахромой к вершинам подвязав.
И так я рада, что они пришли:
Иерусалимские горы или Хребет Нафтали,
И не знаю – издалека ль пришли.
Легкой рукою пирог разрезаю
И крошку за крошкой во рты им бросаю:
Иерусалимским горам или Хребту Нафтали,
Потому что не знаю – откуда они пришли.
О горы! О горы!
На конях вы так долго скакали ко мне…








