Век перевода (2005)
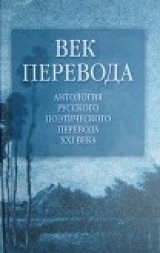
Текст книги "Век перевода (2005)"
Автор книги: Евгений Витковский
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 18 страниц)
Очерчен дождя серебрящейся строчкой,
мой город причесан, умыт и смущен.
Иду я гулять со смеющейся дочкой
и вижу, что мир будто снова рожден.
Витрина в холодном раздумье застыла —
рубеж, за который никто не шагнет,
и шум городской застывает уныло
на этом пороге, прозрачном, как лед.
Металл, что в печи как вода закипает,
кузнец наших дней, раб или божество?
Вот камень, который не плачет, родная,
не видел никто еще слезы его.
Как створки ворот, переулки пред нами,
идем, отраженные в окнах слегка,
и кажется, ночь – как река между днями,
огни городов на ее берегах.
Нам, может, покажет бульвар ненароком
последний свой дом у черты городской,
там небо синеет вдали одиноко
и мальчик играет мячом сам с собой.
Очерчен дождя серебрящейся строчкой,
шуми же, бульвар, голоси, зеленей!
Господь, посмотри: со смеющейся дочкой
по улице главной проходим твоей!
Антон Нестеров {29}
Моя Родина, ты всех стран бедней,
без короны король, королева без дома.
Только раз в году весна на семь дней,
остальное – дожди и громы.
Но семь дней в году на цветах роса,
но семь дней в году окна настежь в сад,
но семь дней в году светятся глаза,
и все оборванцы на солнце стоят,
их бледные лица в улыбке дрожат
и смехом звенят голоса.
Моя Родина, ты всех стран бедней,
королева без дома, король без короны,
только раз в году праздник на семь дней,
остальное – голод и стоны.
Но семь дней в году свечи зажжены,
но семь дней в году столы яств полны,
но семь дней в году так сердца нежны,
и нищие чинно в молитве стоят,
все невесты вокруг, женихи все подряд,
и все оборванцы равны.
Моя жалкая, ты горька и бедна,
без короны король, королева без дома.
Только раз хвала о тебе слышна,
а всегда – клевета и погромы.
Потому в каждый я загляну уголок,
в каждый дом, в каждый сад и на каждый порог.
Я с развалин твоих подберу уголек,
чтоб его сохранить на прощанье,
и по странам и весям пойду без дорог
я с шарманкой на весь мне отпущенный срок
петь твоей нищеты сиянье.
Заклинание для трансмутации металлов
Саиль де Клаустра, Аэлис, Азалаис,
Уходящие дальше и дальше в прозрачность рощи;
Покуда голоса ваши продолжаются в кронах
Райских лиственниц – шелестом,
Саиль де Клаустра, Аэлис, Азалаис,
Раймона, Тиборс, Беренгьера,
В темном мерцанье небес,
Под ночи покровом, разодранным криком павлина,
Принесите шафраном одетую раковину,
Принесите красное золото кленов,
Свет, которым сияют березы по осени
Миральс, Цимбелинс, Аудиарда,
Храните огонь наш.
Элайн, Тиреида, Алкмена,
В серебре, шуршащем спелой пшеницей,
Аградива, Аньес, Арденса,
От озера, чья вода, цвета сливы, застыла покоем,
От расплавленных красок вод
Принесите сожженную суть огня
Брисеида, Линор, Лоиса,
От распахнутых пустошей и олив,
От тополей, плачущих янтарем,
Осыпаясь ночными факелами рыбаков,
Храните огонь наш.
О донна, пламенем солнца, листом
тополиным, светом янтарным,
Госпожа, дочь солнца, стволинка прямая, серебро
листьев, свет желтизны янтаря,
Госпожа, дар Бога, дар света, дар
янтаря, что от солнца,
Дай металлу сиянье.
Аньес из Рошшуара, Арденса, Амелис,
От силы, что гонит траву в рост,
От белизны, что в семени жива,
От весеннего жара почек,
От меди листвы осенней,
От бронзы кленов, от сока ветвей древесных;
Линор, Иоанна, Лоиса,
Шевелением плавников,
Форелью, спящей в воде зеленисто-серой;
Ванна, Мандетта, Виера, Алодетта, Пикарда, Мануэла
От жарко-красного свечения меди,
Изольда, Идона, легкое трепетание листьев,
Вирна, Жослин, отважные духом,
Зеркалом меди сгорающей,
О Кипарисов Царица,
Из Эреба, простершегося внизу,
Дыхания, что колышется ниже нашего мира:
Из Эреба, из плоской пустыни воздушной,
пустыни, что ниже мира,
из бурого, цвета палой листвы, бесцветья
Принесите прохладу нездешнюю.
Элайн, Тиреида, Алкмена,
Закрепите металл!
Пусть маны совлекут личины ужасные, будто одежды, совлекут
тела свои водяные, пройдя сквозь огонь.
Да облекутся они в молочно-белое тело агата.
Да извлекут они из металла костяк его ветхий.
Сельваджа, Гвискарда, Мандетта,
Излейтесь дождем золотым на воду.
Лазурью и хлопьями серебра этой воды,
Алкиона, Фаэтона, Алкмена,
Серебра бледность, тусклый светильник Латоны, —
Сим, от росы злобных происков
Охраняйте алембик.
Элайн, Тиреида, Аллодетта,
Закрепите металл.
Амор,
к смерти меня ведущий,
Госпожа моя, Стволинка Ивовая,
ведущая к свету
(извилист путь через сумрак лесной),
она меня покидает, чтобы открылось
– так расступаются скалы:
пустота и утрата,
а потом вдруг – солнце,
моря сапфир, изумруд травы
– и это белое в синеве небесной
Я пытался написать Рай
Не шевелись
Пусть про Рай
шепчет ветер
Пусть простят меня боги
за свершенное мной
Те кого я любил пусть простят
если смогут
Послушай
как бормочет море
сын мой
То рыба в нас живущая внимает
внимает
протяжному медлительному «Ом»
всех океанов
чтобы вторить
эхом
Рыбьи кости приплыли к нам по волнам, от пролива, где мыс Гаттерас.
И иные знамения были залогом:
Смерть крадется за нами, скользит по воде, крадется
По суше – в роще сосновой
Струенье гадюки, блеснувшей по мху,
Будто сгусток отравы, разлившейся в воздухе.
Рожденье, не смерть – вот горчайшая из потерь.
Я-то знаю: я в тех краях оставила кожу.
Умирающий друг в постели
листает «Парк Юрского периода».
А мне – мне хочется закричать:
«Какого черта!
Ведь ты умираешь!
Тебе бы – читать молитвы,
Тебе…»
– Знаешь, всегда любил динозавриков, —
бормочет он, засыпая,
пальцем зажав страницу.
Дорогая Пенелопа,
здесь вечно дует. Девять лет в палатке на берегу!
Улисс говорит, они знают, что делают.
Ну конечно же. Уже верю.
Девять лет – и чего ради?
Хотя… им девять лет – не срок…
Девять лет – почти вся собачья жизнь!
Я устал. И не спрашивай о богах:
всему есть пределы…
Хотя… Про богов ты знаешь не хуже меня.
О щенках мне известно,
жаль, что сказала не ты…
Сама понимаешь: она поделилась со мной этой вестью.
Ну да это неважно.
Просто… Увези их с Итаки.
Когда ты прочтешь эти строки,
меня уже не будет. Мне осталось… года четыре?
Я уйду туда, где нет людей.
Нет богов.
Разве что… кролики?
Я держу в ладонях
твое лицо как ты удерживаешь
сердце мое своею нежностью
как все вещи в мире держат что-то
еще и обретают в чем-то
поддержку Как море поднимает камень
со дна и к берегу выносит как деревья
держат плоды к приходу осени
как шар земной удержан тяготеньем в мирозданье
Так что-то держит нас обоих и наверх
нас поднимает где тайна на ладони держит тайну
Прислушайся. Мне стал невыносим любой
Из способов мышления. Как маятник над бездной,
Раскачивается мысль в моем сознанье. Всё повторится.
Всё исчезнет – чтобы вновь возникнуть.
Все эти храмы – миражи, не больше. История —
разбитая купель, и если к ней склониться, различишь
на дне ее – страх смерти. Изменчивы, как дым,
мы невесомей света – но принадлежим земле и мраку.
И я учу, отчетливо и ясно, – так учит смерть. Ученье таково:
мы – порожденье космоса. За элементом элемент,
мы – только буквы, знаки языка, часть текста,
что говорит с последней ясностью: смертельной простотой.
И человек – играющий ребенок. Божественная искра,
осколок звездной катастрофы, горит в его груди
– гаснущий огонь вселенной, что стремится к смерти.
На перекрестке всех времен и всех путей, окружены огнями…
Над поверхностью вод проносится ветер – воплощение грез воды,
на ветру трепещет пламя – воплощение грез ветра,
из пламени рождается земля – воплощение грез пламени,
по земле бегут потоки вод – воплощение грез земли.
А пониманье – лишь осколок света, отблеск звезды погибшей.
И когда ты ищешь меру всему, что есть, – блуждаешь в миражах,
что возникают из твоих противоречий, дыханья жизни и дыханья смерти,
из ускользающей мечты… Но есть и вечность.
Вы говорите, я пою хвалу войне? О нет.
Но мне известна горечь мира.
Звездный огонь и молнии удар способны обратить
кусок руды в сиянье стали, блеск клинка.
Деревья на ветру поют. Философ
познает песни смысл. Так боль дает побег.
Охваченная пламенем конюшня, и лошади,
привязанные в стойле: сознанье наше. Осознанье боли.
Я обозрел всё: землю, ветер, воды, —
и вдаль направил взгляд, чтобы увидеть, наконец,
что этот мир, стремящийся порвать иллюзию, —
не более, чем тень: и станет прахом, пеплом от костра,
покуда ждет Неведомого Бога.
всего-то надо было – лишь знак
потому-то и по сей день верю —
есть еще жизнь и надежда:
всплеск тепла
у приоткрытой двери
когда входят в дом
или выходят
встречаем друг друга на улицах
из года в год, – годы плывут над асфальтом
сколько их уже: два? или десять? шелестом вторящих ветру
проплывая в пыли или по-над талым весенним снегом
мы проходим – не мимо
а сквозь, сквозь друг друга
сквозь немоту
этой кристально ясной холодной воды
облака белы
псина – лает, лает
белые тропинки
псина – цветом рыжа
морда – в белых пятнах
псина себе лает
небеса синеют
облака плывут белые по небу
есть и посерее, есть – черны, как тучи
а тропинки белы
Божий дар
не высветлит сердце,
– только облик твой – так истончится,
что проглядывать станет кусок плоти,
тот, который – будто в лихорадке
бьется, и нет ему покоя.
А по берегу
гуляет ветер,
ветер сильный,
что сердца смягчает,
и глаза от ветра – слезятся.
Александра Петрова{30}
Когда-то ты скользила
по волне… Куда – не вспомнить…
Память волн осталась.
Брошенная лодка
на незнакомом берегу.
Час ночной покоя
для странников:
деревья замерли
и камни – в ожиданье.
[Послание королю]
О Господи, пошли мне сил!
Мне белый свет уже не мил,
Извелся я от злых страданий,
Любовь и радость позабыл:
Терзает боль в пустом кармане.
Стихи начну ли сочинять —
Не знаю даже, как начать,
Нет слов, и голова в тумане,
И падает из рук тетрадь.
Ох, как свербит в пустом кармане!
Бывало, я плясал и пел
И веселился как хотел,
Не знал тоски и воздыханий.
А ныне слезы мой удел
От страшной пустоты в кармане.
Тот, у кого набит карман,
С утра пораньше сыт и пьян.
А я бегу таких компаний —
Я, мол, пощусь, – каков обман!
Ох, горюшко в пустом кармане!
Что за карманы у меня!
В них деньги не живут и дня —
Бегут, как черти от литаний.
Мелькнут, укатятся, звеня, —
И снова пустота в кармане.
Я размышляю день и ночь:
Какой бы лекарь мог помочь,
Где капель взять и растираний,
Чтоб эту немочь превозмочь,
Засевшую в пустом кармане?
Вы, государь, тот врач благой,
Кому недуг поддастся мой,
У вас в руках предмет желаний —
Лекарство от болезни злой,
От пустоты в моем кармане.
[Жалоба королеве на хранителя ее гардероба Джеймса Дога, который, вопреки королевскому распоряжению, отказался выдать Данбару камзол]
Пожалованный получить камзол,
Пришел я смиренно, не чуя зол,
Но Дога уговорить не смог.
Презлющая псина этот Дог!
Не видеть Вашего мне даянья —
Свирепый страж хранит одеянья,
Он не пустил меня на порог.
Презлющая псина этот Дог!
При мне приказ был и Ваша печать, —
Он же лаять давай и рычать.
Пустился я в бегство, не чуя ног.
Презлющая псина этот Дог!
Еще бы немного, и мне пропасть —
На меня, как на зайца, оскалил он пасть.
Как волкодав, силен и жесток,
Презлющая псина этот Дог!
От кого б гардероб Ваш он не устерег?
И султан турецкий, и Гог-Магог
От него побежали бы наутек —
Презлющая псина этот Дог!
Зачем же страшилище это в чести?
Не лучше ль болонку Вам завести?
Свирепость такая – большой порок.
Презлющая псина этот Дог!
[На того же Джеймса Дога, когда он угодил Данбару]
Вас, государыня, молю
За друга, коего люблю,
Кто ваши платья чистит щеткой.
Наш Дог не дог, он агнец кроткий.
Коль я в стихах его задел,
Обидеть, право, не хотел —
Так, пошутил прямой наводкой.
Какой он дог, он агнец кроткий!
В порядке Ваши сундуки,
Подать, принять ему с руки,
Поздравлю Вас с такой находкой.
Не дог он вовсе, агнец кроткий.
Всегда покорен он жене,
Себя позволив по спине
Лупить сапожною колодкой.
Какой он дог, он агнец кроткий!
Ему супруга дорога,
Он носит с гордостью рога.
(А я б такую бабу – плеткой!)
Не дог он вовсе, агнец кроткий.
Пусть небеса его хранят,
Пусть принцы милостью дарят,
Пусть мир пребудет с ним, сироткой.
Ведь он не дог, он агнец кроткий.
Не Аллан ли из гроба встал —
Поэт, что некогда блистал,
Что среди нашего взрастал
Чертополоха?
Нет, это Роберт засвистал,
И ведь неплохо!
По нраву мне, приятель, твой
Напев веселый и живой!
Тебе дан норов боевой
И дар поэта, —
Сам англичашка чумовой
Признает это.
В Эдине был я, когда там
Шел несусветный тарарам:
Монарха полагалось нам
Справлять рожденье.
Был прав ты, сей воспев бедлам
Без снисхожденья.
Пусть наша Скоттия сполна
Тебе даст всё, что дать вольна,
Всё, что в полях растит она,
Пусть будет в миске!
(Поэту ведь еда нужна
И вдоволь виски.)
Но ты, небось, не ставишь в грош
Земные блага, и негож
Тебе мой тост – ведь ты поешь
В мечтах о славе.
Ты лавров требуешь и ждешь?
В своем ты праве.
Ведь песнь твоя всегда звонка,
Легка задорная строка,
От отрока до старика
Всегда и все мы
Твердим, сойдясь у камелька,
Твои поэмы.
Когда придется мне опять
Зимой в Эдине побывать,
Мы станем пить да наливать
С тобою вместе
И свежих устриц поедать —
Всё честь по чести!
А коль тебя, наоборот,
Судьба в наш Бервик занесет,
Поэта берег Твида ждет,
А также рыбка —
Лосось наш, коего народ
Здесь любит шибко.
А как пойдут с парнями в пляс
Девчонки наши напоказ,
Ты оторвать не сможешь глаз
От милых лиц их —
Таких красоток, как у нас
Нет и в столицах!
Как станут юбками мести,
Грудями белыми трясти,
Ногами кренделя плести,
Вертясь с поклоном!
Чепцы вот только, уж прости, —
На страх воронам.
Я сам стихов не шлю в печать,
Хотя не прочь бы и начать,
Тебе ж никак нельзя молчать, —
Моя бы воля,
Я день и ночь готов ворчать:
Пиши поболе!
А я не крикну Музе: «стой!»,
Неприхотливый, холостой,
Не жажду роскоши пустой —
Ведь я не барин.
Поэт в душе я, но простой
Шотландский парень.
Король наш Джеймс Пятый любил гулять переодетый,
И однажды вышел неприятный сурприз через это.
У Креймондского моста на него напали цыгане в количестве пяти штук,
И королю пришлось отбиваться, не выпуская меча из рук.
А поблизости случилось быть одному бедняку,
Который молотил зерно на току,
И, увидев, что пятеро на одного напали,
Он бросился на них, размахивая цепом, и цыгане в страхе бежали.
И он сказал королю: «Ну как, целы, ваша милость?
У вас лицо в крови, надо, чтоб вы умылись.
Эти цыгане – сущие отщепенцы.
Пошли в сарай, я вам солью и дам полотенце».
Король, видя, что это человек порядочный и не плут,
Умылся и сказал: «Любезный, как тебя зовут?»
И тот ответил: «Сударь, Джон Ховисон мое имя,
Я работник на Брейхедской ферме, кормлюсь трудами своими».
«Проводи-ка меня до Эдинбурга, нашей столицы,
Ибо я хорошим самочувствием не могу похвалиться.
А если у тебя есть какое желание,
Исполнить его я даю обещание».
Джон сказал: «Я желаю, любезный гость,
Получить Брейхедскую ферму в собственность.
Но поведайте мне, кто вы такой будете и отколь?»
«Я хозяин Баллингифа, – ответил король. —
Явись во дворец в ближайшее воскресенье.
Чтоб за свой благородный поступок получить награжденье.
И не сумневайся, я сдержу уговор,
А ты заодно повидаешь королевский двор».
В воскресенье Джон нарядился как мог,
Явился в столицу на дворцовый порог
И спросил хозяина Баллингифа, на что его сразу
Допустили войти согласно приказу.
И тут Джона радость охватила всего,
Когда он увидел своего знакомого,
А тот взял его под руку и повел по покоям богатым,
Как будто Джон был его родным братом.
«А хочешь, – король говорит, – увидеть короля Иакова?»
«Как не хотеть, да ведь много народу всякого
Расхаживает тут во дворце,
А кто из них король, не написано на лице».
«Узнать короля, – сказал король, – ни один простак не преминет,
Потому как все обнажат головы, а король своей шляпы не снимет».
И он привел Джона в парадную залу,
Где толпились всякие герцоги, бароны и адмиралы.
Джон в смущении по сторонам озирался,
Потому что увидеть короля и хотел, и боялся,
И вдруг заметил, что все сняли шляпы, и только его спутник не обнажил головы,
И радостно закричал: «Ой, так это же вы!»
А король сказал: «Джон, Брейхедская ферма – твоя,
С уговором, что ежели еще когда забреду туда я,
Ты снова подашь мне умыться, как встарь».
И Джон ответил: «С превеликой радостью, государь».
Один человек скакал верхом, по своим делам поспешая,
А следом бежала его собачка Фиделька небольшая.
Он обращался к ней с ласковым словом время от времени,
А она то отставала, то держалась у стремени.
Ровной рысью бежала его добрая кобыла,
А стояла жара, потому как дело летом было.
Дорога была длинна, и часы за часами бежали,
И вот наконец все трое ужасно устали.
Лошадь стала спотыкаться и вся вспотела,
И Фиделька выбилась из сил и отдохнуть захотела.
Она легла на землю и жалобно заскулила,
И хозяину пришлось остановиться, хоть его это злило.
Он спешился и привязал лошадь к дереву,
И она стала спокойно щипать траву,
А хозяин мешок с золотом от седла отвязал,
Положил на землю и Фидельке сторожить приказал.
Сам же он улегся, укрывшись плащом,
И вскорости захрапел, не думая ни о чем,
А собачка прикорнула рядышком скромно,
И ее охватила дремота из-за усталости огромной.
Но заснуть как следует не удавалось ей долго,
Ибо она не забывала своего долга
И временами вскакивала и бегала с громким лаем
Вокруг мешка с золотом, что ею был охраняем.
Время шло, а хозяин и не думал просыпаться,
И Фиделька стала беспокоиться и волноваться,
И стала, повизгивая, лизать хозяину нос и щеки его,
Чтобы он пробудился от сна глубокого,
Потому что верная собачка, чье сердце не знало фальши,
Понимала, что им пора ехать дальше.
Наконец она громко залаяла от волнения,
И хозяин проснулся в беспокойстве и огорчении.
Он заторопился и вскочил на кобылу
Погоняя ее вперед что есть силы,
Но Фиделька, несмотря на его крики и повелительные жесты,
Нипочем не хотела уходить с этого места.
Она тревожно лаяла и металась,
То догоняла лошадь, то назад возвращалась,
И хозяин ужасно рассердился
И решил, что разум у собаки помутился.
Фиделька пребывала в большой тревоге,
А хозяин поскакал вперед по дороге,
И собака его с трудом догнала,
Когда он остановился у ручья, чтобы лошадь воды попила.
Фиделька звонко лаяла, а хозяин думал: ну и дела!
Похоже, собачонка полностью спятила. —
И тут она помчалась назад, непонятной силой влекома,
А он окончательно решил, что у нее не все дома.
Он выхватил пистолет, и окрестность шумом выстрела огласилась,
Бедная собака бездыханной на землю свалилась,
А хозяин, лишась настроения беззаботного,
Поскакал дальше, печалясь о потере полезного животного.
Но отъехав недалеко, он внезапно остановился,
Потому что вдруг мешка с золотом хватился,
Каковой мешок неизвестно куда девался,
То ли упал по дороге, то ли на месте привала остался.
И он погнал лошадь назад в бешеной скачке,
Тяжко вздыхая об участи бедной собачки,
И, глядя на краснеющие на земле кровавые пятна,
Горевал о потере своей невозвратной.
И раскаянье впилось ему в сердце тысячью жал,
Когда он увидел, что мешок с золотом лежит где лежал,
А рядом простерт бездыханный собачий труп,
И понял хозяин, как его злой поступок был глуп.
И он приторочил мешок к седлу и поехал, торопясь к сроку,
Оплакивая Фидельку, чью жизнь оборвал так жестоко.
А эта печальная история нам наука,
Ибо всем надо исполнять свой долг, как эта благородная сука.
Любезный друг! – конечно, надо
Для вас рондо иль хоть балладу
Состряпать бы, но на сей раз
Мне образцом стал «гудибрас».
И впрямь – к чему нам выкрутасы?
Писал размером «гудибраса»
Джон Гей покойный – значит, мне
Годится тоже он вполне.
А вы, я знаю, влюблены
В тот век – и памяти верны
Его роскошества и блеска,
Безумств, дурачества, бурлеска,
Дуэлей, париков, памфлетов,
Педантов и плохих поэтов,
Фарфора «челси», паланкинов,
Азартных игр и кринолинов.
В те дни писатели, как овцы,
Ножу издателя-торговца —
Ох, эти Тонсоны и Кёрллы! —
Смиренно подставляли горло;
Дик Сэвидж, нагрузясь в пивной
Дремать шел, как к себе домой,
Под ковент-гарденские своды
В компании шального сброда;
А даму модную, бывало,
Не раз Аврора заставала
За ломбером иль фараоном, —
Супруг же, шляясь по притонам,
Налившись до краев кларетом,
Домой являлся лишь с рассветом,
Чтоб праведным забыться сном, —
Вот образцовый светский дом!
Но сколько вкуса в их нарядах!
Как весело на маскарадах!
Как полон театральный зал!
Великий Гаррик там блистал —
Сегодня он преступный Ричард,
А завтра в паре с миссис Притчард
Макбета нам изобразит,
И желчный Сэмми Фут сострит,
А Чарли Черчилль восхитится…
Но полно! Иль длиной сравниться
Придется повести моей
С известным списком кораблей.
Вот книга вам. Ее герой
Нарисовал сей век шальной —
Кутил, и щеголей, и дам,
Тюрьму, театр, балет, Бедлам,
И проповедников, и слуг,
Развратников и потаскух,
Повес, бездельников, банкротов,
И юных дев, и тощих скоттов,
И выборы, и модный брак,
Судейских, шарлатанов, скряг,
Ханжей напыщенных и своден,
Старух, красавиц и уродин…
Как в зеркале нам показал
Свой век сей новый Ювенал.
Но жаль: герою, как назло,
С биографом не повезло.






