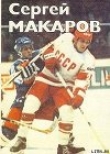Текст книги "Там, где была тишина"
Автор книги: Евгений Кривенко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 13 страниц)
– Сколько нужно денег для расчета?
– Двадцать восемь тысяч, – без запинки выпалил Буженинов. – Прикажите подать ведомости?
– Не нужно. – Ткачев расстегнул портфель и принялся писать какую-то бумажку.
– Сейчас же заготовьте чеки. Завтра все получат расчет. Есть люди, которые хотят остаться на стройке?
Наталью поразило, что Ткачев не принял никаких мер, чтобы задержать рабочих. Он торопился р а с с ч и т а т ь их. Что бы это значило?
– Бригада Солдатенкова, – ответила она. – Бригада обязалась работать до конца стройки.
Ткачев ничего не сказал и внимательно посмотрел на рабочих.
Во двор конторы въехала грузовая машина. Ткачев поднялся.
– Где завхоз?
– Слушаюсь, товарищ начальник, – руки по швам, замер перед ним Борисенко, старательно выпячивая глаза.
– Принимайте продукты. Здесь рис, баранина. Должно хватить для ужина и завтрака. Пусть товарищи хоть напоследок поедят местное блюдо – туркестанский пилав.
– Для ужина и завтрака? – снова удивилась Наталья.
Что это он задумал? Но спросить не решалась.
Ткачев направился в контору. Войдя, он тихонько присел возле закутанного с головой, трясущегося Макарова.
Иван Петрович, врач с заставы, встал при его появлении и кивнул на больного.
– Климат ему нужно менять. Иначе труба.
– Переменит, – успокоительно произнес Ткачев. – Давно это с ним?
– Вторая неделя. Совсем измучился.
Макаров сбросил с головы одеяло.
– О, – вскрикнул он, – Федор Николаевич!
И его радость была так непосредственна, что Ткачев отвернулся, чтобы скрыть смущение.
– Намучился, небось? – осторожно спросил он у Макарова.
– Было по-всякому, – тихо ответил тот.
– Ну вот, теперь отдохнешь. Я привез приказ о консервации строительства.
ГАЗЕТНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ
– Лучше бы вы меня убили, Федор Николаевич. Вот так: поставили к стенке и шлепнули, – после минутной паузы произнес Макаров. Покосившись на поставленную перед ним тарелку с двумя чуреками и бутылку молока, попросил:
– Утвердите наш вариант, Федор Николаевич, и к весне будет дорога. Мы уже проделали главную работу, подвели полотно к предгорьям и разобрали завал на пятидесятом пикете.
«Ах, черт! – тут же вспомнил он. – Эта проклятая гора снова обрушилась на пятидесятый пикет. Как же я забыл об этом?»
– Дорогой мой, – мягко сказал Ткачев. – Приказ есть приказ. Эти деньги нужны в другом месте.
– А здесь не нужны?
– И здесь нужны, – уклончиво ответил Ткачев. – И вообще, Макаров, ты плохо осведомлен о наших делах. Есть умники, которые уверяют, что постройка здесь большого комбината не оправдает себя. Вот они-то и мутят воду.
Макаров сразу же вспомнил длинное холеное лицо Сафьянова, его узкие, презрительно сжатые губы.
– Я знаю этих умников. Пришлось увидеть.
– Тем лучше…
– Федор Николаевич, – взмолился Макаров. – Здесь же крупнейшее в стране месторождение серы. Слышите, крупнейшее! И одно из крупнейших в мире! Как же здесь обойтись без дороги? Пожалейте нас, Федор Николаевич!
Ткачев задумался.
– А ну-ка, дай проект.
Он развернул лист и склонился над ним. В комнате все затихли, боясь шевельнуться.
– Тэк-с, тэк-с, – бормотал Ткачев, поглядывая на поперечники. – Этот кусочек прошли. Пикет пятидесятый, в легенде значится завал. Но ты говоришь, завал разобран? Очень хорошо.
Макаров открыл было рот, чтобы сказать правду, но кто-то сильно толкнул его в бедро. Это был Солдатенков. Макаров промолчал.
– Дальше идут выемки и насыпи с незначительными отметками, – продолжал Ткачев. – Тоже очень хорошо. А здесь что на девяносто пятом. Ого, скальные работы.
– Взорвем, – кратко сказал Солдатенков, щуря глаза.
Ткачев быстро взглянул на него и снова припал к бумаге.
– Дальше до сто четвертого чисто. Так, здесь небольшая труба. Монокль?
– Так точно, – ответил Солдатенков.
– Дальше снова гладенько до двухсотого. Опять труба?
– Труба, Федор Николаевич, – откликнулся Макаров.
– Ой, вылетим мы в трубу с твоими трубами, – пошутил Ткачев, и все повеселели. – Дальше от трехсотого серпантинки – одна, вторая третья. Ну, это чепуха. И здесь последнее препятствие: небольшая насыпь и подпорная стенка. – Он в упор посмотрел на Макарова. – Сколько ты просишь?
Макаров задумался. Сметная стоимость дороги по старому варианту была равна трем миллионам. Федоров истратил двести тысяч, он – около ста.
– Дайте еще сто тысяч, и дорога будет готова.
– Любую половину, – сощурился Ткачев.
Макаров в изумлении уставился на него.
– Что это значит?
– Это значит, любую половину из ста. Или первые пятьдесят, или последние пятьдесят. Понял?
Лицо Ткачева было серьезно. Он не шутил.
– Хорошо, – поспешил согласиться Макаров.
– Не совсем, – уклонился Ткачев. – Окончательно решим завтра. На бумаге одно, а на местности другое. Я утром поеду по трассе, и тогда решим. Вот так. Меня за эти пятьдесят тысяч тоже по головке не погладят. Это я ведь беру на себя, на свой риск.
Лицо Макарова вытянулось. Он растерянно взглянул на Солдатенкова. Тот незаметно подмигнул ему.
…Макарова утомил напряженный разговор. Он опустил голову на подушку и вскоре уснул.
Когда он проснулся, было уже утро.
«Проспал, проспал, – мучительно терзала его одна и та же мысль. – Ткачев поедет по трассе и увидит, что я солгал. Что же делать? Что? Эх, будь, что будет. Скажу ему тогда всю правду. А может, и обойдется еще…»
Он потянулся было к бутылке с молоком, стоявшей перед ним, но сейчас же отдернул руку.
– Кто там есть? – негромко позвал он, услышав какой-то шелест за перегородкой.
– Это я, Виктор Александрович, – отозвался Буженинов. – Что вы хотели?
– Вот это молоко, – просительно заговорил Макаров, глядя на заспанное лицо счетовода, – хорошо бы Ченцовой отнести, для Павлуши. Как вы на это смотрите, товарищ Буженинов?
Бухгалтер удивился.
– Да ведь Ченцов уехал.
– Как уехал?
– Уехал со своей бригадой. Почти все рассчитались и уехали. Осталась, как бы знаете, бригада Солдатенкова, да вот еще заявление на ваше имя.
Макаров взял из рук Буженинова небольшой листок бумаги и прочел:
«Начальнику «Дорстроя». Мы, нижеподписавшиеся, рядовые бойцы первой пятилетки, объявляем себя мобилизованными до конца постройки дороги. Мы, люди разных национальностей, объединились в интернациональную бригаду имени Коминтерна. Просим направить нас на самый трудный участок. Подписи: Курбандурды – бригадир, Гельдыев – землекоп, Гао Мин – землекоп, Хатин – землекоп, Хатибулин – землекоп, Ярославцев – землекоп, Приходько – землекоп».
Макаров читает, строчки расползаются у него перед глазами.
– Где они? – спрашивает он, отворачивая голову.
– Все на дороге, – отвечает Буженинов. – А во дворе вас ждет товарищ Ткачев. Приказал не будить. Подождать, пока не проснетесь сами.
…Машина мчится по такиру, рядом с насыпью. Такир, когда сухо, идеальная дорога, и шофер летит с ветерком. Но вот и предгорья.
Машина едет по новой трассе. Дорога расчищена от камней и спланирована. Это то, что Макаров назвал проездом.
Второй, третий четвертый километр. Сейчас за поворотом будет завал.
Шофер старательно крутит баранку, машина плавно разворачивается и выезжает на пятидесятый пикет.
Сердце у Макарова замирает. И вдруг он широко открывает глаза.
Завала нет! Дорога расчищена!
Машина останавливается. Макаров спрыгивает на дорогу и осматривается.
Нет, это действительно так. На протяжении ста метров, всего пикета, дорога расчищена, освобождена от камней. «А может быть, завала-то и не было?» – мелькает у него мысль. Но он замечает, что проезд стал значительно уже и что завал теперь разобран не так тщательно, как тогда, в первый раз.
Наконец он замечает своих людей. Они сидят внизу на камнях, неподвижные, согнув плечи и опустив головы.
Макаров сбегает вниз по каменной осыпи, подбегает к Солдатенкову, сидящему на камне в темной от пота рваной рубахе, что-то хочет спросить у него, но молчит.
Молчит и Солдатенков. Просто он не может говорить. Грудь его тяжело подымается, лицо сведено болезненной судорогой.
Макаров прижимает его к себе и хрипло говорит:
– Спасибо, друг!
Взгляд его останавливается на Нине. И она здесь? А кто же сидит рядом с ней? Это Маруся. Милые, славные девчата, нет вам цены, дорогие…
Раздается сиплый гудок машины. Ткачев торопится. Подойдя к машине, Макаров замечает пристальный, внимательный взгляд начальника. Неужели догадался?
– Поехали дальше, – говорит Ткачев. – Придется отвалить тебе пятьдесят тысяч, душегубец!
Машина, пройдя всю трассу, останавливается у буровой вышки на первом участке серного месторождения.
Мирченко приветливо машет рукой. Макаров здоровается с ним, представляет его Ткачеву.
– А мы уже знакомы, – смеется геолог, – в Каракумах встречались.
– Только ли в Каракумах?
– И на Гаудане, и в Кара-Кала, В общем, старые знакомые.
– Что хорошего? – спрашивает Ткачев.
Геолог держит в руках очередной керн, добытый из глубины.
– Вот прошли красноцветную неокамскую толщу, – докладывает он. – Пошла сера. Это титон. А там ниже, за лузитанским ярусом, может быть и уголек. Хорошо?
– Просто здорово, – присаживается на корточки Ткачев. – Значит, шахты пойдут?
– Шахты. Здесь будет большой город, Федор Николаевич.
– Ну вот, – лукаво улыбается Ткачев, обращаясь к Макарову. – А ты говоришь, консервировать!
…Сумерки. Горы, окутанные фиолетовым туманом, отодвигаются все дальше и дальше. Скоро их поглощает густая мгла. Подул ветер. От тугаев потянуло прохладой, запахом воды и камышей. Они уже пожелтели, побурели. Ветер колышет их распустившиеся сиреневые метелки.
Взошла молоденькая, только что родившаяся луна. Она озарила своим золотистым и, как всегда, немного таинственным светом узкие улочки аула, приземистые силуэты усадеб, с возвышающимися над стенами башенками и куполами – куммезами и оммарами.
В конторе «Дорстроя» горит свет. Все помещение освобождено и предоставлено под жилье Федору Николаевичу. Он сидит сейчас за столом, какой-то особенно домашний, в белой нижней рубахе и домашних туфлях.
Ткачев прихлебывает из пиалы горячий кок-чай. Перед ним лежит чурек, нарезанный узкими полосками, и неизменная брынза. Недопитая бутылка хинной водки и пузатая рюмка стоят в стороне. На табуретке раскрытый чемодан. Завтра Федор Николаевич собирается вылететь в Ашхабад.
Тоушан сидит на кровати, опустив голову.
– Где же она может быть? – глухо спрашивает Ткачев. – Что тебе сказали?
– Дурдыев встретил меня на пороге, разговаривал, как с чужой, не поднимая глаз. Сказал, что Дурсун с ним разругалась и уехала в Керки, учиться. А я не верю. Не верю! С ней что-то случилось.
– Ну зачем волноваться? – Ткачев бережно погладил ее по голове. – Может быть, действительно она в Керки?
Тоушан взглянула на Ткачева пронзительными, гневными глазами. Ее смуглое, продолговатое лицо исказилось гримасой гнева.
– Я их всех здесь переворошу, – с силой произнесла она. – Ты бы посмотрел на этих феодалов!
Ткачев тяжело вздохнул и снова сел к столу.
– Ты серьезно решила остаться здесь? – спросил он, не поднимая головы. В его голосе послышалась боль.
– Я не могу иначе, – тихо проговорила она. – Я нужна здесь, Федя. Нужна.
Ткачев еще ниже опустил свою бритую круглую голову.
– А как же я? – чуть слышно спросил он.
Тоушан тихо встала и, подойдя к нему, обняла его за шею.
– Все уладится, милый. Все будет хорошо. Это же не навеки.
Ткачев обнял ее, прижал к груди, крепко поцеловал.
Послышался осторожный стук в дверь. Ткачев неохотно отпустил Тоушан.
В комнату нерешительно входит Макаров, останавливается у порога.
– Можно к вам, Федор Николаевич?
– Ты уже вошел, а спрашиваешь – можно ли? – грубовато отвечает Ткачев. – Черт вас знает, и поговорить не дадите. Что у тебя такое?
– Вот что, Федор Николаевич – озабоченно произносит Макаров. – Нам ведь взрывчатка нужна. Без вас пограничники не дадут. Я уже просил у начальника заставы.
– У Сабо, что ли?
– У него. Давай, говорит, бумажку от начальства. Я же вам писал по этому поводу.
Ткачев недовольно морщится. Тоушан, ни слова не говоря, подает ему гимнастерку, пояс. Он начинает одеваться.
– Ну, как, спокойно на дороге? – спрашивает он, застегивая пояс.
– Как будто бы спокойно, – отвечает Макаров, следя за Ткачевым. Ему не хочется рассказывать о всяких слухах, распространяемых среди рабочих. Мало ли что болтают?
– А что это у тебя за счетовод, Макаров? – как бы невзначай спрашивает Ткачев, натягивая сапоги.
– Счетовод, – так же небрежно отвечает Макаров. – Фамилия – Буженинов. Может, знаком?
– Может, и знаком, – неопределенно откликается Ткачев. – Видел я одного очень похожего субчика. Постой! Ты, может, рюмочку выпьешь с мороза, как у нас на Урале говорят, а?
– Нет, спасибо, – отказывается тот. – Как бы нам на заставу не опоздать, Федор Николаевич.
– Подгоняешь? – исподлобья глядит на него Ткачев. – Думаешь, начнет теперь волынку тянуть, про старые дела рассказывать? Ох, не хотите вы, молодежь, о старых делах слушать. А без них не было бы и новых… Нет, ты все-таки выслушай. Это еще в двадцать седьмом году было в Ленинграде. Тебе тогда сколько было?
– Пятнадцать, – неохотно ответил Макаров.
– Голубей гонял, небось?
– Были и голуби…
– Ну вот. А мы тогда только-только к большим начинаниям приступили. Турксиб начали, Днепровскую электростанцию. Ну, вот враги на нас и обозлились. Ты ведь помнишь, наверное? Тут тебе и «Аркос», и Войков. И бомбы полетели в наш партийный клуб в Ленинграде. Вот оно, гляди. – Ткачев закатил рукав и показал розовый шрам, похожий на кленовый лист. – Осколок угодил. И троцкисты, в свою очередь, распалились. Программку ты их, конечно, знаешь? – вопросительно поднял брови Ткачев.
Макаров неопределенно хмыкнул.
– Программка подлейшая. Мол, все вы быдло и лапотники, Россию вам не поднять, а давайте обращайтесь за помощью к варягу-капиталисту, сдавайте иностранцам в концессию заводы и фабрики, и будет тогда полный порядок. Началась с ними драка. Повадились они к нам на Путиловский. А я там в партийном комитете был. И вот, как сейчас помню, перед праздником Октября один такой хлюст пришел прямо в цех и давай распинаться. «Выходите, мол, с нами на демонстрацию, голосуйте за нашу платформу» – и все в таком роде. А я знаешь, человек горячий. Слушал его, слушал, а потом подошел, взял за шиворот, да как поддал коленом! Сажени две он, наверное, пролетел. И встать потом не смог. На носилках унесли. – Ткачев даже покраснел, как бы переживая этот эпизод.
– А на второй день меня кто-то вечерком по башке огрел. Еле выжил. Вот какие дела были. И показалось мне, что этот твой счетоводишка на того оратора-стрекулиста похож. Очки, бороденка.
– Что вы, – усомнился Макаров, – он ведь совсем смирный человек. Впрочем, я поинтересуюсь.
– А я говорю это тебе к тому, – поднялся Ткачев, – чтобы напомнить, что вся эта гадость оседает здесь, вредит и пакостит изо всех сил. Многие из них собираются в этих местах переходить границу. В общем нужно быть на чеку. Запомни это, Макаров!..
Слушая Ткачева, Макаров незаметно пробежал глазами «Туркменскую искру», привезенную Ткачевым и лежавшую сейчас на столе вместо скатерти.
Вдруг он побледнел и, словно забыв обо всем, сдвинул с газеты стоявшие на ней тарелки, поднес к глазам. В газете, в конце номера мелким шрифтом было помещено объявление о гастролях в Ашхабаде московской певицы Юлии Тумановой.
– Что это ты? – недоуменно спрашивает Ткачев.
Макаров поднимает на него ошалелые, ничего не понимающие глаза.
– А? Нет, ничего. Пошли, – торопливо вскакивает он…
На дворе темно. Немного отойдя от конторы, Ткачев останавливается и доверчиво берет Макарова за руку.
– А Тоушан здесь остается, – словно жалуясь, произносит он. – Башлыком, председателем в колхозе будет. Вот какие дела, Виктор.
– Федор Николаевич, – перебивает его Макаров. – Разрешите мне с вами в Ашхабад поехать. Только на один день! Федор Николаевич!
Ткачев молчит. Ветер шумит в ветвях тутовника. Луна чуть выглядывает из-за набежавшей тучки, как шалунья-девочка из-за дерева.
– Федор Николаевич!
– Нет, Макаров! – твердо отвечает Ткачев. – Уезжать тебе сейчас отсюда нельзя. Обстановка здесь нехорошая. Пусть подождет твоя певица. Если любит – подождет.
ОЛОВЯННЫЙ СОЛДАТИК
Раннее, раннее утро. Быстро гаснут, вернее, растворяются в бледной лазури неба уставшие мигать звезды.
Ослы громким криком возвещают начало нового дня.
Макаров торопливо пробирается по узкой тропке по направлению к станции. Серые дувалы, серый камыш. Медленно взлетающая серая пыль.
Макаров невольно вспоминает Украину, берега родной Ворсклы, огороды с красавцами-подсолнухами, полосатые арбузы и золотистые дыни с глубокими медовыми трещинами.
Он ясно видит тенистые балки, поросшие зеленым спорышом, над которыми возвышается царственный коровяк – ученые, кажется, так и зовут это величественное растение: «царственный скипетр».
Эх, до чего же хорошо на Украине.
Но мысли его возвращаются к Юлии. Всю ночь он думал только о ней, только о ней.
Он должен увидеть ее матово-бледное лицо с пунцовыми губами, услышать ее голос, прижать ее к своему сердцу. Разве может он усидеть здесь, когда она совсем недалеко от него – рукой подать!
Он вспоминает свой сон. Она приснилась ему среди гор. Ну вот, значит, сон был в руку.
Незаметно подходит он к станции. Скоро должен быть пассажирский. Невольно скрываясь от посторонних взоров, Макаров заходит в помещение. Там прохладно и пусто.
Нет, кто-то притаился на скамье в глубине зала ожидания. Постой, постой, это же боевые подружки Люся и Дуся.
– А вы здесь что делаете, девчата?
Они стоят перед ним, как школьницы.
– Куда это вы собрались?
– До дому! – смело и грубо отвечает Дуся. – Хватит, уже наработались!
– Ты что? – удивленно смотрит на нее Макаров. – Что случилось?
На широком лице Дуси смущение. Она теребит в руках небольшой узелок, что-то рассматривает на носках своих порыжевших мужских ботинок. Рубаха на ней тоже мужская, широкая. И даже кепка на голове.
Люся – другое дело. Стираная и штопаная блузочка аккуратно выглажена. На ногах – туфли, из-под манжета блузки выглядывает край беленького платочка.
– Страшно стало, вот и ушли, – вполголоса произносит Люся. – Ну вас к аллаху, с вашей дорогой!
– Вы же комсомолки! – возмущается Макаров. – Передовой отряд! И каких-то слухов испугались! Не хотите в горах работать, переходите сюда, в поселок. Кто же вас так напугал?
Подружки молчат.
– Ну как, вернетесь? – спрашивает Макаров.
В это время в помещение вокзала вбегает запыхавшийся Симка. У Макарова отлегает от сердца.
«Теперь будет порядок. Как же – двух таких работниц потерять!»
Симка, как коршун, налетает на девчат. Макаров знает: он любит Дусю. Но сейчас Симка все свои усилия обращает на ее тоненькую подружку. Знает – куда Люся, туда и Дуся. Как нитка за иглой.
На перроне раздается глухой удар колокола. Макаров торопливо прощается с Симкой и девушками.
– Надолго? – спрашивает Симка.
– Нет, что ты, – на бегу отвечает Макаров. – Туда и обратно. Кое-что утрясти надо.
Симка улыбается. Что же утрясать, если вчера здесь сам начальник дорожного управления побывал. Чудак этот Макаров!
Когда Макаров уже поднимался по ступенькам в вагон, дежурный по станции ткнул ему в руки какой-то конверт.
– Вот принес кто-то на станцию, – торопливо произнес он. – Мальчишка какой-то.
В толчее Макаров взглянул на надпись: «Начальнику «Дорстроя».
«Директива какая-то», – усмехнулся он. Сунул конверт в полевую сумку и забрался на верхнюю полку.
Как только он остался наедине с самим собой, волшебные грезы окружили его…
…Как билось у него сердце, когда он подходил к зданию кинотеатра, в котором должна была выступать Туманова. Он постоял перед афишей, чувствуя, как ноги наливаются сладостной тяжестью. Он хотел представить себе ее теперешний облик и не мог. Перед ним все время возникал образ Юлии, выбежавшей к нему тогда, в ту хрустящую зимнюю ночь.
Искристый серебряный снег. Ветви деревьев в волшебном голубом кружеве, и она, в платке, наброшенном на плечи.
Он снова ощутил тепло ее гибкого тела, запах ее духов…
Вспоминая свои встречи с нею, он почему-то не хотел думать о том, что она принадлежит другому, что это уже другая, совсем другая Юлия.
Уже взяв билет, он вспомнил о цветах…
Ему повезло. Возле городской гостиницы, у площади Карла Маркса, он обнаружил цветочный киоск и в нем – красивые голубые астры.
Он завернул цветы в газету и с ними уселся на свое место.
Поднялся занавес. В зал дохнуло холодом и особым запахом сцены. Четко постукивая каблуками, из-за кулис вышла женщина в черном платье и объявила звонким, приятным голосом:
– Начинаем концерт артистки московской эстрады Юлии Тумановой.
В зале захлопали. Она сказала еще что-то – Макаров не расслышал. На сцену, к его удивлению, вышла высокая пожилая дама в пенсне: она цеременно раскланялась и села за рояль.
В зале наступила тишина. «А где же Юлия? – волновался Макаров. – При чем здесь эта сухопарая дама?» Но дама ударила по клавишам, и в зал полились медленные, томительные звуки. Вот они стали звенеть сильней, громче, заполнили собой весь зал. А вот они уже льются сплошным потоком, успокоительно и грустно.
Макаров закрыл глаза. Странно, ему показалось, будто это журчит песок. Словно желтая горячая струя песка сыплется откуда-то с высоты на землю, извиваясь веером, собираясь в тугие жгуты.
В этой туманной пыли, среди поющего песка, перед ним, расплываясь и странно изгибаясь, возникает какое-то видение… Что это?
Но вот словно спадает какая-то пелена, и он ясно видит далекие красноватые горы, желтые барханы и там, в вышине, на горбе бурого верблюда фигуру стройной девушки в сиреневой блузке. Это она.. Конечно, она, Наталья. Но почему Наталья? Он же здесь, в Ашхабаде, на концерте Юлии, его Юлии.
Макаров открывает глаза. В зале тихо. У рояля сидит та же сухопарая женщина в пенсне, рядом с ней стоит Юлия.
Темное платье четко обрисовывает невысокую выпуклую грудь. Талию ее охватывает золотой ремешок, на черные, приподнятые прической волосы наброшена прозрачная шаль.
Юлия смотрит прямо на него. Конечно, она сразу же нашла и узнала его в этой толпе замерших в ожидании зрителей.
«Здравствуй, Юлия!» – хочется крикнуть ему. Но тут он замечает, что взгляд ее устремлен не на него, что она сейчас не видит никого в этом большом переполненном зале.
И вот Юлия запела. Это была простая бесхитростная песенка о рябине, о ее горькой судьбе. И снова грустная мелодия широко разлилась в зале, заполнив все его уголки и сердца людей.
И опять перед Макаровым возникают какие-то странные неясные образы. Они расплывались, исчезали, появлялись вновь. Вот черный конус юрты под высоким утесом. Горит костер, а возле костра, озаряемая его призрачным светом, неудобно подложив под голову изогнутую в локте руку, спит девушка.
Это опять Наталья. «Боже мой, что за напасть, – думает он, – почему Наталья, почему все время Наталья?»
Почему ее образ, словно какое-то дьявольское наваждение, преследует его именно сейчас, когда он прилетел сюда на зов своей любви?
Он открывает глаза и встряхивает головой.
Гремят аплодисменты. Макаров тоже бьет в ладони. Цветы падают, он поднимает их и, вынув из кармана записную книжку, пишет записку.
«Юлия, – пишет он. – Я здесь. Я смотрю на тебя. Я хочу видеть тебя, Юлия. Виктор».
Он пробирается между рядами и передает букет капельдинеру.
Тот низко наклоняет голову и торопливо возвращается на свое место, а в зале уже звучит другая песня.
«Нет, – думает Макаров, – нужно разобраться в своих чувствах к Наталье». Ему уже давно казалось, что она любит его, но скрывает свои чувства. Нет, постой, а Николай? Она ж последнее время уделяла ему столько внимания. Она радовалась его приездам, она заботилась о нем. Но…
Он вспоминает одну сцену, невольным свидетелем которой ему пришлось быть. Это было в дни проезда Ткачева. Он лежал в постели больной, охваченный жаром.
Кажется, он забылся коротким сном, а потом проснулся, и услышал голос Натальи: «Пей, Николай, молоко, ты ведь голоден».
И вот тогда произошло неожиданное: Николай злобно выругался.
– Что ты? – с ужасом вскрикнула Наталья.
– Ты ведь ему принесла молоко, – услышал он шепот Николая. – Ему, только ему… Ты притворяешься, я знаю. И не нужны мне твои улыбки.
– Ты с ума сошел!
– Да сошел. Но я все вижу и понимаю. Ты любишь его и только его. Все, что ты делаешь, это для него. И со сломанной ногой ты работала для него. И завал разбрасывала всю ночь для него. Вон полюбуйся своими руками. А он тебя и знать не хочет, вот что! Ну, что ты смотришь на меня такими глазами?
А потом наступило такое молчание, что Макарову хотелось крикнуть:
– Ну, говорите же, черти полосатые, говорите что-нибудь.
– Он любит меня, – почти неслышно прошептала Наталья, – Любит…
Что скрывать, Наталья нравилась ему, нравилась ее деловитость, находчивость, ее преданность делу, наконец, нравилась тем, что была хороша собой. Но так могла бы нравиться ему любая молодая, красивая девушка. Но любви такой, как в песнях и романах, он не ощущал. Вот Юлия – это другое!
Так почему же образ Натальи тревожит его сейчас, здесь? Что это значит?
А на сцене под грохот аплодисментов появляется черный капельдинер с букетом цветов и подходит к смущенной артистке. Туманова принимает цветы, раскланивается и уходит.
Всем видно, как она, еще на сцене, на ходу, вынимает из букета записку и читает ее.
Вот она снова выходит. Теперь уже она явно ищет глазами его. «Ну, смотри же сюда, вот я, в десятом ряду партера, третье кресло от края. Неужели ты не видишь? Вот чудачка. А я так прекрасно вижу тебя всю, всю».
Наконец она замечает его, и радость вспыхивает в ее глазах. Она поет. Она поет песню, которую певала ему ранней весной на берегу разлившейся Ворсклы:
– Смутний вечір, смутний ранок,
Десь поїхав мій коханий,
Десь поїхав та й бариться,
Серце ж моє печалиться.
Чудесная мелодия заливает зал своей прозрачной волной, и сердце Виктора замирает.
И тотчас по странной ассоциации он вспоминает хмурые стены барака, тусклый свет керосиновой лампы, людей, скрючившихся под грязными одеялами, измученных беспрерывными приступами малярии, голодных, обессиленных.
«К черту все, – думает он. – К черту! Здесь Юлия, и я ничего не знаю!»
…Он стоял в вестибюле, грызя в нетерпении десятую папиросу, и она выбежала к нему, в белой беличьей шубке, и такой же шапочке, вся белая и пушистая, как весеннее деревцо в белом цвету.
Он схватил ее холодные руки и горячо сжал.
– Ты одна, Юлия? – сразу же спросил он, всматриваясь в ее немного усталое милое лицо, с едва заметной голубизной под глазами.
– Пойдем отсюда, – чуть покраснела она. – На нас смотрят.
Они вышли на улицу. Было уже темно. Прохладный ветер коснулся их разгоряченных лиц. Макаров снова повторил свой вопрос.
– Свободна, свободна, – насмешливо запела она. – Свободная, как райская птица. Слушай, а ты помнишь сказку об оловянном солдатике?
– Помню, – удивленно взглянул на нее Макаров. – Зачем тебе?
– Чудна́я я, – рассмеялась вдруг Юлия. – Если бы ты не знал этой сказки, ты бы не очутился здесь. Она повернула к нему свое бледное, матовое лицо. – У моих ног!
Макаров внимательно посмотрел в ее черные глаза.
– Послушай, Юлия, – остановил он ее. – А почему ты не сообщила мне о своем приезде? Ведь я случайно, совершенно случайно узнал об этом.
Юлия теребила уже немного привядшие астры, отрывая легкие голубоватые лепестки.
– Видишь ли, – нерешительно начала она. – Ведь ты мне писал о дороге и о своих товарищах. С тобой там эта…
Юлия как-то пренебрежительно поморщилась. Макарову стало неприятно.
– Эта, Петрова, – продолжала она. – Я помню ее. Она славная. Простенькая, но славная.
Зачем это? Зачем она так нехорошо говорит о Наталье?
Макаров опустил голову.
– Но ты прилетел ко мне на крыльях любви, – тихонько рассмеялась Юлия. – И теперь ты со мной. Пойдем же.
Они пошли по улице в неловком, молчании.
– Ну, вот мы и пришли, – произнесла Юлия, и, не останавливаясь, вошла в гостиницу. Макаров пошел за ней.
Они прошли ярко освещенный вестибюль и начали подниматься по лестнице.
– Ты зайдешь ко мне? – повернула она к нему свое побледневшее лицо, на котором особенно ярко выделялись горящие темные глаза, слегка прикрытые длинными изогнутыми ресницами.
Макаров ничего не ответил.
На втором этаже, за столиком, освещенным настольной лампой, сидела дежурная – полная женщина в белом платке. Она внимательно поглядела на вошедших, но ничего не сказала.
На мгновение Макаров ощутил какую-то неловкость, смущение, похожее на то, какое овладевало им, когда он посещал домик на Гоголевской.
«Что это я? – ужаснулся он. – Ведь это же Юлия!»
Они вошли в номер. Она легко, без его помощи выскользнула из своей шубки и остановилась перед ним, слегка приподняв лицо, немного взволнованная и смущенная.
Он привлек ее к себе и крепко поцеловал.
– Ух, – смеясь и смущаясь, вырывалась она из его объятий. – Не надо, сюда ведь могут войти.
Но он ничего не слушал, он жадно целовал ее щекочущие ресницами глаза, прохладные щеки, мягкую шею и упругую грудь под тонкой шелковой тканью.
– Ну, перестань же, – просила она и вырывала из его рук свои тонкие пальцы, а он осыпал их поцелуями. – Перестань, слышишь?
Голос ее становился все тише, вскоре она замерла в его объятиях…
…– А теперь тебе пора уходить.
Макаров взглянул на часы. Стрелки показывали начало первого.
– Хорошо, – послушно поднялся он. – Что же будет дальше?
Юлия посмотрела на него долгим загадочным взглядом.
– А ты помнишь сказку об оловянном солдатике?
– Опять эта сказка, – подошел к ней Макаров. – Зачем она тебе?
– А ты вспомни ее хорошенько. Вспомни, как горячо полюбил бедный солдатик свою сказочную балерину на одной ножке. Вспомни, что за ней он был готов броситься в огонь. Или ты забыл?
– Нет, не забыл. Я помню все.
Юлия прислонилась к нему плечом.
– Завтра, прости, сегодня в восемь часов утра я уезжаю в Москву. Ты понял меня?
– Понял…
– Ну, а теперь прощай… или, вернее, до свиданья.
Она поднялась на цыпочки и поцеловала его в щеку…
Макаров вышел и все время, пока он спускался по лестнице, чувствовал на себе взгляд пожилой женщины, сидящей у ярко освещенного столика.
– Восемь утра, восемь утра, – твердил он, шагая по темной улице. – Но куда же мне деваться сейчас?
И вдруг он вспомнил о квартире, в которой они жили с Черняковым. Не прошло и десяти минут, как он был у хорошо знакомого ему домика с глиняной крышей, на которой рос какой-то бурьян.
Окна были освещены. Из открытой форточки было слышно песню. Макаров подошел поближе и заглянул в окно.
На широкой кушетке полулежал Черняков, держа в руке гитару. Он пел. Возле него, склонив к нему на колени голову, сидела Алена. У столика, заставленного бутылками, он увидел еще одну девушку, незнакомую ему.