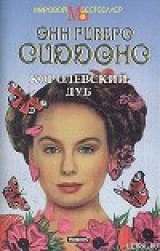
Текст книги "Королевский дуб"
Автор книги: Энн Риверс Сиддонс
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 39 страниц)
Но затем появились дети, а Том отказывался покинуть старый дом на Козьем ручье, оставить работу в колледже и заняться только конюшней. И все так же ходил на болото Биг Сильвер, пропадал там по нескольку дней, а то и недель вместе со своим старым негром, с которым он вечно бродит повсюду. Есть и другие причины, на которые намекает Пэт, – то, что он совершает или совершал довольно сумасшедшие поступки. Но всегда надо помнить, что об этом говорит именно Пэт…
Во всяком случае, ее папочка построил для них большой дом на улице за конюшнями и передал дочери все лошадиное хозяйство. А когда Том отказался переехать в город, она оставила мужа, взяла детей и одна поселилась в особняке. Папочка ее вскоре умер, оставив конюшню и Бог знает сколько миллионов, и Пэт подала на развод. Но что бы ни было между ними, ничего еще не окончено. Она вечно интересуется его делами, а он редко видится со своими детьми. В основном в выходные осенью и зимой, и то не всегда. И, когда может, держится подальше от бывшей супруги.
– И он не женился вновь? – спросила я как можно небрежнее, а жар разливался волнами по лицу и телу.
– Нет. Думаю, Том решил, что двух раз вполне достаточно. Он был женат до брака с Пэт. На хорошенькой маленькой девушке, с которой познакомился, когда учился в Йельском университете. Она, кажется, училась у Сары Лоуренс. Я ее видела всего один раз, когда приезжала из колледжа с Чарли на уик-энд. Бледная и маленькая, без помады и „Лауры Эшли",[42]42
Фирма по производству косметики и дамского платья.
[Закрыть] но очень милая. К тому времени, как мы с Чарли вернулись сюда после Боливии, они уже развелись. Не думаю, чтобы брак продолжался больше двух лет. И детей у них не было. Мне кажется, история похожа на историю с Пэт. Дом на ручье был в новинку и казался приключением в течение года или около того, но затем молодая жена захотела переехать обратно на восток, к своей семье, а ее папа даже устроил Тома на преподавательскую работу в Чоате, или Гротоне, или где-то вроде того. Но Том не захотел покинуть Пэмбертон и дом на болоте. Не думаю, что он женится еще раз. Во-первых, у него нет такой необходимости. Во-вторых, я не знаю женщины, которая захотела бы провести жизнь в диких местах, не говоря о том, чтобы растить детей в такой глуши. А Том не намерен уходить из лесов. Если бы он не был милым, он был бы невыносим.
– Не нахожу его милым. Ни в малейшей степени, – заявила я.
– Готова поклясться, что ты нашла его по крайней мере интересным, – усмехнулась Тиш поверх своих солнечных очков, которые съехали вниз, на кончик ее вздернутого носа. – Ты ощетинилась на него, как раздраженная кошка, на барбекю у Клэя Дэбни. А ты так обычно поступаешь, когда тебя кто-то заинтересует. Может быть, он тебе больше нравится в цивилизованной обстановке Пэмбертонского колледжа?
– Его там и не видно. Не думаю, что могла бы с ним встретиться. Я перезнакомилась уже со всеми преподавателями. Миссис Дебора заставила меня это сделать. И не могу представить себе, где он мог бы прятаться. А наш колледж далеко не Беркли.[43]43
Крупный калифорнийский университет.
[Закрыть]
– Могу поспорить, я знаю, где он. Просто забыла. Каждую осень и весну он берет две недели отпуска и отправляется в глубь болот. Разбивает там лагерь и охотится. Он, Скретч Пёрвис – старый чернокожий, о котором я тебе говорила, Мартин Лонгстрит – один из ваших деканов, только забыла, какой именно, и Риз Кармоди. Риз – юрист. Примерно возраста Чарли и Картера, но в течение ряда лет не занимается практикой. В основном пьет. Иногда оказывает небольшую юридическую помощь. Не знаю, на что он живет? Ну, занимается фермерством на земле, оставленной ему отцом. Во всяком случае, эти четверо много охотятся и рыбачат вместе. Каждый год, как часы, они предпринимают двухнедельную вылазку. Чарли называет подобные вояжи периодическим бродяжничеством Бог знает, чем они занимаются в глухих лесах. Я уверена, они и сейчас где-нибудь в чаще.
– Как могут преподаватель и декан просто взять отпуск на две недели в начале осеннего и весеннего семестров?! – удивилась я. – Почему колледж терпит такое?
– А где еще колледж сможет отыскать выпускника Йельского университета с похвальным листом, члена „Фи Бета Каппа" и бывшего полного профессора классической филологии? Они берут отпуск без содержания, колледж нанимает заместителей и еще считает, что ему повезло. И это действительно так. Том знает очень много. К тому же одаренный литератор. Я слышала, он как-то читал свои стихотворения. А еще он прирожденный танцор.
„И ходит голышом по лесу", – подумала я. Не могу сказать, что Том Дэбни понравился мне больше после перечисления Тиш его достоинств. Я почувствовала смутное облегчение от того, что он находится где-то далеко, в глубине, под темными шатрами деревьев на болоте Биг Сильвер. Я могла представить себе его там: создание из воздуха, земли, воды и дикой природы. Но никак не могла вообразить этого „человека леса" в застоявшейся, бесцветной сентябрьской духоте Пэмбертонского колледжа.
Через несколько дней я вышла из моего офиса в середине дня. Мне нужно было узнать зимнее расписание концертов и лекций в Уитни-холле.
Это было самое старое здание в комплексе колледжа, по сути, единственное старинное в муравейнике голубых сборных коробок из стали и бетона. Громадный особняк в викторианском стиле. Дворец даже по стандартам нашего времени и этого города, построенный одним из „зимних жителей", которому понравилась роль джентльмена-фермера.[44]44
В США – состоятельный человек, занимающийся фермерством ради удовольствия.
[Закрыть] Большой дом служил хозяину в течение нескольких лет, пока господин занимался хлопком и герефордским рогатым скотом, а после того как хозяин с величайшим облегчением перебрался обратно на „лошадиную" сторону Пэмбертона, дом перешел к ассоциации фермеров округа. Затем в особняке находилась частная академия для малообеспеченных молодых женщин города, которая содержалась „зимними жителями" до тех пор, пока бесплатное образование не стало широко распространяться на Юге. Здание пустовало несколько лет, и, когда штат купил это владение для колледжа, его чуть мазнули сверху краской, устроили в нем два-три добавочных туалета, и оно стало Школой искусств и наук Пэмбертонского колледжа.
Это была чудесная старая громада, высокая, из темного кирпича, с чугунным литьем в стиле рококо, выглядящая как обиженная матрона среди пигмеев, окруженная скопищем низких новых зданий. В этот день все высокие окна исполина были распахнуты, а массивная затейливая парадная дверь чуть приоткрыта. В здании не было кондиционеров, и я подумала, может ли хоть какой-нибудь ветерок пробраться туда через плотные ряды неподрезанных можжевельников и кипарисов, растущих вокруг. Когда я вышла, термометр около моего офиса показывал 94 градуса по Фаренгейту.[45]45
Около 35 градусов по Цельсию.
[Закрыть] За те несколько минут, пока я дошла до Уитни-холла, моя юбка и блузка так прилипли к телу, что казалось, я принимала душ одетой. Я подняла влажные волосы с шеи и заколола их на макушке.
У величественной аллеи гималайских кедров, ведущей к центральной веранде, я остановилась. Откуда-то из-за стены зелени лился голос, он звучал, как колокол вечности:
Я замерла. Конечно же! Дилан Томас,[47]47
Дилан Томас (1914–1953) – уэльсский поэт, автор поэм, стихотворений; умер в США от хронического алкоголизма.
[Закрыть] „Ферн-хилл"! Помню, как впервые я прочитала его стихи в разделе современной поэзии на первом курсе в Эмори, темным зимним днем… Я почувствовала, что сердце упало куда-то вниз от прозрачного великолепия слов, льющихся, как чистая вода по камням, и игравших на солнце, как утреннее море. Я плакала, читая еще только первую поэму Томаса. Потом я прочитала все, что смогла найти, этого автора. Но не возвращалась к нему все бесполезные годы замужества. Нежная мука и невинность того давно прошедшего дня окатили меня, как прибой, и я опустилась на выщербленную каменную скамью у тропинки и стала слушать.
На солнце, что молодо только однажды,
Мне время для игр предоставило место,
И быть золотым подарило мне право.
Но, Боже милостивый, чей же это голос? Он разливал мелодичные слова надежды и молодости с красотой и величием гимна, и красота эта была такой живой и непосредственной, что я почувствовала, как слезы двадцатилетней давности подступают к горлу.
Вялое дыхание легкого ветерка, затихающего в ветвях деревьев, шум машин вдали на шоссе, хруст гравия на тропинке от проходящих невидимых ног – все замерло, а голос пел в моих ушах, только голос:
В чести у фазанов и лис, рядом с радостным домом,
Под облаком новым я счастлив бывал бесконечно
Лишь тем, что отпущено сердцу так много,
И в солнце, что утром рождается снова,
Бежалось легко, и пути мои были открыты.
Голос пел о молодости, усиливаясь и разгораясь, а потом достиг почти совершенной красоты и умолк. А я сидела на скамье и беззвучно плакала о стране моей юности, об этом зеленом времени надежд, когда все на свете казалось возможным. Теперь я навсегда его потеряла. Слезы бежали по щекам…
Время во мне сочетало и зелень, и гибель,
Но даже в оковах своих я был песнями морю подобен…
Я поднялась со скамьи и безрассудно бросилась сквозь живую изгородь из кедров, желая отыскать, кому принадлежит этот голос. Мои глаза все еще были полны слез, и, споткнувшись, я вылетела на небольшую полянку. Голос перестал звучать, раздался похожий на вздох щелчок, а потом – тишина.
– Ну, что я вам говорил о Диане Томасе? – Я узнала голос Тома Дэбни. – Не говорил ли я вам, что своим пением он может выманить даже русалок из моря и нимф из лесов? Вот вам одна из них во плоти. Весьма значительной плоти, я бы сказал.
Он сидел на траве у окна, скрестив ноги, положив гитару, которую я видела в день барбекю, на колени. Небольшой кружок студентов внимательно его слушал. Рядом со многими стояли запотевшие банки с соком и кока-колой, а посреди круга расположился старый, видавший виды портативный проигрыватель. К нему из открытого окна тянулся провод.
– Извините, я не знала… Я услышала…
– Вы оказали нам честь, – в голосе Дэбни послышался смех. Но темное лицо оставалось невозмутимым и вежливым. Он был похож на какого-то сатанинского портного, восседающего, скрестив ноги, на иссушенной осенним солнцем траве.
– Я всегда утверждал, что впервые Томаса следует слушать, а не читать, – заявил Том. – Поэтому я проигрываю эту старую запись с чтением Томасом собственных произведений, когда мы начинаем изучать его в курсе современной литературы. Сегодня там, внутри, было жарко. Жарче, чем в мусульманском аду, поэтому мы решили поработать над Диланом на улице. Он хорошо воспринимается на открытом воздухе. Как вы думаете?
– У Томаса великолепный голос, – отозвалась я, пытаясь замаскировать слезы оживлением. – Никому, кроме него самого, нельзя читать эти стихи вслух. Пожалуйста, продолжайте. Я не хотела помешать. Я шла в офис за расписанием зимних мероприятий, я…
И тут я замолчала. Студенты с интересом разглядывали меня. Я ощутила, как влажная одежда высыхает и сморщивается на моем теле, а взмокшие завитки волос облепляют щеки и шею. Следы слез разъедали лицо, как кислота. „Наверно, я выгляжу как сумасшедшая времен королевы Виктории", – пронеслось в моем уме. Предательский жар разлился вверх от груди, и я повернулась, чтобы побыстрей уйти обратно сквозь кедровую стену.
– Диана, подождите, – произнес Том Дэбни. – Вернитесь, послушайте окончание записи.
Я повернулась и взглянула на него. Смех исчез из его глаз, а голос звучал намного мягче.
– Не смущайтесь, если поэт вынудил вас заплакать. Я вышвыриваю любого из класса с отметкой „F"[48]48
Наихудшая оценка.
[Закрыть] за четверть, кто не заплачет, услышав Томаса впервые. Я до сих пор часто сижу на болоте, слушаю его записи и вою, как привидение-плакальщик.[49]49
Привидение-плакальщик, или Банши – в ирландской и шотландской мифологии дух, стоны которого предвещают смерть.
[Закрыть] Эти невежественные дети проявили такт и заплакали, поэтому могут оставаться. Они не будут смеяться над вами.
Он улыбнулся быстрой белозубой улыбкой, которую я помнила по веранде в „Королевском дубе". Улыбка его дяди. Студенты тоже заулыбались, и я увидела, что у некоторых из них на еще неоформившихся молодых лицах действительно были следы слез. Я почувствовала, что мои губы тоже непроизвольно сложились в улыбку.
– Я была бы просто счастлива присесть на минутку. А потом я исчезну и не буду мешать вам работать дальше. Мисс Дебора заявит обо мне в комиссию по журналистской этике, если я вскоре не появлюсь.
– Пусть мисс Дебора будет навечно обречена слушать Роберта Сервиса,[50]50
Сервис Роберт (1874–1958) – канадский писатель, писал повести о „золотой лихорадке" на Клондайке и Юконе.
[Закрыть] читающего собственные неопубликованные вещи, – сказал Том Дэбни. – Правда, она никогда не поймет, что это является наказанием… Ребята, это Диана Колхаун. Она новенькая в Бюро по общественным связям, поэтому заслуживает уважения и симпатии, на какую вы только способны.
Я опустилась на траву на краю полянки. Том кивнул и включил проигрыватель, сказав:
– Ну, поехали!
На этот раз звучала сказка „Рождество ребенка в Уэльсе" – этот глубочайший, забавнейший и нежнейший гимн детству. Я закрыла глаза и позволила магическому тенору умершего барда унести меня на своих крыльях. Здесь совсем не было элегической мрачности Томаса, и, какое бы острое страдание он ни утопил вместе со своей жизнью в „Таверне Белой Лошади", корни этого страдания были не в его детстве.
Запись была очень плохой, временами она шипела, сбивалась и картавила, а один раз Том Дэбни вынужден был поднять иглу над молочным пятном.
– Это кофе по-ирландски.[51]51
Кофе с сахаром, виски и взбитыми сливками.
[Закрыть] Следы сочельника четырех– или пятилетней давности, – объяснил он. – Мой рождественский ритуал. Ирландский кофе и запись Томаса. Святое дело. Однако для пластинки – адское.
Я подумала о нем, сидящем в маленьком домине на зимнем болоте, пьющем кофе по-ирландски и слушающем эти стихи, как дикий мед льющиеся в нежной ночи. В моем воображении Том был один, в огромном кожаном кресле рядом с камином, в котором потрескивали поленья. Его темная голова склонилась над горячим висни… Но затем я вспомнила, что рассказывала Тиш, и немедленно в большом кожаном кресле подле него возникло обнаженное женское тело. Его голова наклонена над ее головой… И это стройное, мускулистое тело несомненно принадлежит Пэт Дэбни.
Я открыла глаза. Мужчина, женщина, кресло – все исчезло. Том внимательно смотрел на меня. Я отвернулась.
Ирландский голос продолжал звенеть, зовя в экспедицию, чтобы играть в снежки с полярными кошками, рассказывая о пожаре в коттедже мистера Протероу… голос, похожий на флейту… о миссис Протероу, о высоком сверкающем пожарнике („она всегда говорила именно то, что нужно: „Не хотите ли что-нибудь почитать?"), мертвом дрозде около качелей, „все его пожары, кроме одного, погашены".[52]52
Персонажи сказки Д.Томаса „Рождество ребенка в Уэльсе".
[Закрыть]
Когда голос добрался до слов: „Давным-давно, когда в Уэльсе были волки, и птицы, подобные красным фланелевым нижним юбкам, проносились мимо арфообразных холмов", Том Дэбни взял гитару и начал тихо, почти рассеянно, перебирать струны. Под действием слов звуки росли и замирали, и росли вновь, начинали соединяться и сплетаться в рисунок. Вначале они казались случайными, но затем я узнала мелодию Баха „Иисус, Радость желаний человеческих", играемую на двенадцатиструнной гитаре „Мартин" так тихо, что слова сияли сквозь музыку, как звезды через облака. Старый гимн был бесконечно трогателен и красив, его сложность казалась такой простой для тонких темных пальцев, как первые детские упражнения на пианино. Как он этого добивался? Ведь на гитаре это невероятно трудно!..
Я бросила взгляд на лицо Тома. Глаза закрыты, а весь он – поглощен музыкой и голосом поэта. Тут музыкант перешел от струящегося Баха к „Алым лентам" и „Улицам Лоредо", но музыка более грубого, более нового мира текла так же приятно под голосом, подобным водопаду, как и древний гимн.
H концу записи Том скользнул во что-то знакомое и в то же время неузнаваемое, а я плыла вместе с музыкой, пока не поняла, что гитарист играет „Крушение старого 97-го" очень медленно, в том же темпе, в котором играл Баха. Я улыбнулась и посмотрела на студентов. Кажется, никто из них ничего не заметил. Они уставились, как загипнотизированные, на темные пальцы, перебирающие струны.
„Я сказал несколько слов в замкнувшуюся и святую темноту, – произнес Дилан Томас, – и затем я заснул".
Наступила долгая тишина, в которую грубо ворвался классный звонок. Том Дэбни проиграл „Побриться и постричься за 25 центов" и отложил гитару.
Студенты взорвались аплодисментами, предназначенными неизвестно кому – мертвому поэту, живому человеку или музыке. Не знаю. Да это и не имело значения. Что-то необычное произошло здесь, на утоптанной летней траве, за живой изгородью из гималайских кедров. И даже самый слабый студент все понял.
Том Дэбни вскочил на ноги и поднял с травы одну из студенток – толстую девушку с лицом круглым, как луна, в очень обтягивающих джинсах. Он обнял ее и закружился по лужайке в сумасшедшей польке. Его ноги летали легко, ее – топали, их волосы развевались по ветру. Том откинул голову далеко назад и испустил дикий крик: „Йеееуууу!!!" Он закончил танец шикарным разворотом, крепко поцеловал партнершу в открытый от изумления рот и бросил ее обратно на траву. Девушка уставилась на учителя с обожанием, не в силах отдышаться.
– Ши-кар-но! – протянул один из молодых людей.
– Автора, автора! – крикнул другой.
Том раскланялся по всему кругу, усмехнулся, выпрямился и посмотрел на меня. С его лица катился пот, грудная клетка вздымалась. Я никогда не видела мужчину, который бы так был доволен собой. Магия стихов и музыки исчезла, и снова вернулось раздражение, горячее и колючее.
– Вы всегда устраиваете сцену из водевиля, когда читаете поэзию? – спросила я. – А что вы делаете, когда доходите до Йитса и Рильке? Раздеваетесь?
Я вновь страшно покраснела от собственных слов. Его усмешка сделалась еще шире.
– Приносим в жертву девственницу, – ответил он. –
А когда изучаем Гинзберга, о наших обрядах просто неприлично говорить. А вы думаете, что Дилан Томас не заслуживает по крайней мере небольшой песни и танца? Каким же образом вы отблагодарите его?
Я почувствовала себя приниженной, как будто получила выговор. Мне вдруг показалось, что просто получать красоту на самом деле было недостаточно. Этот необузданный, вызывающий человек действительно что-то открыл, у него было чему поучиться. И провалиться мне, если я задержусь, чтобы дождаться этого.
– Благодарю за Томаса и за шоу, – произнесла я, вставая и отряхивая юбку. – Как-нибудь приходите к нам в офис и потанцуйте для мисс Деборы. Она будет очарована.
– Спасибо. Но я устраиваю представления только для тех, кто в состоянии оценить их. Мисс Дебора немедленно позвонит в Совет попечителей, прежде чем уляжется пыль от моих ног. И скажет, что я враг порядка и приличий.
– А разве нет? – спросила я, раздвигая ветки кедров, готовая уйти.
– Разумеется. Но я работаю подпольно. Если об этом услышат – мои дни сочтены. И что тогда будут делать бедные, обездоленные, несчастные студенты, кто будет питать их?
– В самом деле, кто? – подтвердила я и шагнула сквозь заросли кедров на тропинку.
Когда я поднималась по ступенькам Уитни-холла, я услышала, как Том Дэбни подбирает на гитаре „О, Диана". Раздался смех студентов. Я хлопнула дверью.
После этого случая казалось, что он был повсюду. Я видела его в закусочной в полдень в компании с дородным лысым мужчиной с обостренным чувством собственного достоинства, который оказался Мартином Лонгстритом, деканом отделения искусств и наук и смешным, невообразимым партнером по бродяжничеству, о котором рассказывала Тиш.
Я встречала Тома в библиотеке, в одной из кабинок, склоненным над стопкой книг. Я видела его шагающим по пыльным асфальтовым дорожкам, ведущим от одного здания колледжа к другому, в окружении болтающих студентов, и на автомобильной стоянке, залитой солнцем, когда он садился в истрепанный грузовичок. Я заставала его сжимающим в объятиях хихикающую молодую преподавательницу романских языков в комнате отдыха и целующим в шею даму среднего возраста – учительницу физического воспитания, простое лицо которой стало алым, как обожженный кирпич. Как-то утром в субботу я столкнулась с ним в магазине скобяных изделий на Пальметто-стрит. Я встречала его в кафе рядом с прачечной-автоматом в небольшом торговом центре недалеко от колледжа, худого светловолосого мужчину одного с Томом возраста, в очках с роговой оправой, скрепленных тесьмой, и старого негра, так согнувшегося и так отмеченного старостью, что его кожа казалась присыпанной тонким слоем пепла. Они втроем пили кофе и так громко смеялись, что все присутствующие в кафе поворачивались, чтобы посмотреть на них, и сами начинали улыбаться.
Я видела, как он и старый чернокожий проезжали по Пальметто-стрит в грузовичке. И однажды я заметила его машину на стоянке у конюшни „Ранэвей".
С того дня у Уитни-холла мы больше не разговаривали – нам не приходилось быть на достаточно близком расстоянии. Не знаю, было ли это случайностью. Я не пыталась сознательно избегать Тома, но где-то внутри понимала, что ищу в толпе его темную голову.
Когда мы видели друг друга, он насмешливо приветствовал меня, а однажды поднял указательный палец, будто выстрелил в мою сторону из пистолета. Я не проявляла особой радости при встрече с ним, лишь изредка помахивала рукой.
В середине октября, в полдень в пятницу, медсестра из школы, где училась Хилари, позвонила мне на работу и сообщила, что у моей дочки была сильнейшая рвота в комнате отдыха и что сейчас она закрылась в кабине туалета и не хочет выходить. Медсестра сказала, что у Хил истерика.
Пробормотав что-то в качестве оправдания мисс Деборе, которая плотно сжала рот от недовольства, я бросилась к „тойоте". Сердце, казалось, подобралось к самому горлу. Я старалась не думать о дочке, чтобы не разбить машину, но кисти рук тряслись, виски гудели, а под страхом, как я ни старалась отогнать его, бурлил гнев.
„Крис, сукин ты сын, ты разрушил свою дочь, и тебе даже не приходится быть рядом с ней, чтобы попытаться восстановить душевное равновесие Хил", – думала я, но понимала – и эта мысль бросила меня в дрожь, – что гнев мой направлен не на оставленного мужа, а на дочь. На ее истерики, осуждающее молчание, длящееся часами, хрупкие, достигнутые с великим трудом попытки общения и потом быстрые отступления назад, к болезненности и ранимости. На зависимость, сравнимую только с беспомощностью грудного младенца, суетливый инфантилизм и упрямое нежелание быть здоровой.
Но чувство гнева постепенно вытесняли стыд и отвращение к себе. Ведь Хилари не избалованный взрослый, она всего лишь легко ранимый десятилетний ребенок. И, если в моей душе поселился гнев, пусть он будет направлен на меня самою за то, что я посмела сердиться на дочь. За то, что не смогла защитить ее.
И тем не менее гнев продолжал кипеть в груди, когда я думала о моем ребенке, сопящем и сжавшемся в кабинке туалета, и о тех взрослых, которые пытались выманить ее оттуда.
В комнате отдыха не было никого, кроме учительницы Хилари и школьной медсестры. Учительница, молодая женщина с твердым выражением лица, стояла на страже у двери. Небольшая кучка любопытствующих детей с безвольными лицами мялась в освещенном холле. Я мельком подумала, что эта школа пахла так же, как Пэмбертонский колледж или как все школы, в которых я когда-либо бывала: мелом, какой-то промышленной дезинфекцией и призрачным мускусным запахом молодых тел.
Вначале я не могла себя заставить открыть дверь кабинки. Хилари уже не плакала, но я узнала сопение поглощенного своими мыслями очень маленького ребенка, каковым она становилась после приступов страха, сопровождавшихся бездумной суетливостью. Я не могла справиться с этим ни убеждением, ни задабриванием.
Учительница и медсестра не знали, чем было вызвано такое состояние. Никто из детей, казалось, тоже не знал или не хотел говорить об истинной причине. Медсестра полагала, что это не физическое недомогание: кто-то из детей сказал, что видел Хил в центре небольшой кучки ребят, которые смеялись и издевались над ней, а она плакала. Но свидетель смылся, и никого другого невозможно было уговорить сказать что-нибудь кроме: „Ничегонезнаю".
Хилари находилась в кабинке почти час, и, казалось, сами минуты отразились на лицах взрослых, находящихся здесь. Я глубоко вздохнула, зная, как будет звучать мой голос, и произнесла так твердо, как только могла:
– Хилари, если ты не откроешь дверь и не выйдешь сейчас же, урони верховой езды будут окончены. Навсегда. И заметь, я не говорю „может быть". Ты этого хочешь?
– Нет, – просопела Хилари.
– Тогда выходи.
– Нет.
– Ну что же, я считаю до десяти. Ты можешь выходить или оставаться, это твое дело. Но, когда я досчитаю до десяти и ты не выйдешь, можешь поцеловать свою лошадь на прощанье.
Молчание.
– Хорошо, я считаю. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь.
На счет „восемь" я услышала, как дочка отодвинула задвижку, а на счет „девять" вышла, глядя на меня искоса. Мое сердце, заледенев, остановилось. Это было страшно. Как будто она утонула, пробыла под водой несколько дней. Лицо было испещрено пятнами и распухло от слез, а покрасневшие глаза были окружены густой тенью. Спереди футболка а-ля Мадонна была мокрой, галифе и сапоги, которые она настойчиво добивалась надеть утром, пропитались влагой. Волосы прилипли к узкой головке. Хил не могла дышать через забитый нос и делала прерывистые вдохи открытым ртом. Вокруг нее висел застоявшийся запах детской рвоты.
– Малышка, что с тобой стряслось? Ты больна? – Я пощупала ладонью ее лоб. Он был липким и холодным. Такими же были и руки, когда она схватила меня за кисть. Как будто я прикасалась к маленькому трупу.
– Я хочу домой, – шептала Хилари. – Я хочу домой.
– Мы и едем домой. Дай только вымою тебе лицо и руки…
– Не-е-е-ет!!!
Это был визг ужаса. Я никогда не слышала, чтобы из уст дочери вырывался подобный звук. В нем не было ничего детского. Я уставилась на нее, ошеломленная.
Хилари с зажмуренными глазами, продолжая визжать, пятилась в кабинку и махала перед собой руками.
– Не надо воды, – визжала она. – Не надо!
– Хилари…
– Не надо воды!
– Хорошо, воды не будет. – Мой голос дрожал.
Она позволила мне увести себя из здания и устроить в машине. Но не желала ничего больше говорить и пристально смотрела вперед, ничего не видя. И только когда я привела дочку наверх в ее спальню, стала стаскивать с нее мокрую одежду и проговорила так мягко, как только могла:
– Знаешь, если ты не будешь говорить со мной, мне придется отвезти тебя к доктору, – она нарушила свое молчание.
– Они сказали, что что-то есть в воде, которая течет из бомбового завода, – прошептала девочка, отворачиваясь от меня. – Они сказали, что это попадает в кровь человека и высушивает ее, и гноит кости, и он умирает в страшных мучениях, и визжит, и становится весь черным и синим – все тело! Они сказали, что вода вместе с этим чем-то начинает гореть и дымиться, все это происходило там, где живут негр… где живут черные люди, вверх по реке, в лесу, недалеко от бомбового завода, но теперь это идет под землей туда, где живут богатые люди и лошади. Туда, где живем мы. Они так сказали… они сказали, что это сжигает лошадей и превращает детей в скелеты, съедает их, но не вредит взрослым. Поэтому никто не верит в эти рассказы и никто не останавливает. Они сказали, что во мне уже поселилось это: у нас показывали утром фильм на уроке географии, и, когда погасили свет – так они говорят, – я засветилась, как неоновая вывеска, и они видели через кожу мои кости и зубы, как у скелета. Они говорят, что на бомбовом заводе знают об этом, но лгут, как будто ничего не случилось, и еще заявляют, что люди, которые видели, как загорелся ручей, – помешанные или пьяные, и поэтому им никто не верит. Ведь правительство говорит, что ничего страшного нет… А потом они обрызгали всю меня водой.
Хилари опять заплакала. Я крепко прижала ее к себе.
– Хил, крошка, это все неправда, все не так. – Я была возмущена и шокирована. Нет ничего удивительного, что девочка так испугалась. – То, что заставляет светиться кости, называется радиацией. Она используется в рентгене. Помнишь, как дантист делал снимок твоих зубов? Так же было, когда лошадь Пэт повредила ногу: ей сделали снимок и поместили ногу в лубки, помнишь? Это не вредит, а помогает нам. Да, на заводе „Биг Сильвер" производят радиоактивную продукцию, но у них там имеются различные защитные средства и меры на случай аварии. Все это сделано для того, чтобы радиация не могла вырваться и принести вред людям. Система работает многие годы и будет работать и дальше. Ты же не думаешь, что правительство желает причинить вред своему народу? Они просто дразнили тебя, моя милая, правда, не знаю, кто „они"…
– Они утверждали, что ты так и будешь говорить, – произнесла Хилари. Ее голос был безжизненным, а глаза – мертвыми. – Они утверждали, что ни один взрослый не поверит мне, если я вздумаю рассказать. Они говорили, что некоторые из них – понимаешь, дети, такие же, как они и я, – видели, как горела и дымилась вода, и все эти ребята сразу же после этого умерли. Перед смертью их кости светились через кожу так же, как и мои сегодня утром.
Кровь текла у них изо рта. И они сказали, что на телах тех, умерших, были такие же синие пятна, как и у меня.
Хилари повернула свою тонкую руку, и я увидела небольшую россыпь старых синяков, которые становились уже шафрановыми и зелеными.
– Милая, но это просто обыкновенные старые синяки, они у тебя вечно появляются. Ты могла посадить их, катаясь на Питтипэт. Посмотри, у меня на голени тоже есть. Я набиваю их все время, когда сажусь в машину.
– Не помню, чтобы они у меня были когда-нибудь раньше, – заявила Хил все тем же ледяным голосом. – Меня предупреждали, что ты так скажешь.
– Ради Бога, кто это „они"? Я намерена позвонить их родителям и предупредить, что если их дети еще раз посмеют раскрыть свои рты, пугая тебя…
– Нет! Нет! – Хилари беспомощно замахала руками. – Нет, мама! Они сказали, если я расскажу тебе, они попросят старых людей, которые живут там, вверх по ручью, наслать на меня Даппий. Эти Даппии унесут меня туда, где горит ручей, и будут держать под водой, пока я не сгорю.
– Кто, Хилари, кто это сказал? – Я неистово прижимала дочку к себе. – Я не буду звонить, обещаю, но ты должна сказать мне, кто наговорил тебе массу таких нелепых, глупых вещей?
– Черные дети, которые приезжают на автобусе из района бомбового завода. Те, что живут в маленьких домиках там, в лесу, и в том маленьком городишке. Все их боятся, мама, потому что они могут наслать Даппий. В их домах синие двери, чтобы Даппии не добрались до них. Но они могут насылать их на других людей, и они знают про воду, потому что видели ее… Мама, они сказали, что я богатый ребенок, любящий верховую езду, потому что я надела сапоги и галифе, и что к нам, на ту сторону города, идет та вода. Она течет под землей.








