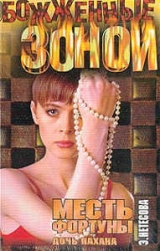
Текст книги "Месть фортуны. Дочь пахана"
Автор книги: Эльмира Нетесова
Жанр:
Боевики
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 24 страниц)
– Ну да я ей не поверил, прием старый! С этого все потаскухи начинают. На жалость ловят, а потом легко вламываются. Я в магазин шмыгнул. Глядь, впрямь, двое карманников промышляют. Подозвал. Спросил. Раскололись, что тряхнули эту девку. Я снял с них бабки ее. Вышел, она уже линяла. Пристопорил. Вернул башли. Она – глазам не верит. И спасибами засыпала. За героя приняла. Посеяла обиду. Ну, я тоже перья распустил. В гости набиваться стал. Она рассмеялась, мол, далеко хилять надо, целых восемь километров. Но я уже горел и не отступился. Приклеился добровольно. Хиляю с нею, а у самого все кипит. Из ходки вышел. Ну и стукнула моча в кентель, допер, мол, дорогой уломаю. И разговорились по пути. Она о себе рассказала. Что матери у нее нет – умерла давно. Отец ушел, когда та еще ходить не умела. И Лида с детства «пахала». Детей чужих нянчила, полы мыла, стирала, на жизнь зарабатывала. Так-то школу, потом институт закончила. Я пожалел, мол, жизни не видела, молодость пропустила. А. она рассмеялась и ответила, что рада тому. Все умеет. К жизни готова. Никакой работы не боится. И шить, и вязать, и готовить, сама научилась. Обузой мужу не будет, а помощницей. И теперь хоть технологом работает, все сама себе шьет и вяжет.
– Чего ж за башли рымзала?
– Потому как она их не сперла ни у кого, а заработала! Такое – жаль. Это и понятно! Хоть малые бабки, но кровные! – осерчал Теща.
– Не кипятись, – сконфузился Седой.
– Послушал я ее и не по себе стало. Какой там флирт, обосранным хвостом приплелся за нею на рыбзавод. Она меня в дом позвала. Вошел и обомлел. Чисто, кайфово у нее! Не темнила! Накормила она меня. До ночи с нею просидел. Век бы слушал ее. Да стыдно было. О себе и вякнуть нечего. Сижу лидером. Она спрашивает, я молчу. А когда уж совсем поздно стало, засобирался я линять. Она меня проводить вышла. Прощаясь на полпути, стемнил, что геологом пашу, что никого на всем свете нет у меня. А вот она – в душу запала. Лида разрешила навещать, когда в ее местах буду. Я к ней через три
года попал. Она все там. Одна. Нет мужиков на рыбзаводе. Одни бабы! А такая девка! Я чуть не рехнулся, она узнала меня. И так встретила, как родного!
– Небось не растерялся? – встрял Седой.
– Не тронул! А что как ребенка от меня заимела бы? Без отца как стал бы жить? Слинял, лишь попросил ее взять бабки. Хороший навар мы тогда взяли. А мне к чему? Кое-как уломал принять их и часы, что с самой Одессы для нее берег. Взяла, а сама покраснела. Видно, я первый ей в душу запал. Оттого и приняла. Писать просила. Я наобещал. Но снова слинял. Уже на пять лег. Почти посеял о ней память. Но попал в гастроль. И к ней. Она по-прежнему – одна. Сама сознавалась, что побывала замужем. Да человек попался негодный. Алкаш. Пил, обижал бабу. Она хотела немногого – ребенка заиметь. Но тот падла и малого не смог. Расстались, и она уже год одна. Ну, тут-то я приклеился на всю неделю. На пахоту не отпускал. Она отпуск брала из-за меня. Нет бы пидеру примориться у нее, слинял и сразу в ходку влип. Четыре года мантулил в Воркуте. Потом фартовал две зимы. И снова на Сахалин загремел – в ходку. Слинял через год и к ней нарисовался. А там – кентенок. Мой портрет! Я, чтоб не прикипать, через три дня смылся. И к Питону в малину. Три зимы. Потом к Шакалу свалил. Но теперь – хана! Пора завязывать!
– К ней слиняешь?
– Вряд ли примет! Что видела от меня? Я ей наказаньем стал. Какой с меня отец, если ничего не знаю о сыне? Да и то верняк, малина не оставила б дышать! Пасла бы, как тебя!
– Откуда допрет Шакал, что тебя не схавало зверье? Где двое, там и третий ожмурился. Линяй к ней! В откол! Начни заново! Все разом! Тебе еще не поздно. Ведь к своим возникнешь! Коль завязать решил, надо разом. Тебе есть к кому смыться! Тебя ждут! Это счастье! Может, ради них обошла тебя смерть! Такое случайным не бывает никогда! А я – вякни всем Смолевичам, что порвали волки на моем участке людей. Кого – не знаю. Это до малины дойдет. Дыбать тебя не станут!
– Не заложишь?
– Нет! Не высвечу! Хиляй! Сумеешь туда возникнуть?
– У меня ксива с сахалинской пропиской. А рыбзавод в такой глуши, что туда законники не возникнут. Слишком приметен там всякий чужак. Да и дорогу туда теперь стрема– чат менты. Мне их терпеть придется! – усмехнулся криво Теща. А на следующий день увез его Седой в санях до самого шоссе. Там посадил на попутку. И долго стоял у обочины, глядя вслед законнику, какой порвал с фартом, но, как и все,
не сможет уйти, оторваться от памяти, и до конца жизни будет отбиваться от нее, как от волков. А она будет будоражить во снах, преследовать в каждом дне, обдавая холодом душу и сердце.
– Сколько раз умирает фартовый за свою жизнь, да и живет ли он? Недаром законники для успокоения называют себя рожденными в праздник. А потому обычные будни – не для них. Они приходят к каждому в старости. Но лишь немногие доживают до нее…
Седой вернулся в зимовье лишь на следующий день, после того, как проводил Тещу, побывал в Смолевичах. Рассказал в милиции о случившемся.
Оперативники долго недоумевали, как фартовые прознали о Седом. И только Земнухов не удивлялся. Будь он в малине, поступил бы точно так же…
– Знает Шакал этот адресок. Теперь уж сам заявится. Интересно, один возникнет или кого-то с собой приволокет? Вряд ли только свое мурло сунет. Хитер падла! Глыбу сфалует. Чтоб тот жмуром меня подтвердил перед Медведем. А значит, через неделю возникнет, – вздохнул лесник и, погладив Тайгу, смотревшую на хозяина умнющими глазами, спросил, словно посоветовался,
– А может смыться нам отсюда?
Собака заскулила, ткнулась холодным носом в руку.
– То-то и оно! Сколько можно мотаться по свету, как цыгану? Старость уже подходит. Пора печку обживать. Опаскудело по чужим углам мотаться. От судьбы не слиняешь! Коли суждено – все равно пришьют. А нет, вона как зверье разделало. Лягавые не углядели. Лес попутал: выходит, признал паханом. Не пропустила на разборку всякое гавно – мокрушников! У леса свое соображенье.
Лесник долго говорил с начальником милиции, предлагавшим переезд на другой участок или в сам поселок.
– Самым лучший способ избавиться от законников – это жить на виду. Не прячась от них. А в поселке всякий чужой человек приметен. Поселим тебя по соседству с большими семьями. Где курица незаметно не проскочит. Глядишь, быстрее своим станешь, женщину присмотришь, с родней. Без хозяйки в таком возрасте трудно. А у нас много одиночек. Работу всегда можно найти и в поселке. Было бы желание!
– Куда ж я с таким прицепом заявлюсь? Сначала от малины избавиться надо. Потом о семье думать. Нынче не до кайфа! Рано мне о том! А достать меня фартовые везде смогут. Ни поселок, ни соседи, ни баба, ни вы – не застопорят. Много вы остановили? Вот этих? Волки на гоп-стоп взяли.
Если б не они, не говорил бы я теперь тут. Но по сути… Сколько мне уже осталось? Немного! Свое, можно так считать, отдышал. Жалеть особо не о чем. Если повезет, от силы пяток зим проскриплю. Не больше! Стоит ли из-за этого трястись за шкуру? Нет, конечно! Жалеть тоже не о чем. Никого у меня не остается на земле. Все просрал. Где сам лажанулся, где подтолкнули. Жизни-то и не было. Воевал. А за что? Теперь и сам не знаю. Кого защищал? Тех, кто осудил меня ни за что? Или охрану, конвой, начальника зоны? А ведь я на войне контужен был. Но вкалывал в зонах! Как вол! Охрана меня мордовала! Не смотрели, что фронтовик! Вламывали и за дурь! Чтоб знал впредь, кого защищать надо! Самого себя! Остальное – по хрену! – сам удивился своей разговорчивости Седой.
– Послушай, Земнухов, выходит, когда немцы мою семью расстреляли, мне надо было в плен сдаться, чтоб и меня прихлопнули? Шалишь, старик! Я в партизанах с десяти лет! Пятерых из моей семьи убили! Я по составу за каждого под откос пустил, своими руками! А сколько из автомата перекрошил! Ни за кого-то! Но за будущее! За своих мстил! Не ждал наград и льгот! Не считал себя дешевкой! Врубил по первое число! Пацаном в болотах неделями сидел, голодный, как собака, а фрицев колотил всякий день. И нынче не считаю это своей заслугой! Иное не понял бы! Я – смерти своих родных не мог простить фашисту! А ты, выходит, из выгоды воевал? Чтоб сегодня сытно жрать? Да мне такое в голову не приходило никогда! Я в пятнадцать лет учился и работал! Хотя наград хватало, не хвалился! В тринадцать «За отвагу» получил. И после войны с такими гадами, как ты – до сих пор воюю! За всю жизнь в отпуске ни разу не был. Некогда! А все от того, что я знаю, за что воевал! И свое – не уступлю! Мне не болтай глупости! Ты жив! А в нашем отряде мои ровесники-мальчишки гибли. Скажи – за что? Они людьми бы стали! – закурил начальник милиции нервно. Воспоминания ему давались нелегко.
– Ты после войны домой возник! Тебе меня не понять! Для тебя – война кончилась! – глухо заговорил Седой.
– Всего три года назад подорвался на мине мой старший сын. После войны не досмотрели. Остался склад с боеприпасами. Чей он? Вот тебе и кончилась война! А мне – кого винить? Себя иль немцев? Сын десятилетку закончил. Поступил в институт. Поехал со студентами картошку убирать. Трактор и выволок из земли! Сын увидел, оставалась минута. И чтоб других не убило, на себя все взял. Или ему жить не нужно было? Или тоже о льготах надо болтать? Ты, Земнухов, свое помнишь! Но что знаешь о других? Ты потерял в войну? А для меня она, эта война, и теперь не кончилась! Да только зачем с тобой о том спорю? Пустое все! И ни черта ты не поймешь! Война, выходит, к каждому своим лицом повернулась. Одни – мужчинами стали, другие – потеряли все.
– Не потерял! У меня отняли все, что было! И осмеяли.,
– Эх-х, вмазать бы тебе, гаду! За всех! Да руки марать не, хочется! Короче! Я предложил. Ну, а решать тебе! Как хочешь! Мы со своей стороны сделаем все, что в наших силах, – шагнул за порог, не оглядываясь, а Седой снова остался один в своем зимовье.
– Ишь, хмырь, выходит, я – дешевка, – вспомнил недавний разговор, и запоздалое зло вскипело фонтаном.
– Никуда не слиняю! Не нужно меня пасти! Обойдусь без мента! Сам себя выдерну из жмуров! – кричал Седой на все зимовье так, что даже овчарка, прижав уши, уползла под стол.
Лесник, оглядевшись, что его никто не слушает, успокоился, устыдившись истерики, пошел осмотреть дорогу, по какой к нему в скором времени может пожаловать Шакал. Теща сказал, что пахан пообещал, в случае провала кентов, – сам придет к Седому.
– Как кенту, тебе ботаю, у Шакала кентуха имеется. Видом – сикуха мокрожопая, лысый суслик, но… Хуже ее – падлы – в малине нет! Любой стопорило – гавно против той двухстволки! Сам пахан дрейфит на паскуду наезжать! Уж она – одна за целую разборку управится. Любого ожмурит, гадюка! Стерегись больше Шакала! – вспомнилась леснику худая, остролицая девчонка с пронырливым, колючим взглядом, нескладная, некрасивая, злая.
– Зелень! Что она отмочит? Мне – законнику, пусть и бывшему, стеречься этой шмакодявки? Не много ль для нее чести? – усмехнулся лесник. И откопав ножи Тещи, на всякий случай вооружился до зубов. В рукавах, за поясом, за голенищем – насовал не меньше десятка острых, как бритва, «перьев». И, чуть шорох, тут же о них вспоминал.
Он не доверял ночной тишине и даже в густой тьме выходил слушать лес.
За время жизни в лесу слух и зрение Седого обострились настолько, что он спокойно, с порога зимовья, слышал шум машин на трассе. Они шли. Ни одна не останавливалась у поворота к его зимовью. И лесник, постояв, возвращался в избу.
Даже собака стала понимать, что хозяин не зря тревожится, спит чутко, часто просыпается, выскакивает из дома, ждет кого-то. И весь обложился ножами. Значит, гости придут лихие, от них добра не жди.
Овчарка тоже начала нервничать. С беспокойством вглядывалась в темень ночи.
Теперь она спала у самых ног Седого, рядом с топчаном, и поминутно вздрагивала от каждого скрипа, уханья, шелеста.
Седой по-прежнему ходил в обходы. Но не задерживался в лесу подолгу. Не хотел оказаться в своей избе, как в ловушке, застигнутым врасплох. Может, от того не забывал, уходя, замести метлой дорожку к зимовью, чтоб, возвращаясь, увидеть, ждут ли его в избе иль нет?
Но время шло, вот уж и морозы отпускать стали. Заметно прибавлялся день. На небе все чаще синь прорезывалась. И ночной воздух уже не брал в тиски грудь и горло, не выбивал из глаз слезы. Лес уже не звенел обледенелыми ветками. Он понемногу начал сбрасывать с себя тяжелые сугробы снега.
Вот с еловых лап свалился ком. Рассыпался на сугробе в снежки. Из-под сугроба перепуганная зайчиха выскочила. Здесь ее нора! Кто посмел потревожить? Если волки, надо увести, выманить подальше от норы, чтобы, почуяв запах, не раскопали бы нору, не достали зайчат. Они еще слишком малы и не могут убежать. Им нужно подрасти, если не помешают…
Лесник спит. Ему тоже нужны силы. Без них в лесу никому не выжить.
Но силы нужны не только в лесу. Они необходимы всем живым. Без них нет ничего. Может, потому, так дорожат силой те, кто слишком много тратит их, чтобы выжить…
Шакал узнал, что Медведь дает ему всего неделю. И, если он, пахан, не уложится и не управился с Седым, то быть его малине вечным гастролером. Не то прибавить, имеющееся грозит отдать другому пахану, другой малине.
Конечно, Черная сова не сидела без дел. Не скудел общак. Трясла и чистила свои и соседние наделы. Платила долю. Но… Не только это ждал Медведь. Его бесило, что не кто-нибудь другой, а именно Черная сова тянет резину, не может замокрить какого-то Седого – бывшего пахана шпановской малины. Л значит, не отомщенной остается до сих пор смерть законников и самого маэстро! А значит, повадится лягашня громить фартовые хазы, устраивать шмоны в притонах и кабаках…
Но Шакалу теперь было не до Седого. Питоновские фартовые исчезали неведомо куда.
Лишь Наперсток и Рыбак уцелели. Но именно из-за Наперстка не мог Шакал поехать к Седому. Пахан решил отомстить за законника орловской милиции и устроил в городе
настоящую облаву на нее. Конечно, не без помощи городских стопорил и мокрушников был перебит весь оперотряд милиции, где мучили Наперстка. Оперативников убивали средь бела дня, открыто, на виду у всего города. Фартовые взяли в коль– ко милицию и расстреливали каждого, что осмеливался выйти либо показаться в окне.
Их убивали в квартирах и подъездах, пока на помощь милиции не подоспела воинская часть. Завидев солдат, с автоматами наготове, фартовые словно растворились. Ушли бесследно. Милиция хоть и видела, задержать не смогла. И снова хоронила своих сотрудников, клянясь уже не в первый раз отомстить за смерть каждого.
Шакал никому ни в чем не клялся. Не любил он этих детских игр. Он привык без громких обещаний держать свое слово. И выслеживал начальника горотдела. Тот, при налете фартовых, даже к окну не подошел. И Шакал решил разделаться с ним в его доме.
Но тот спешно улетел в Москву. И в Орле не появлялся целую неделю, ожидая, когда солдаты перетрясут весь город, наведут в нем покой и порядок.
Воинская часть патрулировала ночами целую неделю. Как и ожидалось, похватал патруль кучку щипачей и карманников-пацанов, с десяток шмар выволокли из притонов, сдали всех в милицию, и, успокоившись, что в городе все утихло, уехали на своих грузовиках в расположение части, не дождавшись возвращения начальника милиции. Тот приехал на следующий день.
Шакал встретил его у вагона. Он выходил спокойно, уверенно. Даже не оглянувшись по сторонам. Сделал первый шаг на перрон. Кто-то в сутолоке придавил к вагону. На секунду увидел странно горящие глаза человека и тут же почувствовал резкую боль в груди. До слуха донеслось далекое, как шепот:
– Это за Наперстка тебе, лягавая паскуда!
Когда толпа отошла от вагона, проводник заметил валяющегося на перроне человека, принял за пьяного, позвал дежурную милицию. Те узнали начальника. Но было поздно…
Шакал уже успел уйти далеко. Он вернулся в хазу. Сказал кентам, что отплатил за Наперстка и теперь пора вспомнить о Седом…
О нем малина не хотела говорить. Словно рок повис над Черной совой. Куда девались пятеро кентов? О них не знал никто. Таких проколов малина не знала никогда. Слух о провалах облетел законников. И теперь никто из них не хотел фартовать в Черной сове. Она стала – западло. Над ее кентами в открытую смеялись даже блатари. И Шакал решил вернуть себе и малине уваженье и честь…
Законники, услышав о Седом от пахана, уже не вызывались поехать вместе с ним. Отмалчивались. Никому из них не хотелось исчезать бесследно.
Пахан, ухмыляясь бледными губами, понял все, сказал жестко:
– Сам ожмурю! Завтра отваливаю!
– Я с тобой! – вскинулась Капка.
Шакал молча кивнул, приказав Задрыге собраться заранее.
Та, загораживая спиною сумку от кентов, тщательно укладывала в нее все, что могло пригодиться в этой нелегкой поездке. Барахла почти не взяла. Лишь самую малость, без чего не обойтись в пути. А утром, чуть рассвело, умылась наспех, проглотила стакан чаю, приготовленного Глыбой и, не прощаясь ни с кем из кентов, подхватив свою сумку, вышла следом за Шакалом в морозное, ненастное утро.
– Если фортуна не лажанет нас, и мы ожмурим суку, повезу тебя к Медведю, в Минск, в закон принимать, как трехал сам маэстро. Пришло твое время фартовать на большой. Выросла. Вся в меня, – говорил пахан тихо, так, чтобы в соседнем купе ничего не услышали и не разобрали.
– В Минск? – Капка даже взвизгнула от радости. Она предвкушала ту поездку заранее. Ее повезут с почетом, с уваженьем. Не так, как раньше – «в зеленях», а с поручителем, какой готовил в закон, и с паханом. Еще двое законников, какие подтвердят дела с участием Задрыги. Они поклянутся, что Капка уже фартует наравне со всеми, а не только стремачит.
Она должна будет поклясться, что станет целиком держать фартовый закон. И став честной воровкой, никогда не нарушит клятву. Она, не моргнув, порежет себе руку, чтоб своею кровью смочить горсть земли, какую она съест не поморщась в подтвержденье клятвы. Ее она даст, стоя на коленях перед Медведем. Так положено.
Маэстро будет спрашивать ее о делах. А потом обратится к тем, кто явится на эту сходку, согласны ль они, чтобы Задрыга стала законницей? На этом сходе обязательно будет и Мишка-Гильза. Его, как слышала Капка, уже взяли в закон – фартовые. Узнала Задрыга, что фартует он клево и в малине его держат в чести за удачливость.
Капка хотела увидеть, как отнесется к ней Гильза, когда она станет «законной».
– Верняк, кайфово! Да и с чего бы иначе? С «зеленей» один кусок хавали. Но то было давно. А вот тогда – на скамейке, Мишка был совсем кентом. Он вякал про дела, а сам – все рассматривал, как я изменилась. И усмехался чему-то…
Задрыга вспоминает повзрослевшего Мишку. Его лицо, глаза, голос.
– К шмарам уже подваливает! – кольнуло что-то внутри. И Капка невольно скрипнула зубами, сжала кулаки, глаза прищурились, стали злыми, холодными.
– Ожмурю падлу! – вырвалось из горла невольное. Пахан, глянув на дочь, понял ее по-своему, что та готовится к встрече с Седым.
Шакал обнял Задрыгу:
– Не дергайся, все смастырим, как надо!
Капка только теперь поняла, что подумал отец, и рассмеялась.
Вечером они уже приехали в Смолевичи.
– Хиляем в кабак, похаваем! – позвал Шакал Задрыгу, указав на ресторан, откуда доносилась громкая музыка.
– Ишь, местные фраера бухают! – указал пахан на тени танцующих. И вскоре они вошли в зал.
Официантка посадила их к компании молодых парней. Их было четверо. Уже навеселе, они сразу разговорились:
– К родне приехали? В гости? А сами откуда? С севера? Девчонку у нас оставите учиться? Это хорошо! Здесь теплее и сытнее! – соглашались парни.
– У нас на севере все бы хорошо, но опасно. Много тюрем, зон вокруг. Оттуда частенько уголовники бегут. А мы с женой целыми днями на работе! Беспокоимся за дочь всегда. А здесь – все тихо. Ни зон, ни лагерей, ни уголовников, – говорил Шакал.
– Все так. Но до недавнего времени… А тут один из ваших мест объявился. В лесники его взяли. Так вот к нему уголовники табунами поперли. То ли прижиться у него, то ли убить хотели, черт их маму знает! Только всех их волки порвали на участке. Их в этом году, как блох у барбоса развелось. Проходу от них никому не стало. В лес не ступи.
– А как же он там живет? Или тоже его волки съели? – удивилась Капка.
– А он, верно, ихней породы! Не трогают почему-то. Принюхались. Но, может, оттого, что и спит с ружьем. Так и жив пока. Но подрастут к весне волчата – хана мужику. Изорвут по голодухе в клочья. От стаи ружье не спасет, – сочувствовали леснику парни.
Они рассказали все, что слышали о самом Седом, об уголовниках, о зимовье.
Выведал Шакал, где живет лесник. И махнув рукой равнодушно, ответил так, словно его это не интересовало:
– В поселок волки не заходят, а в лесу моей девчонке делать нечего. И уголовники, наверно, поселок ваш стороной обходят? И далеко тот участок от Смолевичей. Так что бояться тебе нечего! – успокаивал Капку, которая напряженно думала о чем-то своем.
Волки… Выходит, отгородил лес Седого от всех людей живым звериным кольцом и сквозь него никому не удалось пробиться. Хотя и оружия хватало. И сил… Может, оттого, что ночью возникли в лесу? Днем, как говорил Сивуч, смелость остается лишь у фартовых. А те – канают по светлу, потому что звери. Значит, надо припутать днем, – думает Задрыга.
– Двадцать с лишним километров! Ого! Да по снегу! Их пехом не прохилять. Вымотаемся. А как с Седым в таком виде встретимся? Он нас как фрайеров уделает и оставит волкам на хамовку! Лыжи! А значит надо ждать утра! – решает Шакал и ведет Задрыгу в гостиницу переждать ночь.
Едва они вошли в номер, в дверь к ним постучали. Капка, решив, что пришла горничная, открыла. И ошалело уставилась на оперативника милиции, какой вошел в номер по-хозяйски, отодвинув Капку. И сразу попросил документы у Шакала.
– Кто такие? Зачем приехали? К кому? На сколько дней? – сыпались вопросы один за другим.
Шакал быстро нашелся:
– У дочки болезнь странная. Сколько у себя по врачам водил, все без толку. Не могут с приступами справиться. В раннем детстве собаки испугалась. Теперь вот к бабкам привез. Добрые люди посоветовали. Сказали, заговоры помогают. Подсказали, что тут знахарки такие есть. Лечат застарелый испуг.
– Да, есть у нас такие старухи, – сразу вернул документы милиционер. И оглядев малорослую, худую девчонку со страшненькой мордой старой кикиморы, спросил сочувственно:
– А сколько ей лет?
– Пятнадцать! – ответил пахан, оглядев оперативника с ног до головы.
– К бабке Наде вам идти надо. Она за почтой живет. Неподалеку. Ох и лечит старуха! К ней со всех сторон едут. Со всякими болячками. Она лучше профессоров разбирается в лечении.,
– Спасибо на добром слове! – ответил Шакал, вздохнув облегченно, когда оперативник вышел из номера.
Пахан понял, что тот неспроста заявился в гостиницу, стережет от случайностей Седого…
Капка лишь головой покачала, восторгаясь находчивостью Шакала.
Утром, потолкавшись на базаре, купив лыжи, заторопились на трассу. Капка долго «голосовала» машинам, пока их подобрали на попутку. И, доехав до поворота, Шакал с Задрыгой, словно тени, исчезли в лесу.
Задрыга сразу свернула с дороги в чащу, сломала несколько хвойных лапок, привязала их на бечевку и пустила следом за лыжами, заметать след, как учил Сивуч. Свободный конец привязала к куртке.
Шакал только теперь понял затею Задрыги, хотя утром ругал ее нещадно, когда девчонка настырно потянула Шакала на базар. Там, потолкавшись с десяток минут, купила банку рысиного сала, какое хорошо лечит радикулит. Шакал тогда обматерил Задрыгу. И только теперь до него дошло, почему она обмазала этим жиром лыжи, руки, лицо. И передав банку пахану, велела сделать то же самое.
Пара волков, высунувшаяся из-за сугроба, истошно взвыв, унеслась в чащу без оглядки, едва втянув носом запах рыси.
Волки всегда боялись лесной кошки. Знали ее силу и свирепость, потому предпочитали не встречаться с нею на зимней тропе, не доедать ее добычу, чтобы в наказанье не остаться без глаз, а то и хуже – лишиться жизни. Такое нередко случалось в лесу с молодыми волками. Опыт ко всем приходит со временем.
Одно удивило волков, почему этот запах шел от людей? Хотя… Рысь могла оказаться рядом, на елке. Ее волку разглядеть не просто. Да и кому нужна? Никто такой встрече еще не радовался. Вот и умчались, поджав хвосты, пока не поздно.
Вот и эта – старая пара убежала в глушь, унося за спиной вой и страх.
Теперь Шакал восторгается Задрыгой. Хорошо запомнила она уроки Сивуча. Да и своей головой не обижена. Грех жаловаться.
Шакал оглянулся. Хвойные лапы надежно замели лыжню. Словно никого и не было здесь, лишь ветер едва приметно скомкал снег.
– Скоро мне у нее нахвататься придется. Ну и ловка, ну и хитра Задрыга! – думает пахан, нагоняя девчонку, а та не бежит, летит к зимовью.
Ее еще с детства учил Сивуч ходить в лесу бесшумно – босиком и на лыжах, бегать и лазить по деревьям без звука, не блудить и мигом находить жилье в лесу. Она ничего не забыла.
Капка издалека увидела дом Седого. Прислушалась, замерев. Обошла, чтобы подойти сзади к зимовью. Из-под лыж ни визга, ни скрипа. Подойдя к зимовью, прислушалась. Уловила собачье рычанье и больше ничего.
– Смылся из хазы плесень. Но скоро возникнет, – сказала Шакалу, указав на заметенную метлой дорогу, добавила шепотом:
– Без коня смылся Тот в сарае фыркает. А пехом далеко не слиняет. Притыриться надо, – и приметив стог сена возле самой избы, нырнула туда, где Седой обычно брал корм для коня.
Шакал устроился рядом. Оба замерли в ожиданьи. Лыжи Задрыга сунула в снег под стог, запорошила следы.
Сколько они так простояли, Капка не знала. У нее уже начали мерзнуть ноги. Но пошевелиться нельзя. Задрыга держала в руках все, что могло ей пригодиться сразу.
Шакал стоял неподвижно, не сводил глаз с дорожки к зимовью. Вслушивался в каждый звук. И все ж первой Седого услышала Задрыга, слегка ткнула локтем в бок пахана, напряглась. И вскоре оба увидели лесника, выходившего из лесу. Он шел напрямик, через сугробы, слегка задевая стволом двухстволки ветки деревьев. Вот он остановился у дорожки, вгляделся. Пошел по ней. Снял шапку оббить снег, осыпавшийся на плечи. И Шакал вздрогнул, чуть не заматерился:
– Ведь это не тот пидер! У Седого колган седой! Этот – рыжий! На клешне татуировки нет! Мать твою! Из-за какого– то фрайера столько кентов просрал! И сам влетел, как козел! Но ведь и у этого нет пальца! – приметил сразу. И все же решил придержать Задрыгу, приглядеться.
Седой тем временем вошел в дом. Снял ружье и, взяв ведра, пошел к роднику, прихватив с собою ломик. Услышав лай собаки из избы, остановился и крикнул Тайге:
– Приморись, кентуха! Приспичило тебе, мать твою! Вот прихиляю, проссышься, стерва!
Услышав, Шакал обрадовался. Узнал бывшего пахана по фене и по голосу. Это никаким маскарадом не скрыть. И отпустил руку Задрыги.
Та бесшумно выскочила из стога. Метнула веревку с петлей на конце. Она, коротко свистнув, упала на голову лесника. Обвила шею.
Капка резко дернула веревку на себя. Лесник упал на дорожку. Выронил ведра и лом из мигом ослабевших рук.
– Ну, что? Не пофартило слинять тебе, старая плесень? – подошел Шакал к задыхающемуся леснику.
Седой глянул на Шакала глазами, полными слез. Он понял, теперь уж не уйти.
– Я слово дал тебе! Но ты, паскуда, заложил кентов и маэстро. Пятерых моих законников посеял я из-за тебя уже здесь. И четверых в Звягинках! Не дороговато – за одну суку?!
– Твоя взяла! – хрипел лесник, пытаясь сорвать петлю с горла. Но навощенная веревка была накрепко схвачена Задрыгой. Она не ослабила ее.
– Но я откинусь в своем доме! А ты, как волк, попухнешь! В капкане! Будь проклят! – понял, что к спасенью нет дороги и надежды.
Седой услышал отчаянный вой Тайги, доносившийся из зимовья и улыбнулся светло, подумав, что хоть эта тварь оплачет его смерть и пожалеет исчезнувшего навсегда недолгого хозяина. А может, это волки уже подошли к зимовью и окружают его со всех сторон, чтобы отомстить людям за убийство?
Они лишь звери. Немногим лучше людей, тех, с какими провел большую часть жизни.
А может, это мертвые кенты, их души собрались неподалеку и ждут его обратно в свою стаю?
Но нет сил встать и поспешить навстречу. Чтобы простить и стать прощенным. Не прячась, во весь рост бы побежал для этого! Но… Застрял нож в груди. Словно гвоздем прибил к снегу человека. Теперь уж не подняться, хоть вся природа заплачь человечьими голосами. Ей – чистой, где понять, что живые умеют прощать только мертвым…








