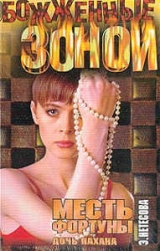
Текст книги "Месть фортуны. Дочь пахана"
Автор книги: Эльмира Нетесова
Жанр:
Боевики
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 24 страниц)
Глава 4
Седой
Его знали не только фартовые Ростова. Помнили этого человека зэки Колымы и Воркуты, Печоры и Комсольска, Сахалина и Сибири. Куда только не увозили его в казенную дорогу зарешеченные вагоны специального следования.
Сколько километров прошел он и проехал; неся на плечах, в судьбе и биографии печать рецидивиста. Она коростой въелась в уголовные дела, заводившиеся всякий раз, едва Седой выходил из зоны, после очередной ходки.
Его знала вся прокуратура и милиция. Весь угрозыск и конвой. Его помнили свирепые охранники тюрем, следственных изоляторов и зон. Он их не запоминал. Жалел голову и память.
Знал главное, основное. Мелочи отбрасывал.
Седому было шестьдесят. Может, чуть больше. Так считали все, кто знал его. Кроме клички, никто ничего о нем не слышал. Было ли у него родное имя? Его вскользь упоминали в приговорах, но почему-то не застревало в памяти. Уж очень шла ему кликуха, с какой сжился, свыкся и полюбил.
Когда он получил ее? Все законники считали, что в малине либо в зоне получил второе имя, как клеймо на лоб. И только он сам – Александр Земнухов, знал, как стал он Седым…
В тот год особо пышным цветом взялись в саду яблони. Они словно чуяли, что эта весна – последняя в их жизни, и уж коль не доведется отяжелеть ветвям красивыми, вкусными яблоками, – порадовать себя и людей напоследок нежным, душистым цветом.
В том саду, бледнея от робкой неуверенности, сделал он предложение той, какую любил больше жизни. Осмелев впервые, придержал за локоть. И признался, что жить без нее не может. Она удивленно вскинула голову. Русая коса, уложенная короной, упала на плечо. На щеках – яблоневый румянец выступил. Впервые услышала о любви. Заслушалась. Но руку свою из его руки не вырвала. Может, от растерянности.
Он тогда решил иначе. И, уговорив стариков на спешную свадьбу, чтобы другие не опередили, послал сватов. И, чудо! Она согласилась стать его женой…
Полдеревни родственников готовились к свадьбе. И только старая бабка Сашки осуждающе смотрела на внука и почему-то вымаливала для него прощение у Бога.
– Неурочное время для свадьбы выбрал. Чего торопишься, безмозглый? Чай – не девка! Не засидишься! Зачем Господа гневишь? Обождал бы, как все – зиму, мясоед! Иль обрюхатил девку и прикрыть хочешь? – глянула на внука строго.
– Нет греха меж нами…
– Тогда обожди!
– Не могу!
– Попомнишь мои слова! Наказан будешь! Не обрадуешься затеянному веселью! Пост нарушать воспрещено людям! – предупредила и уехала в соседнюю деревню к брату, чтобы не быть на свадьбе, не обидеть Бога.
Никто не заметил ее отсутствия на веселье. Все село собралось в доме Земнуховых. Гармошки, патефон – не смолкая, пели на разные голоса. Может, оттого и не услышали грохота подступившей к порогу дома войны.
Молодых уже собрались провожать в спальню, когда к дому подъехал грузовик, и люди из военкомата, не желая слушать ни о чем, выдергивали из-за стола гостей по списку. И, дав десяток минут на сборы и прощание, сажали мужиков в машину.
Земнухов оказался в списке одним из первых.
– Свадьба? Невеста не стала женой? Сейчас тебя женят! Живо в грузовик! – скомандовал мордастый лейтенант. И Сашка влез в машину, даже не успев попрощаться.
Машина привезла их в город, к военкомату. Там Земнухов узнал подробнее о случившемся.
Короткая подготовка к войне, и через две недели его отправили на передовую.
Из сводок Сашка знал, что его деревня оккупирована немцами, что враг идет к Москве.
– Как там мои? Как она? Ждет ли? Любит ли? – думал человек ночами напролет. Он так хотел скорее вернуться в свою деревню, что часто видел ее во сне.
Звягинки… Орловская область. О них в сводках отдельна! не говорили. Упоминали в числе прочих, взятых врагом,
Земнухов дольше других не мог привыкнуть к войне. Она ему казалась дурным сном. Именно потому не доходили письма до Звягинок. Не было и ответов.
К гибели однополчан война приучила. Сам не раз умирал в госпиталях, медсанбатах, дважды контузило человека. Ранений не счесть. Чудом выживал. Судьба, словно смеясь, берегла его для самого сильного удара. Он того не знал…
Он никогда не торопился так, как в те дни. Ведь война откатывала на запад, и немцы уходили, оставляя города и села.
Не дать бы опомниться, зацепиться, перевести дух, думал Земнухов и вместе с первыми танкистами въехал в освобожденный Орел.
– Деревня моя неподалеку. Всего восемь километров от города. Три года своих не видел! – говорил он командиру танка.
– Завтра там будем! Увидишь! Пока окраины города очистить надо. Слышишь? Огрызаются! – прислушался к голосу пулеметов.
В ту ночь Сашке не спалось. Слышат ли его родные, как – спешат танки очистить землю от беды? Ждут ли? Подсказывает ли им сердце скорую встречу?
Звягинки он увидел издалека. Все тот же сизый дымок над крышами, косогор, ведущий в деревню из рощицы, мелководный пескарник Орлик, в каком купался еще мальчишкой.
– Скорее! – торопил водителя. Тот усмехался:
– Лечу!
– Туда! – указал рукой на спуск. И… Сердце дрогнуло. Не поверилось.
Вместо дома – пепелище. Потрескивают теплые угли… ветер разносит пепел. Сашка глянул на сад и закричал диким голосом. На яблонях, обугленных войной, висели его мать, отец, не ставшая женой – невеста.
– Крепись, Сашок! Война – паскуда! Она – радость не приносит никому.
Какой-то серый дедок на кривых ногах подковылял приветить освободителей. Слезы в бороду роняет. Узнал Земнухова. Обрадовался:
– Не только твоих сгубили. Глянь сюда! – указал в хвост улицы, где не уцелело ни одного дома.
– И возле школы все опалили, ироды. Староста Силантий учинил расправу, нехристь проклятый! С немцами убег в Германию. Напослед поизголялся. Всех, у кого мужики на хронте, в одночасье порешил. Не один, конечно. С супостатами. Такими, как он – нехристями.
– Когда ж это он их? – не выдержал командир танка.
– Вчерась. Под вечер.
– Чего ж не похоронили?
– Кого? Я ж своих только что закопал. Восемь душ – извели подчистую. Бездомный ныне, как собака.
– Неужель помешать было некому, вступиться? – спрашивал командир танка у старика.
– Кто поможет, если люду нет? Гля, деревня, что погост. Кого не сгубили, в полон отправили, в Германию увезли. А кто прятался, своих дожидаючи, на сук вздернули. Я ни туда, ни сюда негожим стал. Для Германии – старый, для петли – дурной. Потому, видать, пулю на меня и то пожалели. Гля, сколько люду извели! Около всякого дома, беда наша. Детву и то не пощадили.
Старик всю жизнь работал кузнецом в деревне. Сашка вспомнил его. Сильный, веселый он был человек. Был… От прошлого ничего не осталось…
Земнухов обрезает веревки, снимает их. с шеи отца, матери, невесты. Всех троих рядом положил. В саду. Под яблоней. Где сделал предложение…
Дерево, потеряв в огне жизнь, стало похоже на большой черный крест.
Нет, не дождалось оно Сашкиных детей. Надгробием стало.
– С вашего роду одной лишь бабке повезло. Как немец в деревню прикатил, она и померла от горя. Враз. Ведь и не мудро. Старая была. Большого горя не перенесла, – говорил старик, вытирая слезы со щек.
– А твои дружно жили. Жена – ни на шаг от стариков. Вместе с ними на чердаке, в подвале пряталась. Тебя ждала. Кроткая, чисто голубка. Ей бы жить, – склонил голову перед могилой.
– Может, отобьют наших людей у немцев. Воротят их по домам. В деревню. Я жду. Не помирать же мне псом, возле могил. Кто-то закопать должен.
– Никого, кроме вас? – удивился командир танка.
– Две старухи еще. Одна – бывшая учителка, паралик ее разбил. Ныне не ходит. И почтарка. Та вовсе – свихнулась с горя. Я один середь их покуда.
Сашка ничего не слышал. Он стоял перед могилой на коленях. Молча, словно онемел, он не верил своим глазам в случившееся.
Хотелось кричать. Но горло пересохло так, что дышать было нечем.
Когда Сашка снял с головы каску, голова его была белей снега.
– Седой! – вырвалось у командира невольно.
Так его стали звать все однополчане и танковая бригада, с какою Земнухов дошел до Берлина.
Как воевал, как дожил до Победы, уже не помнил. Он твердо знал, его никто не ждет и не встретит. А потому ожесточился, стал молчаливым и злым. Он перестал бояться смерти. И часто первым выскакивал из танка под свист пуль. Жизнь перестала быть нужной. Жить, сцепив зубы, не всякому под силу. И Сашка глушил горе водкой. Ее он доставал где только можно. И высадив до дна, отключался на время. Потом, словно озверелый, рвался в бой.
Тот последний день в Берлине он не помнил отчетливо Услышал о победе. Увидел радость, улыбки однополчан. Его радость осталась в Звягинках, под яблоней. Она уж не порадуется, не услышит о Победе. И выпив винтом, до дна, всю бутылку водки, не помня, не осознавая ничего, схватил своп автомат.
Очнулся связанным в подвале. Рядом охранник. Не отвечал ни на один вопрос. Лицо отвернул. А утром трибунал. Приговорили к расстрелу. От него Земнухова спасла Победа. Да командир танка, единственный из всех, вступившийся за Седого
– Убийца! Мародер! Садист! – уж чего он не услышал в свой адрес и не понимал, за что его костерят.
Убил пятерых немцев из автомата. А разве не они уничтожили его семью и все село? Разве не они лишили его простого, бесхитростного счастья? Ведь он не знал их. Зачем они пришли с войной? Они ушли? Но разве кончилась война? Она навсегда осталась жить в нем. До смерти… Он не умел прощать и забывать…
Когда судили Седого, он не просил о смягчении наказания, не обещал не повторять случившегося. Он, темнея лицом, отстегнул все ордена и медали. Положил их на стол и обронил сквозь зубы:
– Подавитесь вы своей победой! Вы такие ж гады, как немцы, жаль, что нет у меня автомата!
Его вытолкали взашей. В наручниках. И втолкнув в зарешеченный вагон, повезли, как военного преступника – в Магадан…
Двадцать пять лет… Немалый срок.
Сашке было безразлично.
Он ехал, не разговаривая ни с кем, пока не подсел к нему осужденный так же, как и Седой, недавний полковник, какого даже охрана называла уважительно – Трофимычем.
Статьи и сроки их совпадали, как братья-близнецы. И горе – на одно лицо. Только у полковника жена с дочкой живы. Но… Теперь под другой фамилией. Не дождалась баба. Вышла замуж за тыловика.
А вот отца с матерью, сестру и брата отняла война. В сарае их расстреляли. Всех одной автоматной очередью. За помощь партизанам. Староста постарался. Его Трофимыч случайно нагнал. По пути в Германию. Не дал доехать. Вывел из «Виллиса», все, что хотел сказал. И расстрелял в упор… Не спросил разрешения у трибунала. Его и вернули. Уже с границы, где о победе узнал. Но без наград и звания. Не в дом – родных помянуть, на Колыму– остудить память…
Седой зубами скрипит во сне. Днем жалобы писал. Верил, что попадут по адресу. А через месяц в спецчасти узнал, что никто его писем не отправлял.
– Почему?! – взревел Седой и грохнул кулаком по столу так, что лампы и телефоны, чернильница и бумаги в разные стороны разлетелись.
– Крысы тыловые! Пока мы воевали, вы брюхо отращивали?! Да попадись мне там – всех бы в одном окопе уложил! – орал он обезумев и потеряв над собой контроль.
– В шизо падлу! На месяц! Пусть там фартовые ему мозги просифонят! – побагровел начальник зоны.
Земнухова охранники втолкнули в холодный, сырой подвал, на бетонный пол.
Здесь негде было стать. Десятка три хмурых мужиков встретили нового площадным матом. Но узнав, кто он – потеснились. Дали место сесть. Сами – на ногах остались. Отдыхали по очереди.
Поглядывавший в глазок охранник вызвал одного из фартовых, передал, для чего к ним бросили Седого. Законник послал матом, добавив, что начальник – не пахан, и даже не фраер. А вот Седой – лафовый мужик, если такого в кенты сфаловать – кайфово дышать станет любая малина.
Утром законников вывели из шизо, погнали на трассу. А вместо них шпану втолкнули. Злую, горластую, наглую.
Ох и дрался с ними Седой. По нескольку раз на день. Шпана то поодиночке наскакивала, то наваливалась кодлой даже на спящего. И однажды вывели из себя. Разбудили в человеке зверя. И Земнухов снова обезумел. Он не чувствовал боли. Он пошел напролом, как в бою. Он рвал, топтал, хватал за горло и свирепея бил головами о стены, вдавливал в углы, кромсал кричащие комки в онемелых пальцах. Он давил. За что? Шпана опетушить хотела…
Как все кончилось бы, если б не Трофимыч, взявшийся
неведомо откуда. Он вырос, как из тумана. Сказал, а может крикнул:
– Шабаш, Седой!
Земнухов припал спиной к стене. Его трясло от злобы.
– Остынь, Сашка! Возьми себя в руки!
– Да ведь это не они! Начальник зоны их настропалил! – выдал охранник.
– Ну, падла, держись! – рванулся к двери Земнухов, но двое других охранников преградили путь, втолкнули обратно в шизо.
Целый месяц просидел здесь Седой на хлебе и воде. Вышел осунувшийся, пожелтевший. Дрожали руки и ноги. Он еле добрел до своей шконки. К нему тут же пришел посланник от шпановской кодлы.
– Гони на кон все бабки! Троих изувечил. Если не уломаешься, не дышать тебе в этой зоне. Шкуру с живого спустим! – пообещал ощерясь.
Седой встал. В глазах ночь. Один раз вломил посланцу кулаком по голове и выбросил за дверь барака, мордой в снег.
Через полчаса в барак влетела шпана. Целой бандой.
И тут взъярились фронтовики, отбывавшие сроки. Они жили в одном бараке с Седым. И хотя не общались с ним по душам, лишь из рассказов Трофимыча слышали, задела людей за живое наглость шпаны.
Сорвав с болтов скамьи и шконки, молча бросились в защиту Седого.
Выбросив шпану из барака, не успокоились. Пошли громить ее хазу.
Крики, стоны, грязный мат, угрозы, все перемешалось в один клубок.
Охрана, подоспевшая в барак, долго не могла разогнать дерущихся. А когда из свалки вырвали Седого, его снова кинули в шизо.
Две недели продержали там Земнухова. И кто знает, вышел бы он оттуда живым или нет, если бы не фартовые, увидевшие, что потерял мужик сознание. Потребовали врача, тот забрал Земнухова в больницу.
Только встал на ноги, начальник зоны, вопреки советам врача, отправил его на строительство трассы вместе со шпановской бригадой.
– Держись, Седой! Не сорвись! Наши участки рядом. Чуть что, крикни меня, врубим по первое число! – говорил Трофимыч. Но… Фронтовики оказались далеко. Начальник зоны предусмотрел. И рядом поставил фартовых. Те никогда не
вмешивались в разборки шпаны, считая для себя западло разговаривать с нею.
Свалка завязалась в обед, когда Седой подошел к кухне за баландой. Кто-то вылил ему в лицо свою порцию и захохотал, что согрел честнягу,
Земнухов разглядел долговязого мужика, хохотавшего громче всех. Его он сбил с ног сразу и бросился сверху, задушить серую безмозглость. Но на него навалилась куча.
Весь перерыв разгоняла охрана дерущихся, не жалея ни кулаков, ни сапог, ни прикладов.
Старший охраны, не пожелав вникнуть в суть, заставил бригаду вкалывать сверхурочно еще два часа. На лютом холоде, оставшиеся без обеда, люди быстро теряли силы и падали головой в снег.
Случись такое с Седым, шпана воспользовалась бы и добила человека. Земнухов работал сцепив зубы.
Оглянувшись, увидел замерзающего в снегу бугра шпаны. Выдрал ломом мерзлую корягу. И, раздолбав в куски, поджег. Подтащил к теплу умирающего.
У охраны папиросы из рук попадали от удивления. Придя в себя, заорали:
– А кто вламывать будет? Пусть норму отпашет, враз согреется!
– Гаси костер, мудак!
– С кем воюешь? Помирает он. Уж никому не враг. И норму – на небе с него спросят. Как и с нас. Пусть согреется. Может, отойдет еще…, – ответил Седой.
– Чтоб тебя оттрамбовать?
– Пусть махается, если мужик в нем задышит. Покойников я нагляделся. В войну. Этот – мне не враг, – подкинул в огонь остатки коряги и пошел выковыривать из снега пенек.
Охрана пристыженно умолкла. Подтащила к теплу еще двоих, грелась и сама. А через час скомандовала шабаш.
Шпана молча озиралась на Седого. Не наскакивала, не толкалась. Его пропустили в машину первым, расступившись перед бортом.
Шпановский пахан так и не отогрелся.
Ночью он умер на своей шконке – в бараке, велев поставить бугром взамен себя – Седого.
Ему об этом сказали утром. Передав дословно все, что говорил пахан:
– Крепкий мужик. Кремень. С ним до воли додышите. Другого не ставьте. Загнетесь от глупостей. Его и своих. К Седому не прикипайтесь. На воле – в малину сфалуйте. Оборвется такое – ваш кайф! Цимес, а не пахан! Он – кайфовей всех! Так ботаю, потому что жаль мне вас. Линяю от фарта! От всех! Его не трамбуйте! И бугра зоны – не слушайте. Седой ни перед кем не лажанулся…
– Он хотел трехнуть еще что-то. Очень важное. Но не смог. Дыхалка дала осечку. Он захрипел. Зенки выкатываться! стали. И заглох, – говорила шпана, окружив Седого.
Земнухов хотел отказаться от бригадирства. Но Трофимыч, узнав обо всем, уломал, убедил. И Земнухов взялся.
С первого же дня шпана беспрекословно слушалась его. Выполняла каждую просьбу. Приказывать Седой научился гораздо позже.
С начальником зоны и с операми у Земнухова так и не сложились отношения. Они, словно стерегли друг друга, ловя и запоминая каждый промах и ошибку.
Седой не доверял им, и постоянно проверял точность учета выработки его бригады, правильность начисления заработка, обсчет выполнения нормы на каждого человека. За каждый процент и копейку ругался до хрипоты.
Он поселился в шпановском бараке и держал в руках всю горластую ораву, не позволяя ей срываться ни на ком.
– Не хрен давать повод хмырям из администрации штрафовать нас за каждый прокол! Вон, оттыздили охранника! И всех нас накололи! По десять рабочих норм сняли с каждого! А это – десять дней воли! Секете, падлы? – набирался фени Седой.
Слушая вечерами, кто за что попал на Колыму, Земнухов стал понимать, что не только его опалило горе, не он один отбывает срок ни за что.
– Шпана, услышав от самого Седого его историю, и вовсе потеплела. Зауважала мужика. И предложила, выйдя на волю, скентоваться в малину.
Земнухов и думать об этом не хотел.
– Воровать? Да я в детстве такого не умел! Случалось, в колхозный сад за яблоками пойду с ребятами, они наберут и убегут. А я обязательно попадусь объездчику на глаза. Всю жопу солью он мне изрешетит, за себя и за сбежавших. Не везло мне с этим. За цветами к соседу влез. Собака его чуть яйцы не оторвала! – отказывался Земнухов. Но воры не уступали:
– Научим! Вот гляди, как надо! – показывали Сашке хитрости и тонкости своего ремесла.
– А вдруг поймают? И опять сюда? Нет. Я работать буду на тракторе! Ведь я – танкистом был! – отказывался Седой;
– Дурак! Мудило! Тебе честь даем! Вон, Петух, тоже трактористом вламывал на воле. Не в малине родился. На свои копейки дышал. И все же влип сюда! А за что? Какому-то мудаку завидно стало. И вогнал ему пыж в масляный фильтр. Трактор и накрылся! Нет бы виновного найти – Петуха за вредительство, как врага народа, на четвертак и сюда… Трехни, он при чем? – спрашивала шпана.
– А я шофером вкалывал. На мясокомбинате. Обнаружила ревизия недостачу. И вместо того чтобы директора и охрану тряхнуть, из меня козла сделали! И тоже ни хрена не доказал. Вором ни за что назвали. Семья отказалась от меня со стыда. Дети фамилию сменили, жена замуж вышла. Вернуться некуда стало. А я то мясо раз в месяц ел, С получки. Жена покупала… Знал бы, брал мешками! Хоть теперь не обидно было.
– А я зоотехником в колхозе был. И как назло бруцеллезом стадо коров заболело. Начался падеж. Нет бы выбраковать больных коров, как я просил, их на один выпас с молодняком погнали. И… В день по три, по четыре телка дохнуть стали. Меня, как вредителя, под суд. А я что? Стадо заразил, что-ли? День и ночь лечил. Да кто это увидел? Ко мне не прислушались. Выходит, выгодно было кому-то меня убрать или подставить…
– А я – пекарь! Хлеб и булки выпекал почти двадцать лет. Весь Курск их покупал и радовался. Никто во всем городе плохого слова обо мне не сказал. Да беда стряслась. Замкнуло проводку. Сгорела пекарня и склад! Ну а я при чем? Мое дело – хлеб! За проводку электрик отвечать должен. Да только электрика у нас не было! Директор экономил. Вот и берите его за жопу. Но ведь он начальство! Сумел паскуда отмазаться. И взвалили на меня все его дерьмо! До сих пор не знаю, за что парюсь на Колыме! А у меня и заработок, и уважение не чета твоим были. Только теперь доперло, зря я чертоломил. Надо было трясти брюхачей таких, как мой директор! Он – не один, слышишь, честняга? Вся Колыма от них стонет.
Долгими ночами ворочался на шконке Земнухов. Не мог уснуть. Разговоры мужиков, застревая в памяти, не давали покоя. Он знал правдивость их рассказов. Не раз проверил,
– На фраеров вкалывать? Задохнутся паскуды! Сколько крови они из нас высосали! Вот им всем теперь! – отмерял по локоть бывший пекарь. И говорил, что первым тряхнет своего директора, как только выйдет на волю.
– Уж я на его шкуре высплюсь за каждый день на Колыме! скрипел он зубами.
– А семья? – спросил Седой.
– Чья? Моя, что ль? Нет ее! Выслали из города в Сибирь,
как врагов народа. Из-за меня! Никто не дошел. Все шестеро умерли по дороге в ссылку.
– Твою мать… – вырвалось первое сочувствие у Земнухова.
Пять лет и пять зим пробыл он в этой зоне. А на шестую – сбежал, вместе с десятком мужиков из своей бригады, договорившись с оставшимися в зоне, где встретиться на воле. Но и те сбежали в первый же буран, прямо с работы, перебив растерявшуюся охрану, забрав все ее оружие.
Беглецы встретились все вместе на Урале – в Свердловске. И, пощипав горожан, тряхнув брюхачей, поспешили покинуть враз озверевших горожан и милицию. Они вмиг забыли, что такое гостеприимство и чуткость, с ненавистью вглядывались в лица всех приезжих.
Седой еще не был в деле. Его малина держала. Одела и обула, обеспечила документами и деньгами. Он жил за счет своей шпаны.
Земнухов легко свыкался со своей новой жизнью. Приступы стыда все реже одолевали его. Совсем оставили, когда малина приехала в Курск и выловила директора хлебопекарни. Его около дома застопорили. Затащили в подворотню. Узнал он пекаря. Вначале по голосу. Когда петушить начали, вовсе взмолился. Обещал все возместить, каждый колымский день. Но не поверили. И, пропустив в очередь, раздели догола, и здесь же в подворотне задушил его пекарь своими руками, как и мечтал на Колыме. Забрав все деньги у замученного, поехали сводить счеты с остальными. Обидчиков было много. Ни одного не хотели упустить. Всех разыскали. Никто не выскользнул из рук дерзкой малины, озверевших от горя мужиков.
Земнухов тоже не оставался в стороне. Он сам себе внушил, что трясет истинных грабителей, виновников всех горестей и бед. Он резал и душил, вбивал их в стены, втаптывал в землю кровоточащие комки. Он их не жалел, потому что они не пощадили когда-то чью-то жизнь и судьбу.
Никому из них не хотелось умирать. Все были уверены, что люди, отправленные в Магадан, уже никогда не выйдут на волю. С такой статьей не доживали до освобождения. А потому никто из брюхачей не ждал мести. Она грянула внезапно.
И председатель колхоза, вытащенный ночью из дома, узнал бывшего зоотехника перед тем, как захлебнуться в навозной жиже.
И водитель машины нашел директора мясокомбината. Измордовав его до неузнаваемости, вырвал недавний зэк у директора все мужичье и затолкал еще теплым в зубы:
– Хавай, падла, до погибели! Гляди не подавись! – смеялся в лицо истекающему кровью мужику.
Седой искал трибуналыциков, отправивших его под расстрел. Их следы терялись. Потом всплывал кто-нибудь. Но оказывалось, что тоже осужден и отбывает срок. Того, кто оглашая обвинение и приговор, разыскивал дольше всех.
Он оказался живым и на воле. Неплохо устроился. Имел все. Квартиру, семью и даже дачу. Вот туда и нагрянула к нему малина поздним весенним вечером. И не стучась, вломилась в дом.
Трибуналыцик сидел у камина, читал газету в кресле, покрытом бархатом. Рядом с ним – дочь. Уже девушка. Вскинула на вошедших испуганные, удивленные глаза. На пушистых ресницах повисли росою слезинки. Она почувствовала – не с добром пришли гости.
Девушка кинулась к двери. Но ее тут же поймали.
– Куда, лярва! – содрали с нее все до последней тряпки и потащили на диван, лапая на ходу.
– Седой! Давай! Наколи ее! Хмыря придержим. Натешимся и за борова возьмемся!
– Эту отпустите! – приказал хрипло.
– Ты что, пахан? Крыша едет? А наши разве хуже были? – напомнил кто-то…
– Она ни при чем! Отвалите! – рявкнул зло.
И в бешенстве хватил трибуналыцика графином по голове, стоявшим перед ним на столике. Тот, закатив глаза, рухнул на пол. Девушка, обезумев, рванулась из рук шпаны, раскидала, бросилась к Седому, вцепилась в горло мертвой хваткой.
Кто-то из кодлы сунул ей в висок носком ботинка, сшиб с Седого.
– Ну, как? Посеял жалость? То-то! Одна у нее с ним кровь, – усмехнулся Петух, и перерезав горла обоим, вытер нож о трибуналыцика.
Перевернув всю дачу, забрав все ценное и деньги, малина, пользуясь темнотой, вскоре покинула дачу и поехала в Брянск, где жили неотомщенные обидчики тракториста.
Уже в поезде услышали, что вся милиция разыскивает банду уголовников, сбежавших с Колымы, чинящих повсюду самосуд…
Об этой банде говорили все пассажиры вагона. Рассказывали, что рецидивисты – людей живьем едят.
Седой, слушая, головой качал, злясь, что за эту вот толпу он рисковал собой на войне.
Паханом шпановской малины признал Седого фартовый сход в Одессе. И хотя в ходку он загремел не по воровскому
делу, законники зачли ему войну как испытание десятком колымских ходок. Много не спрашивали. Узнали, где воевал, как закончил и за что влип, не сговариваясь, не советуясь, признали авторитет Седого, сочли равным. Его это не покоробило. Он, отбывая в зоне, видел много себе подобных. Мало кто из них дожил до воли. Почти все жалели о том, что оставили на войне здоровье. И Седому вспомнилось:
– Знал бы о дне нынешнем, без единого выстрела в плен бы сдался, как мой сосед. Он теперь в Канаде дышит. Фермером заделался. Женился. Дите имеет. Мальчонку. Помощника и наследника себе родил – продолжателя рода. Тот уж не под плуг на коне ;– трактором свой надел вспашет. Есть достаток в семье. Немцы тоже не без головы. Видели, кого в плен брали. Только тех, кто работать умел. Вот и отправили хозяевать на необжитых землях. Теперь они – эти наделы – не только меня кормят. А и я тут уж попривык. Имею дом. Просторный и светлый. Все в нем есть. О чем в своей деревне мечтать не мог. Даже машины приобрел. Пешком не хожу. Да и куда? Мои земли за двое суток не обойти ногами. Целых триста гектаров пашни! И все мои! Под казенную, охранную грамоту их дали. Без копейки! Лишь бы холил да обрабатывал! А уж я стараюсь! И помогают мне все! Вот чудо! Налог не берут! Ничего не требуют! Семена дали. Я их воротил с урожая! Ссуду дали, чтоб скотину завел! А ни молока, ни мяса не требуют! И проценты не взяли. Теперь уж я ссуду вернул. Хочу себе самолет купить. Прогулочный. Двухместный. Чтоб сыну с высоты наши владенья показывать! Жаль, что вы их не видели. Вот бы порадовались нынче за меня! – писал сосед своим родителям в Звягинки. И порадовалась семья! Всех до единого замели в госбезопасность за связь с заграницей, с мировым капитализмом, с предателем Родины. Лишь покосившаяся изба осталась в память от семьи. Всех, даже стариков не пощадили, расстреляли в один день. Забыв, что именно из этой семьи самому младшему за переправу на Днепре было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Кроме него трое положили головы за Победу. Их жены, дети, родители недолго пережили. За единственного выжившего поплатились жизнями. Знал бы тот мужик, никогда не написал бы то письмо. А ведь всего-то, порадовать решил своих…
В Звягинках об участи той семьи все узнали. Чекисты и не думали молчать. Выжимали на колхозном собрании одобрения сельчан, но те молчали. Лишь один дедок – старый кузнец, какой остался один-одинешенек от большой семьи своей, выйдя с собрания, сказал громко, во весь голос:
– Знал бы я – старый дуралей, что все так повернется, не на хронт своих послал бы… Может, и поныне жили. И у меня теперь имелись бы живые внуки! А то ить всех убили! В своем дому! Никто не защитил! А мне на кой хрен – судьбина песья?
Наутро кузнеца не стало. Нашли его мертвым на полу, возле двери. Судьба или чекисты пожалели? Никто так и не понял. Похоронили его тихо.
А Седой, узнав о том, до хруста кулаки сжимал. Все понимал.
Может, потому никогда не слушал радио, ненавидел газеты и книги. Не терпел государственных праздников.
В те дни его малина особо усердно трясла горожан, потроша карманы и сумочки демонстрантов, торговок, кассы магазинов.
Он жил за счет своей малины, какая росла с каждым днем.
Поначалу Седой радовался каждому новому кенту. Чем больше воров в малине, тем солидней навар, толще общак, больше уверенности в завтрашнем дне. И Земнухов все глубже втягивался в жизнь воров.
Он уже побывал во многих делах. Научился воровать не хуже профессионалов. Все реже вспоминалось ему прошлое, все меньше допекала совесть. Он умел не только украсть, а и отнять, вырвать из рук, оглушив при этом жертву. Когда на него наскакивала милиция – Земнухов был беспощаден. Он, словно сдвинутый, бросался на нее. С ножом и с кулаками, со свинчаткой и спицей. Он мстил за свое отнятое и оплеванное. Он никогда не щадил милицию и не оставлял ни одному шансов на жизнь. Он сам убивал милиционеров, наслаждаясь их предсмертным стоном, криками. И вскоре за ним увязалась слава махрового садиста.
Но именно это помогло ему вступить в закон. Фартовые, наслышанные о Седом, заставили Земнухова поклясться на собственной крови из пальца, что никогда он не поднимет руку на своего – законника. Не ударит, не замокрит, не предаст. И Седой, стоя на коленях перед маэстро, ел землю, перемешанную с кровью. Клялся. Дал слово на большом сходе – держать закон, быть честным вором.
Нет, эта клятва на крови не была пустой. Нарушивший – карался тут же, свирепо. Свои не пощадят…
Седой тоже не имел жалости. Вот только одних не разрешал трясти – инвалидов войны. К ним он, под страхом немедленной расправы – приказал своим не прикасаться. Таким велел подавать не скупясь. И малина, помня один случай, выполняла требование пахана.
А Земнухов однажды сам увидел, как кент его малины позарился на милостыню безногого нищего, тот сидел в каталке. Вся грудь в орденах. Он побирался на Ленинградском мосту в Орле, с утра до ночи. Люди жалели калеку и подавали щедро. Вор, увидев полную шапку денег, схватил ее. Калека поднял крик. И тут же был сброшен с моста в реку – холодную, глубокую Оку. Вор не знал, что пахан рядом и увидел случившееся.
Седой нагнал его тут же. Сдавил за горло онемевшей от злобы рукой, сорвал с моста ошалевшего и кинул через перила моста в реку, следом за нищим. Кент утонул сразу.








