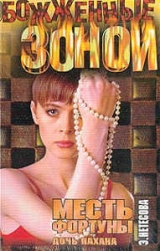
Текст книги "Месть фортуны. Дочь пахана"
Автор книги: Эльмира Нетесова
Жанр:
Боевики
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 24 страниц)
Задрыга не боялась никого, кроме змей. Это знали все мальчишки и нередко брали Капку на испуг, забрасывая ей за шиворот и за пазуху ужей. Задрыга орала не своим голосом, пока не освобождалась от холодной, ползучей мерзости. Она избивала ребят за эти шутки так жестоко, что многие потом неделями не могли встать на ноги. А когда к ней, зарытой в земле, подполз в подвале уж, Капка подняла такой крик и вой, что Сивуч принес в подвал ежей, чтобы те расправились с ползучими гадами. Но Капку после этого невозможно было загнать или заставить заниматься в подвале. У нее начиналась истерика.
Вот и теперь стоит Задрыга, продохнуть не может. Гадостное чувство брезгливости и страха овладело девчонкой, она озирается на плотно закрытую дверь в Мишкину комнату, никак не может вспомнить, зачем она здесь оказалась? Ее всю трясло.
Задрыга открывает дверь в спальню Сивуча, чтобы перевести дух и успокоиться. Глянула под ноги, чтобы не наткнуться на змею. Потом вперед, на койку старика, и онемела…
На нее, не моргая, смотрел Сивуч. Связанный крепкими веревками, с кляпом во рту, он лежал не шевелясь.
Задрыга вырвала кляп, разрезала веревки, тронула старика за плечо, позвала, стала тормошить. Она знала его. Сивуч всегда спал с открытыми глазами, и это не испугало. Молчит? Посинели пальцы? Но это от веревок. А не говорит потому что потерял сознание. Воды! Срочно воды! Мчится девчонка вниз за кружкой. И вскоре льет в рот старика по капле. Массирует горло, иссушенное кляпом.
– Дед! Одыбайся, падла! Ну, вякни хоть что-нибудь, плесень мокрожопая! – теребит Капка старика. Но тот не шевелится, не говорит.
– Знаю тебя, козла! Испытываешь меня! – Задрыга перевернула старика на живот, положила подушку под грудь. Изо рта, из носа Сивуча потекла сукровица на полотенце, потом изо рта вышел большой черный сгусток запекшейся крови и из груди словно вздох вырвался.
– Дед! Старый черт! Иль зенки проссал, не видишь, что я прихиляла? – терла спину, разогревая легкие.
Она массировала горло, и из него вываливались комки.
– Дед! Вскакивай на катушки! Я возникла! – ворочала Сивуча во все стороны, заметив, как одубелое тело словно оттаивало, становилось податливее.
Капка, забыв о змее, пережитом страхе, затопила камин, поставила чайник с водой на печь. Затопив и ее, вскипятила воду, приложила грелку к груди и до нее донесся слабый стон, глухой и далекий.
– Сивуч! Дыши, паскуда! – взялась прокачивать сердце, как когда-то учил он ее. И услышала тяжелый вздох. Старик внезапно дернулся.
– Одыбался, козел! – обрадовалась Капка, заметив, что Сивуч смотрит на нее.
– Это ты? Задрыга! – спросил неузнаваемо изменившимся голосом.
– Я! Вот возникла к тебе, а ты канаешь! Дрыхнешь, как потрох! – не хотелось ей теребить душу старика.
– Капитолина! Дай тебе Бог за доброе! Только оно уж мне ни к чему! Не стоило из ожмуренья выдергивать! Зря ты это отмочила! – сказал с горечью и закашлялся надсадно, надолго.
Задрыга чай принесла. Укутала плечи Сивуча одеялом.
Тот, обжигаясь, пил чай, мелкими глотками, оживал. И, вдруг, что-то вспомнив, стал оглядываться вокруг. В глазах страх заметался:
– Где эта?
– Кто? – удивилась девчонка.
– Гадюка?!
– В Мишкиной комнате! Я ее закрыть успела! Она чуть не укусила меня! А напугала до смерти! – призналась Капка.
– Ее Пузырь для меня в лесу попутал. В банке держал. Пытку мне отмочил. Голодом змеюку держал. Чтоб злей была. И мне, связанному, в катушки приморил. Мол, станешь дергаться, она, как лягавый, застремачит тут же. Пернуть не успеешь. А связанный, с кляпом в пасти, долго не продышишь!
Вот и станешь откидываться трижды – враз. От кляпа, от гадюки и от страха! То тебе за Задрыгу и Шакала, за то, что кентовался с ними! Нюх посеял, с кем стоило фартовать! Не один он был. Тот – второй – под сажей. Я его так и не узнал…
Лимон… Обоих уже замокрили. Три дня назад. Боцман и Таранка ожмурили.
– Три дня? Так-то долго я морился? – изумился дед собственной живучести.
– А я, когда тебя приметил, подумал, что и ты откинулась. Жаль стало, что так рано слиняла с бела света!
– Я змеи-паскуды струхнула! Она уже у ходули приморилась! Я как заблажила! Она, верняк, откинулась оттого!
– Глухие они к человечьему голосу! – согревался Сивуч понемногу, пытаясь встать на ноги.
И вдруг затих, прислушался:
– Кажется, возник кто-то ко мне, – сказал тихо и велел:
– Притырься! – сам рукой под матрац полез, достал финку. Ждал, кого принесло в этот раз? Знал наверняка, спасенье дважды не приходит. А значит, вновь кто-то за его погибелью.
Капка спряталась за спинку койки. Она уже отчетливо слышала шаги по лестнице. Сразу поняла, идут двое. Вот они открыли дверь первой комнаты. О чем-то глухо поговорили. Подошли ко второй, потом открыли третью дверь. Вошли. И Капка с Сивучем услышали дикий крик:
– Падла! Сивуч! За что?
Капка хотела выскочить, но старик удержал. Сам пошел к двери, открыл резко. Шагнул в коридор. До Задрыги донесся глухой стук паденья. Она пулей вылетела из комнаты. Увидела Сивуча, лежавшего на полу, он едва удерживал руку мужика, навалившегося грудью на старика. В руке у него был финач.
Капка выбила финку ногой. Врубила по темю непрошенному гостю, помогла встать Сивучу и в ту же секунду отдернула его на себя, увидев, как из Мишкиной комнаты целится из нагана в старика какой-то мужик, сидевший на полу. Возле него, извиваясь черными кольцами, подыхала гадюка.
– Не ссы, Задрыга! Он откидывается! Эта падла нашла его. Не слинял. Он, паскуда, мне погост готовил. А сам попух, как последний фрайер! Гадюки тоже знают, кого жмурить! Хиляем вниз! Он уже встать не сможет. Хана! Откинется скоро. У всех змеев осенний яд – самый борзой! – хрипел Сивуч горлом.
– А этот как? – указала Капка на мужика, какого сшибла с Сивуча.
Старик подтянул его за ногу, подальше от двери. Вместе с Капкой связали его.
– Пусть оклемается. Я с ним потрехаю! – пообещал бывший законник и медленно опустился вниз по ступеням в гостиную.
Он сел к камину. Задрыга, как когда-то давным-давно, устроилась рядом:
– Кто они? – спросила Сивуча.
– Все те же! Малина Тарантула! В то время, когда тебя в ломбард брали, эти двое – в ходке были. Нынче на воле. Да вот без понту! Месть, она не всегда кентуется с законниками, Капризна! Вот и крутит фартовыми, как сама хочет, – рассмеялся тихо, и глянув за окно, обронил:
– Твои прихиляли! Черная сова! За тобой. Заждались кентуху! Видать, в малине ты не последняя, коль спохватились и возникли. За гавном – не нарисуются. А тут, гляди, трое прихиляли! – хмыкнул довольно.
Задрыга, как ни вслушивалась, ни один звук не уловила. За окном все тихо, спокойно. И вдруг внезапно рванулась дверь нараспашку, на пороге стоял Шакал, бледный, глаза его горели зелеными огнями:
– Кукуешь? Твою мать! Я что тебе вякал? – подошел к Задрыге.
– Отвали, пахан! Так надо было! – вырвала из-под его руки свое плечо Задрыга. И только хотела рассказать о случившемся, наверху раздался выстрел.
– Кто это у тебя? Зелень дрочится? – глянул Шакал на Сивуча.
– Тарантулы… Все они. Из-за них Задрыга тут канала, – отмахнулся Сивуч.
Боцман и Глыба, пришедшие с Шакалом, мигом бросились наверх, оттуда вытащили связанного фартового и застрелившегося, не выдержавшего мучений, распухшего до неузнаваемости мужика.
Когда связанный кент пришел в сознание, Шакал велел Боцману развязать и спросил глухо:
– Тебе Пузырь ботал, что мы вашу шоблу-еблу из тюряги достали?
– Вякал, – ответил законник.
– Чем же задолжали, что Сивуча замокрить хотели?
– Пахан велел.
– Ты, курвин выблевок, не темни! Иль мозги посеял, что твой пахан уже три дня в жмурах канает?
– Его слово – дышит!
– Ты, падла, к пахану под бок набиваешься? Хиляй! —
распустил в один миг живот снизу доверху. И обтерев нож об одежду еще дергавшегося законника, вложил за браслет и, указав на лесок, сказал своим коротко:
– Забросайте козла!
Капка, едва кенты унесли в лес умирающего, помыла пол. Словно ничего и не случилось в гостиной. Вот только Сивуч грустил. Жалел, что выжил непонятно зачем и для кого?
– Мы думали, лягавые попутали Задрыгу! – признался Глыба Сивучу.
– А я возник не потому! Думал, чьим кентелем подавилась наша лярва? Главного лягаша? Иль следчего мента? – хохотал Боцман, когда второго жмура закопал в леске подальше от дома и памяти старика.
Глава 7
Встречи
Медведь, увидев Шакала, приветливо потянулся к пахану, обнял за плечи.
– Долго ж ты с ними разделывался. Думал я, что на обоих недели много будет! – говорил смеясь.
– Лягавого я пришил! Седого пока не искал. Только из Ростова возник. Твои кенты надыбали его, как я просил?
– Как ты слинял, Седого видели в Орле. Тамошние законники, хотели угрохать сами суку, но не пофартило. Слинял шустро, ровно почуял, падла! Сдается, что он с тех мест. И приморился неподалеку. Там его дыбать надо! В других местах – не возникал, пропадлина!
– Орел?! Хреновое место! Но это от меня близко! – обдумывал свое пахан. И сказал Медведю:
– Лягавого я размазал! Значит, половину из тех владений, что мне отданы были – верни! Моим кентам дышать надо! Малина уже вдвое вымахала! В Брянске тесно стало. Трудно дышать. Отвали что-нибудь пархатое! Чтоб мои законники на подсос не сели! С Седым я шустро справлюсь! Это не лягавый. Его никто не стремачит.
– Седого в Орле законники пасут. Если ожмурят они – твою долю им отдам! – ответил Медведь.
Шакал усмехнулся криво:
– Ты отдашь, если я сфалуюсь! Допер? Мое это, мое! Любому глотку порву до лопухов! – побледнел пахан.
Медведь вплотную подошел:
– На меня хвост поднимаешь, кент? Зря духаришься! За Седого я тебя от ожмуренья вырвал! Иль посеял память? Так мне сход созвать, что два пальца… Хиляй! Чего возник, коль дело не провернул? Ты не на паперти! Покуда обещанное сходу
не справишь, ко мне не возникай! – свирепел Медведь, глядя на Шакала наливающимися кровью глазами.
Пахан, вскинув голову, пошел к двери не прощаясь.
Этой же ночью, вместе с Задрыгой и Пижоном, уехал в Орел.
Город славился тем, что ворюги здесь жили на каждом шагу. Ими кишел городской базар и барахолка, в каждом магазине, пивбаре крутились воры всех мастей, любого возраста. От замухрышки карманника – чумазого пацана, до лощеного медвежатника. Убогие с виду старики-наводчики, подрядившись старьевщиками, собирали тряпье в подъездах, присматривая, кто как живет и давали «наколки» домушникам, форточникам, голубятникам, получая от них свой положняк за сведения.
Около магазинов, прозванных горожанами «ряды», была своя воровская биржа. Тут уламывали в малины кентов, вернувшихся из ходок, здесь отдавали положняк ворам, тряхнувшим либо замокрившим кого-то на заказ. Отдавали долю с дела, обговаривали новые дела, продавали украденное, заодно трясли карманы и сумочки горожан, пришедших за покупками. Здесь клеили в шмары фартовым. Тут пропивали и навар с дела, чью-то душу…
Милиция боялась подойти к огромной толпе мужиков, где получить нож в спину проще, чем высморкаться.
Нередко среди дня тут раздавались крики:
– Помогите! Держите вора! Спасите! – милиция свистком созывала своих на чей-то зов. И когда подскакивали оперативники на зов, толпа мужиков рассыпалась, а на асфальте дергался в последних конвульсиях кричавший недавно человек.
– Кто убил?
Да кто сознается? Найти в этой кодле виновного все равно, что в стогу найти иголку.
Когда милиция начинала наступать на горло кому-нибудь, ее попросту брали в тесное, непробиваемое кольцо, в каком глохли все крики, стоны, жизнь.
Орловский люд был хорошо знаком ворам своею злобой, скупостью, злоязычием.
Здесь выкинуть из очереди ребенка или старика, обругав их при этом площадными словами, было привычным делом. Если посмел огрызнуться, наваливались дикой сворой и били так, что шансов на жизнь не оставалось.
Даже воры на своих разборках так не свирепели. Горожане в расправах были много круче.
Опозорить, обозвать матом женщину или девушку никто
не стыдился. Здесь пощечины и оплеухи раздавались чаще приветствий. В очереди забывали о соседстве и родстве. Каждый помнил о своем брюхе. А уж если в очереди ловили вора или воришку, его втаптывали в асфальт всей сворой.
Неважно, украл кошелек или копеечную булку, толпа яростно выдавливала грязными ногами душу из пацана-сироты, и из здоровенного мужика, разнесенного яростной толпой в кровавые куски. Кто больше виноват – вор или убийца? О том никто не задумывался.
Иногда тут случались жестокие стычки между ворами и озверелой очередью. И тогда шли друг на друга – стенка на стенку. Мелькали кулаки, сумки и колени, ножи и финки. Даже колья и арматура! В драку лезли даже старухи, нередко путая воров с теми, на чьей стороне влезла в драку.
Пуки волос, клочья одежды, кровь, втоптанные в грязь платки и шапки, рассыпанные папиросы и куча синяков, изукрасивших лица до неузнаваемости, были непременным итогом этих схваток.
Кого-то уносили в неотложку санитары, других с выбитыми зубами и переломанными ногами – уводила родня или соседи. Те, кто уходили с побитыми физиономиями, исчезали в проулках, подальше от глаз прохожих.
Воры в таких свалках не забывали свое – чистили карманы очереди смелее обычного, срывали с потных бабьих шей цепочки и кулоны, часы и кольца, заодно щупали, тискали, заголяли дерзких горожанок, рвали кофты на груди. Случалось, примечали, какая где живет. И ночью ловили в подворотне. Там, заткнув рот, сдергивали с бабы все барахло и тешились – в свою очередь мстя ей за каждую пощечину и оскорбление, нанесенные днем.
Конечно, пархатых в этом городе было мало. Люд орловский жил бедно, голодно. От того и злобился по всякому поводу. Горло было шире головы, оно всегда опережало разум, а потому считалось издавна, что орловский люд думать не умеет. Не дано ему такое от Бога. Оттого, кто чуть отличался, покидали этот город навсегда. Жить здесь, считалось, нормальным людям невозможно.
Казалось, именно сюда собрались все пьяницы и лодыри, горлохваты и пройдохи, воры и убийцы.
Но какая бы дурная слава ни плелась шатающейся походкой за этим городом, была у него и другая жизнь, своя история и свои ценности, оправданная гордость и чистое имя. Но это уже не интересовало городской сброд, именуемый себя шпаной, и городские малины, какие нередко махались друг с другом из-за какого-то пархатого дантиста или абортмахерши.
Оглядев эту толпищу возле торговых рядов, Шакал сморщился. Бедность и скудость сквозили в одежде, наложили свой отпечаток на лица фартовых.
Пахан заговорил с ними о Седом.
– Кто знает его? Где канает кент? Часто ли тут появляется? С кем фартует?
– Седых здесь трое канает. Тебе какой? – оживился гнилозубый старикашка-щипач.
– Фартовый! Законник!
– Они все фартовые! Все блатные! Ты харю нарисуй!
– У него на клешне наколка прощенья! – вспомнил Шакал.
– Чево? Ты, что, кент? Мозги у тебя поплыли не в ту степь? Да какому законнику твое прощенье надо? Иль заблукался ты, иль из фраеров? – прищурился дедок.
– Седой из Звягинок! – вспомнил Шакал и добавил:
– На войне танкистом был!
– Может, я у самого Махно в казначеях канал! Чем хуже! Ты вякни, нынче он фарцует или скокарит, а может, в законных – честных ворах дышит?
– Законник! – подтвердил Шакал.
– Середь этих нет Седого! Раней был. Да замокрили кенты надысь. Чтой-то не по кайфу отмочил. Его и угробили. Был и нету, – рассмеялся частым, токающим смешком.
– Замокрили? А кто? – похолодел пахан, оглядев кишащую толпу воров.
– А ты кто? Лягавый или следчий?
– Законник! Из Брянска! Мне б кого-то из паханов! Кликни!
Вскоре к Шакалу подошел плотный мужик, одетый в костюм. Он оценивающе обшарил глазами Шакала. Спросил глухо:
– Что надо?
Узнав, что интересует пахана, припоминать стал. Позвал еще двоих законников. Те при слове Звягинки что-то припомнили:
– Был такой кент! Он после ходки в гастроль тут возникал. Ну его малине здесь вломили. Смылись. С тех пор не нарисовался тут. Может в отколе канает, от фарта отошел? Иначе б от нас не смылся! Это верняк!
– Шмонай в Звягинках своего кента. Тут недалеко. Восемь километров! Любая попутка за склянку сфалуется, – посоветовали Шакалу, и тот понял, придется ему искать Седого самому.
Но прежде чем последовать совету орловских воров искать кента в Звягинках, решил обдумать все.
Ведь появись теперь в деревне, это значило зажечь на себе фонарь – не. просто в гости собирался. А в деревне всяк друг друга знает. И уж коль пришел гость, а после него хозяина найдут мертвым, на кого укажут? Положим, успел бы уйти от погони. Но вдруг у Седого семья? Хотя и это не помеха, но искать его в деревне по дворам – смешно! Деревня всякому свои клички дает, отличные от фартовых. А что если его однополчанином прикинусь? Вякну, что имя забыл, мол, Седым на фронте звали. А может у них таких вот, как он – полдеревни? Ну да я его знаю. Может, не сразу угроблю. Приморюсь дня на три. Выберу момент. Смолчу, зачем возник. Не расколюсь! Хотя вряд ли его испугаешь или проведешь, Седой– тертый ферт! Таким его все неспроста считают…
Шакал вечером подсел к окну перекурить, поговорить с Пижоном и Задрыгой, посоветоваться, где искать Седого.
Пижон предложил двух сявок за магарыч уломать на поиски Седого.
– Половину башлей в задаток дай, остальные – когда надыбают прохвоста! Они – за пару дней из могилы зубами выковырнут! – предложил Пижон смеясь.
– Седой сфалует их трехнуть, кто его шмонает? Те вякнут! Он допрет – Шакал! Додует, зачем. И тогда – ищи-свищи его! Не на халяву он от законников смылся! – усмехнулась Задрыга. И добавила:
– Самим надыбать надо.
– Надо вякнуть, что должок вернуть хотим! Я буду трехать с шестеркой! Обрисует Седому, тот не допрет. Поверит. Или его бывшим кентом прикинусь, – предложил Пижон.
– Вот если бы Заноза с Фингалом его шмонали, им Седой поверил бы! – обронила Задрыга.
Шакал, услышав, сразу задумался. Умолк надолго. Этот вариант стоило прокрутить. Ему он показался самым надежным и беспроигрышным…
…Александр Земнухов уже на следующий день узнал о смерти маэстро, кто и как убил его. Слышал, что устроили в Ростове законники. Понимал, что будет сход. Был уверен, что на нем законники поклянутся убить виновного в смерти маэстро и законников. Ему не стоило говорить, как будут искать по всем городам и весям – его и Семена…
Седой слишком хорошо знал цену фартовым, знал, головы не пощадят, но решение схода выполнят. Сам таким недавно был. Потому не надеялся и не поверил бы, что из-за наколки, поставленной на руку – фартовые откажутся мокрить его. Наоборот – по ней найти легче. И Шакал, чтобы сберечь свою башку, сам вызовется ожмурить Седого.
Земнухов давно все это обдумал. Он не боялся смерти. За свою жизнь не раз умирал. На войне и в зонах… В мусориловках и на разборках. Сколько раз ему хотелось умереть, покончить счеты с врагами и друзьями, простить и забыть все обиды разом. Но жизнь словно за пятки держала его зубами и не отпускала на погост, вешая на плечи все новые горести.
Вот и тогда, вернувшись в Звягинки ранним утром, подошел к месту, где стоял его дом. А там – новый построен. Большой и просторный. Лупастые окна, как любопытные глаза ребенка на дорогу уставились. Что им до чужой судьбы, до сгоревшего в огне войны – прошлого?
Не уцелела и яблоня, под какою семью похоронил. Новый, молодой сад цвел и пел, заливаясь соловьиными трелями. Здесь жила новая весна. Выжившая, сильная.
Седой, роняя серые, пыльные слезы, повернулся спиной к чужому дому.
– Дяденька! Вы кого ищете? – прозвенел со двора детский голос.
– Своих искал.
– Вон мамка идет с выгона! С ней поговорите! – подошел конопатый малец и, став рядом, указывал обкусанным пальцем на русокосую женщину, спешившую к дому.
Женщина, узнав, что перед нею бывший односельчанин, пригласила его войти в дом.
– Где же так долго скитались? Ведь все наши фронтовики, кто с войны вернулся, давно поотстроились заново. В хороших домах живут. Им свет и топливо бесплатно.
– Они – домой вернулись. А меня – на Колыму упекли, – рассказал хозяйке, за что попал в Магадан. Та руками всплескивала сочувственно, жалела односельчанина. Накрыла на стол, уговорила поесть.
– Вот бедолага! – сетовала хозяйка. А в это время к дому подходили стайки ребятишек, любопытный деревенский люд, прослышавший от сына хозяйки о возвращении в Звягинки Александра Земнухова.
Пришли и те, кто хорошо помнил эту семью. Узнав Александра, обнимали, как родного.
– Весь белый стал, Сашка! Видать, горя много хватил. Но и мы его нахлебались до макушки. Уже в вагоны нас затолкали, чтобы в Германию увезти. А тут партизаны рельсы раскурочили. Поезд и не смог увезти дальше Белоруссии. Выгнали нас из вагонов пути починить. А партизаны опять налетели. Побили весь конвой. И нас в лес забрали. Много народу вызволили они тогда, и в тот же день мы пошли обратно, к себе. Партизаны нам проводника дали. И мы через
пару Недель в хаты воротились. Немца уже выбили наши бойцы. Стали и мы заново на ноги становиться. Трудно было, а надо. И за погибших, и за невернувшихся – калеки все отстраивали, да бабы с детьми помогали, – глянула на Земнухова с укором.
– Вам партизаны помогли. Мне некому было помочь, – опустил голову.
– Партизаны нам – :раз в жизни помогли. А сколько горя от них натерпелись! Как и от фрицев! – заткнула в испуге рот рукой деревенская почтальонка. И огляделась по сторонам.
– А че рот заткнула? Правду сказала! Чего пужаться! Было прискочут с лесу – пах-пах – по немцам и по старосте! Те, оглянуться не успеют – партизаны сбегли! Их по хатам ищут, всех переворачивают. Не найдут – начинают шерстить тех, у кого мужики на фронте воюют. Так-то полсела, считай, из-за этих партизанов – не стало. И твоих бы не тронули, если б не те пукачи!
– Мало людей из-за них убивали, а сколько харчей они отняли у нас? Немец забирал, но не подчистую. Оставлял что– то. Эти партизаны все отнимали. До последнего куска. Детям ничего не оставляли. И харчи, и тряпье. Не дашь – избу подпалят. Вот тебе и защитники! Мы их не меньше немцев боялись, – говорила старуха.
– Было, убили одного старосту. Мы его сами упросили в холуи. Свой ить, Не забижал. Вступался за всех. А его стрельнули. И написали – смерть предателю! За этот партизанский наскок фрицы троих повесили. Невиновных! И своего старосту привезли! Во, злой змей был! Как партизан! Тоже под ружьем жратву отбирал! – вспомнила колхозная сторожиха военные годы.
– А сколько наших мужиков после войны позабирали энкэвэдэшники, знаешь? Их семнадцать вернулось живыми. И только один – целый! Остальные – кто контужен, кто ослеп, другие без ног и рук, глухие. И что думаешь? Троих не тронули. Не добрались, не успели. Остальных – за задницу и в воронок.
– Этих-то за что? – не поверил Седой.
– Троих за то, что в плену были у немца. Федьку и Петра – сынов председателя сельсовета, за переписку с французами. Никого не стал слушать, что воевали вместе на нашей – орловско-курской дуге! За связь с заграницей шпионами обозвали обоих. Правда, Федька вовсе слепой был. Осколки глаза повышибали. А Петька до самой задницы безногий. Они, окромя как своим семьям, никакой загранице не были нужны. Какие с них шпионы, если нужду свою сами справить не могли?
– А Никифоровых ребят. Всех троих увезли разом за то, что хвалили заграницу за чистоту и порядок! Что же тут от буржуазной идеологии, иль жить в чистоте – преступленье? – возмущался старик-пчеловод.
– Обидно, что всю войну прошли, здоровье отдали хронту, окалечены, а страна их – вона как!..
– Это уж кто-то донес! – сказал Земнухов.
– Понятное дело, стукачи завелись. Да мы их на чисту воду вывели! Кто ж терпеть станет? Это новый сельсоветчик! Тыловой кобель! Его на блядстве поймали и сдали властям. Враз тихо стало. Но опять подсунули! Бухгалтера! Его на афере попутали и свою послали на курсы. А нам участкового. И опять горе! Этого всем деревенским сходом выгнали с села! Кругом негодяем был!
– А из тех, кого забрали, кто-нибудь вернулся? – спросил Земнухов.
– Пятеро! Едва не расстреляли их! Ну да едино, пожили совсем мало. За год – один за другим померли. Остальных – никто ничего не сообщил, хоть и запросы посылали. Все молчат, как онемели! – возмущался счетовод колхоза, аккуратный, маленький старичок.
– Ну, а ты, Сашок, чем теперь займешься? – спросил конюх Илларион.
– Небось, специальностев у тебя – полны руки? – не дождался кто-то ответа.
– Присмотрюсь. Без дела не останусь. Мне б только с жильем устроиться. Похожу, прикину, решу, чем займусь. Я ж на войне танкистом был. Сумею на тракторе работать! – говорил Земнухов.
– А нам механизаторов так не хватает! У них й заработки, и доплата к концу года! Каждый тракторист в Звягинках на дорогом счету! – застонал счетовод.
– Вот так здорово! Целое колхозное собрание устроили, а меня не позвали! – шагнул в дом председатель колхоза. Его последним известили о возвращении Земнухова.
– Где ж тебя до сих пор мотало по свету? – спросил, как выстрелил в лоб.
– Это точно, что мотало! Но о том мы после поговорим. Все ж прибило к своей деревне. Вернулся доживать на родной земле! – с трудом вспоминал нормальную речь Земнухов.
– Трудовую книжку, паспорт, военный билет давайте сюда! Завтра мы вас пропишем, поставим на учет. Устроим. И живите себе на здоровье! Работайте! Глядишь, хозяйку приглядите себе! А друзей искать не надо – все Звягинки – ваши!
Председатель колхоза все еще ждал, когда Земнухов даст
ему документы. Но тот сделал вид, что не заметил протянутой руки.
И человек, сконфуженно потоптавшись, вышел из дома, решив, что не хочет Земнухов спешить с обустройством, а может, приглядеться хочет. И, покраснев за свою торопливость, пошел в правление, выкинув из головы этого приезжего.
– А ты, Сашок, не турбуйся! Хочешь, у меня поживи, оглядись, присмотрись, покуда что-то выберешь! – предложила доярка Акулина.
– Я одна живу! Дети по институтам разъехались. Мужик помер давно. Сама управляюсь всюду! Глядишь, подсобишь когда-нибудь. Платы не надо. Хоть живая душа будет рядом, словом перекинуться! – предложила все сразу бесхитростно.
– Почему к тебе? Пусть сам выберет! Может к любому пойти! Никто не откажет! Не чужой он нам! Свой! Родная кровинка! – обиделся счетовод.
– Ко мне его! – подала голос румяная бригадир полеводов – Ксеня-
– А почему не ко мне! – встала птичница Варвара.
Седой рассмеялся и сказал:
– Можно я сам выберу? – и указав взглядом на Акулину, добавил:
– Она – первая позвала! От всего сердца. Не обессудьте! – и поблагодарив всех за доброе, вышел следом за дояркой из дома.
Седой шел за бабой знакомой с детства улицей. Детвора, выскочив из домов, приветливо улыбалась незнакомому земляку.
Александр шел понурив голову, о своем думал, что надо набраться смелости и позвонить Семену, чтобы простил, а может и порадовался – за него – за Саньку…
Мучило! его и то, что не было у него трудовой книжки. Да и откуда ей взяться? Не имел и военного билета. Семен обещал все это уладить. Но теперь уж не захочет о том говорить. Расставанье оказалось паскудным. И все ж нельзя до конца жизни в молчанку играть, думал Земнухов и ранним утром уехал в Орел, чтобы переговорить с Семеном. Вина перед ним не давала покоя. Он знал, что Семена успеет еще застать дома телефонный звонок.
Он поднял трубку на первом гудке. Сразу узнал Сашку по голосу. Не удивился, будто все это время ждал звонка от Седого. И очень обрадовался, узнав о возвращении Седого в Звягинки.
– Сегодня спецпочтой вышлю твои документы! Начинай
заново, Сашок! Это никогда не поздно! Я – рад за тебя! Держись!
Земнухов походил по городу. Все в душе пело. Семен его простил. Он сможет жить человеком. Заново. Среди своих сельчан…
– Эй, кент! Не узнаешь своих? – услышал голос сбоку. Трое законников обступили на глухой улице, со смешным названьем – Первая Пуховая.
– Валяйте от винта! Я завязал с фартом! Доперло, козлы? – сжал кулаки Седой.
– Ты – в откол? Суку – в жмуры! Так паханы на сходе решили!
– А у меня – привет всем вам! – показал наколку на руке. Законники внимательно вгляделись, узнали почерк, отступили матерясь.
Седому сразу захотелось в Звягинки, скорее из города, от прошлого.
Через час он уже вернулся в дом Акулины.
Земнухов понимал, что документы придут через несколько дней. Значит, надо подождать. И решил отсидеться в Звягинках.
Он не смог усидеть дома без дела, видя, как с темна до темна надрываются на работе люди. Акулина и впрямь почти не бывала дома. С последней дойки возвращалась затемно. Крутилась возле корыта, печки, убирала в доме, ей было недосуг присесть, поговорить. Когда начинала валиться с ног, ложилась в постель разбитая, усталая.
Земнухов, отвыкший от домашних забот, не знал, чем и как помочь бабе. А тут еще соседи головами качают:
– Хоть бы дров нарубил! – И взялся. Вначале не получалось. Отвык. Натер мозоли. На третий день – словно вспомнилось все. Даже поленницу выложил. Подмел двор. Проверив ракитной веткой землю за домом, как делал отец, взялся копать колодезь, чтоб не ходила баба по воду на речку. Далеко и тяжело. Пусть своя вода будет.
Едва выкопал, выложил кирпичом, обмазал, чтоб не осыпалась земля, не мутила воду, отвалил, поднял наверх – на сруб, булыжники, сдерживавшие воду, бившую из глубины холодными ключами, почтальонка принесла заказной конверт из Ростова.
В нем было все… Даже письмо от Семена. В нем он благодарил Седого за помощь и советы, за каждую консультацию:
– Ты, знаешь, нам удалось убрать самого гнусного негодяя! Маэстро! А с ним – его охрану – отпетых рецидивистов! Ты все верно высчитал. И, хорошо, что помнил номер машины! Жаль, живьем взять не удалось. Зато не будут они грабить и убивать тех, за кого мы с тобой – воевали! Зря дал ты сбежать Шакалу. Но, я думаю, недолго он на свободе походит. Поймаю его! Живым или мертвым – не отпущу!
– Маэстро убили! – ахнул Седой. И к горлу подкатил комок страха…
Он вчитывался в письмо. Руки невольно дрожали:
– Сашка! Ты пиши! Звони! И обязательно сообщи, когда получишь это письмо. Все ли у тебя в порядке? Я позабочусь о твоей безопасности…
– Вот хмырь! Ты сам стерегись! Я то что? Один – как смерть. Пришьют – плакать некому. А у тебя – семья! Ты – под угрозой многих. А я – отмахнусь. На меня не пошлют малину. Я для них – западло! Тебя ожмурить – в честь любому! На меня коль и выйдет Шакал, на халяву не дам себя размазать. У тебя же вся надежда на судьбу… А она – баба. – думал Седой приуныв.
В этот вечер его позвали к председателю колхоза. Через посыльного.
Тот сразу попросил колхозников оставить наедине с Седым и, едва закрыл двери, сказал без обиняков:
– Из Ростова мне звонили о вас! Очень большой человек. Много рассказал, объяснил. Теперь я все понял. Начинайте заново! И о своем пережитом – лучше не рассказывайте никому. Кто-то поймет, другой – осудит. Зачем лишнее на душу? Хватило с вас. Как вам у Акулины? Если не подходит жилье, переселим в другой дом. Там сами хозяевать станете! А найдете хозяйку – в новый дом переселим! Мы три фундамента заложили! К зиме мужики обещают дома под крышу подвести. Так что торопитесь. Мне сказали из Ростова, не оставлять вас в одиночестве! Беречь! Я лишь предлагаю. А решать – вам!








