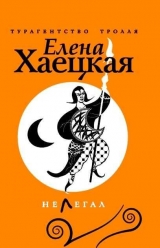
Текст книги "Нелегал"
Автор книги: Елена Хаецкая
Жанр:
Классическое фэнтези
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 20 страниц)
Глава вторая
Влияние Николая Ивановича – русского интеллигента-мизантропа, – оказалось куда большим, нежели Миха решился бы признать, даже перед самим собой. И тем не менее этим желчным человеком было вложено в простую михину голову несколько фундаментальных понятий о жизни. В первую очередь – понятие о свободе.
В списке основных жизненных ценностей, по Николаю Ивановичу, свобода занимала верхнюю строчку. Как бы Миха ни ненавидел литератора, едкий щелок его речей проел в мозгах юнца основательную дыру. Кое во что Миха поверил вполне и свято. Но выяснилось это только впоследствии, когда жизнь повернулась к Михе своим безобразным ликом, приняла боевую стойку и нанесла жестокий удар аккурат по первой строчке списка фундаментальных ценностей.
Миха утратил свободу.
Моран Джурич принадлежал к числу тех, кто имел обыкновение буквально следовать каждому своему обещанию. В речах Морана не содержалось ничего иносказательного, он всегда был предельно конкретен и имел в виду ровно то, что произносил, ни больше и ни меньше. Поэтому когда Моран говорил Михе Балашову о том, что намерен держать его в рабстве, он подразумевал именно рабство и ничто иное. Не крепостное право, не вассальную зависимость, не услужение, не ученичество.
Имя и фамилию спасенного от ментов юнца Джурич Моран благополучно забыл, едва только они переступили порог дома старухи-процентщицы на Екатерининском канале. Отныне Миха превратился в «эй, ты!», «грязное животное» и «тупицу».
Держа его за локоть, Джурич Моран показал ему квартиру: фальшивую дверь в прихожей, купленную на распродаже образцов внутренних и входных дверей по жуткой дешевке, гостиную, лабораторию, кабинет с видом на канал.
Гостиная была обставлена в стиле пятидесятых, что вызывало ассоциации с коммунальной квартирой. Не с современной, где среди кучи рассыпающегося хлама гнездятся неудачники и пьяницы, а со вполне респектабельной, в духе старинных советских кинокомедий. Слоноподобный стол из цельного дерева был накрыт вязаной кружевной скатертью; на столе горела тусклая лампа под цветным абажуром.
Диван у стены в белом чехле вызывал в памяти картину «Ходоки у Ленина». На стене над диваном пестро и неуместно лепились полароидные снимки. Какие-то люди в нелепых карнавальных костюмах. Выглядит диковато, решил Миха, тщась в неверном свете, озарявшем гостиную, рассмотреть их лица. Ковер из фотографий был вроде афиши в доме театрального деятеля. Диван – от дедушки-профессора, лауреата Сталинской премии, афиша – от театра современной драмы «Полено», улица Глухая Зеленина, 16, в подвале налево.
Впечатление призрачного присутствия «дедушки-профессора» усугублял гигантский, чрезвычайно прочный шкаф, похожий на Собор Парижской Богоматери.
– Нравится скатерть? – спросил Моран, внимательно наблюдавший за реакциями Михи.
Тот кивнул.
– На помойке нашел, – самодовольно сообщил Моран. – Почти все нашел на помойке. Люди выбрасывают очень полезные вещи. Нужно только иметь нюх. – Он указал на свой длинный хрящеватый нос и прибавил: – А за чехлы я с двумя старухами подрался. Они тоже хотели, но я – сильнее.
Он подтолкнул Миху кулаком в шею.
– Теперь – лаборатория.
Миха, споткнувшись, послушно шагнул вперед и ткнулся носом в тяжелую пыльную штору, висевшую в полукруглом арочном проеме. Штора пахла бабушками. Традиционный букет: пыль, прогорклые духи «Ландыш», корвалол. Рывком Моран отбросил штору в сторону, так, чтобы Миха успел обозреть небольшое помещение без окон, – лампы, фотоаппарат на треноге, тубусы, болтающийся на стене задник с грубо намалеванной декорацией – что-то средневековое. Обычная пошлятина для фотографирования с отверстиями для всовывания идиотски-счастливой физиономии. Например, над туловищем русалки. Дембеля любят так фоткаться.
– Сюда ходить не сметь! – рявкнул Моран.
– Что, секреты? – осведомился Миха, пытаясь быть хоть чуточку ехидным.
Штора, качнувшись, скрыла от него лабораторию.
– Просто не ходи, – проворчал Моран. – Тебя не касается. Это – мое, понял? Мне здесь посторонних не надо. Для тебя – запрет, грязное животное. Понял?
– Да понял я, понял, – уныло протянул Миха. – Снимайте свою порнуху, коли охота, мне-то что. В моем возрасте без всякой порнухи хорошо.
Договорив, он сразу понял, что сморозил глупость, и сконфузился.
По счастью, Моран не то не знал, что такое порнуха, не то попросту не обратил внимания на болтовню парня.
– А жить тебе определяется на кухне, – сказал Моран, утаскивая свою жертву в очень засаленную кухню с черным закопченным потолком и железной плитой, которую можно топить дровами. Плита была застелена рваной клеенкой, и на ней громоздилась немытая посуда, – судя по бледненькому рисунку по краю толстых фаянсовых тарелок, давным-давно украденная из какой-то дешевой столовки.
Миха осмотрел свое новое жилище, вздохнул. Повернулся к Морану – тот наблюдал за ним блестящими темными глазами. Сейчас эти глаза выглядели почти совершенно черными, без всякого намека на таящийся в их глубине ярко-зеленый огонь.
– А спать где? – спросил Миха. – На столе?
– Еще чего! – фыркнул Моран с такой готовностью, словно ожидал этого вопроса. – На полу, конечно. Рабы не спят на столе.
Он подумал и прибавил:
– И свободные люди – тоже. Никто не спит на столе, кроме снулой рыбы.
В конце концов он вручил Михе гору старых одеял, о происхождении которых Миха предпочел не задумываться, и приказал:
– Гнездо свей в углу, подальше от продуктов, чтобы не пачкать. Будешь тут все отмывать.
Миха еще раз оглядел кухню, вздохнул и покорился.
К своему удивлению, он обнаружил – правда, не сразу, а приблизительно через неделю, – что новое положение его худо-бедно устраивает. Оттирая сальные пятна со стен, он поначалу очень томился из-за тишины. В доме Морана не было ни радио, ни магнитофона. Никакой музыки. Неожиданно Миха осознал, что без постоянного звукового фона он ощущает себя как в пещере: в глухом непонятном месте, наедине с незнакомыми опасностями.
Это незнакомое, которое так его угнетало, был он сам. Не гуманоид в желтых резиновых перчатках, с ведром щелочного раствора и тряпкой, а нечто более жуткое и таинственное: человеческая душа. Пусть даже принадлежащая такому примитивному, малообразованному парню, каким является Миха Балашов. Все-таки душа у него имеется, и в ней, как выяснилось, полным-полно всяких тайн и воспоминаний. На ярком свету реальности эти сокровища, может быть, и выглядели ничтожными, но там, в глубинах пещеры, они, оказывается, обладали огромной ценностью. Еще одна загадка, из числа таких, которые лучше не разгадывать, а просто принимать как есть.
Ну вот, например, думал Миха, усердно налегая на тряпку и моргая от едкого воздуха, сейчас почему-то выясняется, что из всех учителей один только Николай Иванович и запомнился. Почему, спрашивается? Потому, что издевался над всеми? Неужто человек так устроен, что плохое помнит лучше, чем хорошее?
Но – стоп – во-первых, хорошего-то и не было, было одно плохое. Это раз. И во-вторых, такое ощущение, что Николай Иванович как раз и был хорошим, хотя казался плохим… Парадокс.
Миха нарисовал пальцем на стене восьмерку – знак бесконечности. Парадокс.
Николай Иванович любил рассуждать о свободе. Делал он это мечтательно, отстранившись от класса и нимало не беспокоясь о том, чтобы ребята его поняли, – так знатная римлянка обнажается в присутствии раба, не считая того чем-то стоящим внимания.
Не это ли откровенное презрение заставило Миху слушать более внимательно и даже, как обнаружилось теперь, что-то запомнить?
– Свобода есть высшая ценность, – говорил Николай Иванович, – и должна восприниматься именно таковой. Ее не подобает разменивать на бессмысленные парламентские споры.
– Свобода! Прекрасная Дама
Маркизов и русских царей! —
цитировал он.
И добавлял:
– До тех пор, пока она остается Прекрасной Дамой, возможно возвышенное служение ей, возможно сохранение ее в душе своей – как светоч, как неугасимую лампаду, как единственный огонь в вечной ночи, когда погасли последние свечи…
Миха думал в эти мгновения о последнем своем дне рождения, когда еще зажигали на торте свечки. Ему тогда исполнилось девять лет, и мама раскошелилась: купила ореховый торт и тонкие разноцветные свечки. И Миха их задувал под громкие крики друзей. На следующий год мама объявила, что Миха уже большой и все эти глупости со свечами и тортом – только пустая трата денег, а лучше купить новые штаны. И купила на рынке жуткие, вельветовые.
Когда Николай Иванович сказал о последних свечах, Миха так отчетливо увидел этот ореховый торт, что аж зубами заскрипел.
Николай Иванович глянул в его сторону, помолчал, вздохнул и заключил:
– Но вот случается революция, и вместе с ней приходит осознание вседозволенности. И строгая Прекрасная Дама – нет, не погибает, хуже. Происходит падение.
Свобода! Гулящая девка
На шалой солдатской груди.
Учитель помолчал, думая о чем-то своем, для детей недоступном, потом сухо заключил:
– Этот материал можете не запоминать. Его не будет в контрольных вопросах. Это вообще не для вас говорилось.
Но Миха назло запомнил. И сейчас пытался понять, что же имел в виду Николай Иванович. Какая, к примеру, свобода все-таки предпочтительнее – дама или девка? Вопрос не праздный, коль скоро Миха Балашов – не маркиз и уж тем более не русский царь. Возможен ли для него высший образ свободы? Или для таких, как он, только гулящая девка и доступна? И так ли уж плоха гулящая девка?
Сколько Миха ни ломал себе голову, результат выходил жутко неутешительный: ничего, кроме означенной девки, ему не светит. А если его подобный вариант не устраивает (Миху он именно не устраивал), то остается одно: пребывать в рабстве и радоваться этой доле.
И вдруг Миха понял, что в рабстве нет ничего ужасного. Ничего такого, от чего стоило бы бежать сломя голову и рисковать жизнью. Умирать стоя – удел маркизов. Плебей может превратиться в маркиза (и даже русского царя) только одним способом – умерев за свободу стоя. Причем за такую, к которой даже пальцем прикоснуться – и то немыслимо. За Прекрасную, стало быть, Даму.
В какой-то момент Михе жгуче хотелось позвонить Николаю Ивановичу и побеседовать с ним на эту тему. Но даже если бы Моран и позволил воспользоваться телефоном (а уходя из дома, Моран прятал телефонный аппарат), номера Николая Ивановича Миха все равно не знал. Пришлось ограничиваться мысленными диалогами.
За две недели яростных споров с отсутствующим Николаем Ивановичем Миха оттер кухню до блеска. Он перемыл всю посуду, выбросил доисторические окаменелости из кухонных шкафов и даже отскреб пятна с крашеного деревянного пола.
С Мораном он почти не виделся. На кухню Моран Джурич не заглядывал, никакой еды для себя не требовал, за трудами Михи совершенно не следил, вообще никак себя не проявлял. О пропитании Михи он тоже не заботился, так что Миха подъел все, что обнаружил, а потом затосковал.
Сидеть на кухне сделалось невыносимо, так что к исходу второй недели Миха набрался смелости и прокрался в гостиную. Хоть бы телек у Морана был, можно было бы мозги прополоскать, а то там уже все мысли пережеваны – полный вакуум.
Моран обнаружился в гостиной, на диване. Он лежал, закинув ноги на спинку дивана, и читал словарь. Рядом на полу стояла бутылка красного вина. Время от времени Моран опускал руку, брал бутыль и тянул оттуда.
Заслышав шаги, Моран обратил взоры от книги к Михе.
– Ты кто? – осведомился Джурич Моран.
– Я… – Миха вдруг замялся. Внезапно он понял, что четкого ответа на этот вопрос не имеет. Кто он? Человек? Слишком общо. Парень, находящийся в розыске? Михаил Балашов? Миха? Мисаил, как его называли приятели?
«Мисаил, Седрах и Авденаго», – издевался учитель литературы.
Миха сказал со странным, его самого удивившим спокойствием:
– Я Авденаго.
– Авденаго? – переспросил Моран и пожевал губами. – Что ж, – решил он, – кое-что это объясняет.
Он сел на диване и снова глотнул вина. Поболтал бутылью, с сожалением констатировав, что вина осталось слишком мало.
– А как ты здесь оказался, Авденаго? – ошеломил он Миху вторым вопросом.
– Вы меня привели. Помните? – осторожно проговорил Миха, то есть, теперь уже Авденаго.
– Не помню! – отрезал Моран. И тут на его худом, матово-смуглом лице появилась кривоватая улыбочка. – Ах да!.. Помню. Я еще обещал тебе показать, что такое – быть в рабстве у настоящего тролля. Учти, я – тролль из высших, из Мастеров. Ты понял? Я – Джурич Моран, Мастер.
– Маркиз, – пробормотал Авденаго. – Хоть не русский царь, и на том спасибо. Но все равно – сложно.
Он попытался представить себе свободу Джурича Морана – какой может быть она у подобного существа, и вдруг перед ним, словно наяву, предстало явление женщины такой ослепительной красоты, такой небесной недосягаемости, что он даже застонал сквозь зубы.
Моран наблюдал за ним с любопытством.
– О чем ты подумал? – спросил тролль жадно.
– О вашей… даме.
– Хороша?
– Очень…
– А твоя? – поинтересовался Моран.
Авденаго не ожидал подобного вопроса. Он смутился:
– У меня – либо никакой, либо такая, что… уж лучше никакой.
– Знаешь свое место, – одобрил Моран. – Чем ты занимался все это время, пока я тебя не видел?
– Приводил в порядок кухню.
– И как там теперь, порядок?
– Да. Надеюсь, – быстро прибавил Авденаго.
– Зайду как-нибудь, гляну, – добродушно произнес Моран.
Он снова улегся на диван.
Авденаго продолжал стоять и смотреть на него. Моран удивленно вскинул брови.
– Что тебе еще?
– Я…
– Тебя не звали – зачем пришел?
– Я к вам пришел, – сказал Авденаго.
– Да уж понятно, что ко мне, а не к инспектору по делам несовершеннолетних.
– Я уже совершеннолетний.
– Тем более. К тебе применима смертная казнь. Убирайся.
– Еда закончилась, – сказал Авденаго.
– Ты голоден? – искренне удивился Моран.
– Вообще-то, да, – сказал Авденаго.
– Послушай, я достаточно о тебе забочусь! – рассердился Моран. – Если ты голоден, ступай и поешь! Ты мешаешь мне читать словарь. Я не желаю умереть таким неучем, как ты.
– Я бы поел, – упрямо проговорил Авденаго, – но еда закончилась.
– Ну так купи и не обременяй меня ерундой.
Моран кивнул почему-то на шкаф.
Авденаго помедлил, но послушно подошел к шкафу и распахнул дверцы. На него посыпались коробки с обувью, выпорхнула суетливая моль, потянуло запахом старого пота, перебитого дезодорантами.
Десятки ветхих театральных костюмов висели на вешалках, лежали на полках.
А на самом верху, на полке для шляп, громоздились пачки денежных купюр. Они были связаны веревками, заклеены скотчем, перетянуты нитками и даже лентами от конфетных коробок.
Авденаго ошеломленно смотрел на это богатство. Моран вернулся к своей книге.
– И это… все время здесь лежало? – спросил Авденаго, физически страдая от собственной глупости.
Моран на миг оторвался от чтения.
– Разумеется, – буркнул он. – А ты, видать, совсем запустил хозяйство. Иди лучше и разберись с делами, если не хочешь отведать березовой каши.
Он с хрустом перелистнул страницу.
Авденаго помялся, потом вытащил одну пачку денег, самую тоненькую. Перелистал – тысяч десять. И все можно потратить.
– Учти, – вдруг снова оживился Моран, – я не ем все эти замороженные овощи. И лапшу из пакета. Пробовал, но рвет. Исключено.
– Я натуральное все куплю, – обещал Авденаго. – Только… – И тут он ощутил все неудобство своего нового положения. Словно бы волной его накрыло. – Ведь ищут меня! – сказал он. – Наверняка у ментов ориентировка есть. Ну там, приметы…
– Не смеши! – фыркнул Моран. – Ищут его! Велика птица, чтобы искали! Таких, как ты, белесых по всему Питеру – пятьдесят вагонов, если стоймя вас упаковывать. Да и вообще, мы в другом районе. Я нарочно узнавал.
У Авденаго потеплело на душе. Надо же, Моран что-то нарочно из-за него узнавал, наводил справки, по поводу районов и ориентировок спрашивал… Удивительно.
И тут он охнул от неожиданной боли: Моран весьма ловко запустил ему в голову тапком и попал в висок.
– Что стоишь? Ты здесь для того живешь, чтобы у меня в гостиной торчать? Иди и купи все, что нужно! Грязное животное!
Авденаго молча двинулся к двери. Моран в спину ему прокричал:
– Подбери тапок и положи на место.
Авденаго подчинился и вышел. Он и сам не понимал, отчего так разобиделся.
* * *
Мужчины умеют готовить еду, это точно. Все разговоры о том, что мужчины – лучшие повара, чем женщины, – глупости. Просто мужчина готовит только по праздникам, когда закуплено много продуктов и папе, значит, дозволяется (после маминых незаметных организационных работ) порадовать семейство фирменным блюдом.
А что шеф-повара в ресторанах мужчины – это понятно: кто же пустит тетку на руководящую должность? Мужики ведь исстари все хлебные места расхватали, а в целях борьбы с эмансипацией и феминизмом создали устойчивые мифы.
Большинство этих мифов уже развенчано, однако за последний – насчет поваров – мужчины держатся крепко. Еще бы. Самый, можно сказать, хлебный миф из всех прочих.
А вот попробуйте готовить каждый день – и не из лучших продуктов, а из тех, что есть под рукой. Сочиняйте обеды по будням, выскребайте по сусекам и убеждайте домашних, что картошка с котлетой и картофельный суп с фрикадельками – это разные блюда. Трудитесь над извращенным проектом «вторая жизнь мясной кости». В общем, побудьте в маминой шкуре. И тогда поглядим, у кого на самом деле лучше получится.
«Одно из двух, – заключил Авденаго (процесс построения всех этих рассуждений занял у него несколько дней), – либо мужчины действительно могут все, что и женщины, за исключением беременности, либо… либо я не мужчина».
Он открыл в себе талант к готовке. Причем не к праздничной, а именно к повседневной. У него получалось. Правда, надобности в экономии не было, но, как выяснилось уже в процессе, даже при изобилии продуктов все равно приходится напрягать мозги и взывать к природной изобретательности.
Раз в день Авденаго приносил Морану обед. Ставил на подносе на стол, поверх кружевной скатерти. В первый раз даже пытался подражать Дживсу – стоял за стулом и норовил положить на хозяйскую тарелку горчицу или выдавить кетчуп. Но Моран воспретил.
– Еще чего! – заявил он, прогоняя Авденаго. – Если бы ты был лакеем, тогда – другое дело. Не забывай, кто ты есть в этом доме и во всех остальных мирах – тоже. Твое дело – сварить и подать. И нечего мне в рот смотреть голодными глазами, я же знаю, что ты на кухне уже поел.
В первые разы Авденаго боялся выходить из дома и вздрагивал, если ему казалось, что на него смотрят. Но потом привык. Он действительно не был больше Михой Балашовым, он превратился в Авденаго – душой и телом. Главное, конечно, – душой. И у него теперь имелся хозяин, существо могущественное и таинственное. Авденаго свято верил в то, что Моран Джурич в состоянии защитить его от любой напасти.
* * *
О том, чем занимается Моран Джурич, Авденаго узнал далеко не сразу. Спрашивать он не осмеливался, а никаких дел при нем Моран не вершил. В основном валялся на диване с книгой и, не пьянея, пил красное вино прямо из бутылки.
Поэтому когда в квартиру вдруг позвонили, Авденаго даже подпрыгнул.
Звонок был резкий, даже как будто панический. Ну и что с этим прикажете делать? Бежать открывать? Или наоборот, затаиться и делать вид, что никого нет дома? Вдруг все-таки менты? А если во время пожара кто-нибудь пострадал – обгорел там и умер? Или Стас наговорил лишнего, чтобы самому отболтаться?
Тысячи идиотских, стремительных мыслей пролетели в голове у Авденаго, пока он нерешительно стоял посреди кухни и слушал звонки, доносившиеся из прихожей.
Моран разрешил все его сомнения рыком:
– Отвори, дубиноголовая свинья!
Авденаго подошел к двери и, ощущая совсем близко чужое дыхание, осторожно спросил:
– Кто там?
– Это ведь агентство экстремального туризма? – прозвучал приглушенный мужской голос.
Авденаго пожал плечами, не заботясь о том, что мужчина по ту сторону двери его не видит. Он не помнил, чтобы здесь имелось какое-то агентство. Подозрения вспыхнули в нем с новой силой.
– Здесь нет никакого… Это частная квартира! – выпалил он первое, что пришло в голову.
– Есть агентство! – заорал Моран из гостиной. Слышно было, как он вскакивает с дивана и швыряет книгу. – Идиот! Тупица! Болван! Это клиент! Кусок мяса! Жабий послед! Есть агентство! Клиент! Кретин!
Авденаго молча отворил дверь и отступил в сторону, впуская в квартиру незнакомца.
Вошел – точнее, прокрался – мужчина, невысокий, коренастый, с широкими плечами и непропорционально короткими ногами. Бритоголовый, темноглазый, он был похож на татарина с картинки «Илья Муромец и Соловей-разбойник». Только это был очень нервный, дико перепуганный татарин.
Он уставился на Авденаго тоскливыми темными глазами и хрипло спросил:
– Агентство экстремального туризма?
– Да! – прорычал из комнаты Моран Джурич.
Но пришелец не сводил взора с Авденаго, и тот нехотя кивнул.
– Босс сейчас выйдет, – сказал Авденаго, сам не зная, отчего назвал Джурича Морана «боссом».
– Ничего я не выйду, – донесся голос Морана. – Вот еще не хватало! Не слушайте этого раба, он идиот. Идите ко мне сами. Не буду же я с дивана вставать, в самом деле.
Человек все еще медлил, и Авденаго показал ему на полуоткрытую дверь.
– Идите.
Человек не без опаски проник в комнату. Авденаго остановился в дверях, не зная, как ему быть – уйти и оставить хозяина наедине с посетителем или же, наоборот, задержаться в ожидании дальнейших распоряжений.
– Авденаго! – рявкнул Моран. – Хочешь подглядывать – входи и ты.
Гость вздрогнул и обернулся к парню.
– Тебя так зовут? – тихо спросил он. – Авденаго?
– А что, не нравится? – с вызовом отозвался Авденаго.
– Это… нечеловеческое имя.
Авденаго, явно подражая Морану, фыркнул:
– Пришли – так не рассуждайте лишнего.
– Слушай, – сказал клиент, – я ведь и уйти могу. Воспользуюсь услугами другого агентства.
Попытка напомнить о том, что «клиент всегда прав», выглядела откровенно жалкой. Авденаго даже не испугался.
– Ф-ф-ф! Уйдет он! – неискренне расхохотался Моран и сунул книгу, не закрывая, себе под голову, как подушку. – Куда это ты уйдешь? Авденаго, ты хорошо запер дверь? Не выпускай субчика! Ишь, уйдет он! От Морана Джурича еще никто не уходил. – Он повернулся к чужаку. – Давай, рассказывай! С каким делом явился? Скрыться хочешь? Драп – материя для пальто!
– Что-то в этом роде, – ответил посетитель и облизал губы. – Слушайте, можно мне что-нибудь выпить?
– Авденаго! – призвал Моран. – Принеси воды из-под крана. В чистом стакане. Смотри у меня! Чтоб никаких давленых тараканов.
– Угу, – сказал Авденаго. – Без тараканов.
Посетитель огляделся по сторонам, обнаружил маленькую банкеточку – вроде тех, что некогда мальчики делали на уроках труда, – и пристроился на ней. Поерзал, явно чувствуя себя очень неловко.
Авденаго вернулся со стаканом. Посетитель жадно выхлебал воду, вернул стакан, глянул на Авденаго – как показалось парню, жалобно, – потом опять обратился к Морану.
– Я вам все расскажу, а вы уж решайте, как лучше… Эта сука, она ведь что? Мало что квартиру отсудила, так еще и этих натравила. Я тебя, говорит, на одной со мной планете жить не оставлю. Я тебе спроворю билет на Марс в один конец. Сука! Это ведь какой сукой надо быть!
Минут десять он оставался невнятным, но непостижимым образом из комковатого мата и бессвязных вопрошаний к небесам родилась вполне отчетливая история. И Моран на удивление быстро ухватил самую ее суть.
– Твоя жена? – спрашивал он, а посетитель кивал. – А развод по чьей инициативе? Сейчас ведь неверность – не повод разводиться, а? О времена, о бабы. Это я анекдот в бесплатной газете прочитал. Тупой. Тебя как звать?
– Сергей Викторович Воробьев.
– Имечко не ахти, Авденаго – гораздо лучше, но на первое время и такое сойдет, – одобрил (вроде бы) Моран Джурич.
Воробьев приложил к груди руки и стиснул волосатые пальцы в кулак.
– Я к вам как к последней надежде… По слухам, уж если вы отправите, так никто не найдет… А она таких гоблинов наняла, это страх божий, я хоть и сам не ангел, но на такое насмотрелся… Я ведь теперь домой приходить боюсь, как они мне дверь ломали… Надо же быть такой сукой?
– Если я отправлю, точно никто не найдет, – подтвердил Моран Джурич не без самодовольства. – Авденаго, ты мне, братец, сухариков купил? Таких, как я люблю, сладеньких с орешками?
Авденаго впервые в жизни слышал о том, чтобы «босс» любил сладенькие сухарики да еще с орешками. Джурич Моран вообще никогда с ним не беседовал наличные темы, к числу которых, несомненно, относится подвид «кулинарные». И ни на какие не беседовал, особенно в последнее время. Однако, по чистой случайности, именно такие сухари в доме имелись.
О чем Авденаго и оповестил хозяина.
– Сообрази мне чаю, – сказал Джурич Моран. – Тут разговор интересный.
«Ходоки у Ленина, – вспомнил Авденаго свою первую мысль, которая его посетила, когда он увидел этот диван в белом чехле. – А теперь вот и чай в стакане. Непременно чтобы с подстаканником».
– Ты, Воробьев, пока молчи, – прибавил Моран, обращаясь к скорченному на банкетке гостю. – Я хочу со всеми удовольствиями твой рассказ слушать.
– Да я уж все рассказал… – пробурчал Воробьев, потупив взор.
Моран махнул рукой.
– Да молчи ты! Все он рассказал, – передразнил Моран. – Глупость сплошная.
Авденаго живо «сообразил чай» и подал на подносе. Поставил на скатерть, остановился поблизости, потом сел на корточки, прячась за столом. Чтобы Моран Джурич его не выгнал. Но Моран, казалось, забыл и о чае, и о сухариках, и о безмолвном парне.
– Ну вот, – объявил он, с наслаждением созерцая легкий парок, клубящийся над стаканом, – теперь можешь раскрывать пасть и извергать звуки.
– Ну, развелся я с ней, с этой сукой, а она своих гоблинов на меня… Потому что правда ведь на моей стороне, и квартиру она отобрала не по закону… Я под нажимом подписал.
– Так подписал же! – воскликнул Моран.
– Ага, а вот докажу я, что они пистолет надо мной держали… Гоблины!
– Точно гоблины? – озабоченно переспросил Моран.
Воробьев зашевелил косматыми пальцами.
– Я вам точно говорю… простите, не знаю имени-отчества… сука, вот ведь какая сука, и гоблины, она ведь им всем дает, сука, каждому!
– С гоблинами весьма затруднительно иметь дело, – вздохнул Моран. – Даже и с троллями. Не пробовали?
Он хохотнул. Воробьев смотрел на него печально, готовясь заплакать.
– Я бы с кем угодно поменялся, – вдруг сказал Моран, – лишь бы снова… троллей увидеть…
Тяжелый вздох вырвался из его груди, а затем Моран как будто отринул всякие сомнения. Он сел на диване, взял чай и выхлебал его – почти крутой кипяток, как знал Авденаго.
– К делу! – воскликнул Моран. – Не будь я Моран Джурич или Джурич Моран, это уж как кому нравится, а мне и то, и другое по сердцу. Вот как ты относишься к концу света?
– Что?
– Апокалипсис, по-вашему. Занятная штука. Помрешь – вот тебе и конец света, а? Я над этим долго размышлял. – Моран омрачился. – Но к позитивным выводам прийти не удалось. И в словаре мало что толкового. А ты что думаешь?
– Ну… это еще нескоро, – робко подал голос Воробьев. – Должны быть знамения. Дохлые птицы там, моря крови.
– Чушь! – отрезал Моран. – Это уже вот-вот. По крайней мере, для тебя.
– Вы хотите сказать, что мой случай… безнадежен? Что я умру? – выговорил Воробьев немеющими губами.
– Я знаю, что я хочу сказать! – рявкнул Моран. – Ты глупее среднего человека, тебе говорили? Ну так еще скажут! Я буду первым в шествии тех, кто объявит тебе это прямо в лицо… Откуда про мое агентство узнал?
– Один приятель рассказывал…
– Подробности.
– Ну, приятель по прежнему бизнесу, – сдался и обмяк Воробьев.
– Имя.
– Карпухин.
– Не помню такого.
– Ну, Карпухин. Может быть, Шнеерсоном представлялся. Он одно время в еврейской школе заправлял, вроде как завучем был, но потом его раскусили, что он не Шнеерсон, а Карпухин.
– Не помню.
– В общем, он про вас рассказал.
– Ясно, – сказал Моран Джурич. Он заглянул под стол и обнаружил там Авденаго. – Вылезай. Займешься подбором одежды.
Авденаго задрал к нему голову и на миг встретился с Мораном глазами.
– Для кого?
– Не для себя же, болванский дуболом! Для Воробьева.
– Какую подбирать?
– Да какая под руку попадется… Я не могу доверить ему лазить по моим шкафам. – Моран кивнул на «Собор Парижской Богоматери». – Сам знаешь, что у меня там хранится. Люди придают этим штукам слишком кровавое значение, а этот, – он вытянул руку, указывая пальцем в съеженного Воробьева, – на такие дела весьма слаб. Как бы не пришлось устраивать ему Апокалипсис прямо на квартире. Это было бы лишнее. – Он поразмыслил и прибавил как будто между прочим: – Апокалипсис должен быть хотя бы минимально осмысленным, иначе это – пустой расход живой материи.
Мало что поняв из этого бессвязного монолога, Авденаго поднялся на ноги, приблизился к шкафу и раскрыл скрипучие дверцы. Разумеется, Воробьев со своей банкетки отлично видел связки купюр на верхней полке шкафа. И тусклые глаза Воробьева действительно блеснули, как и предсказывал Моран Джурич.
Авденаго поскорее снял с вешалки нечто напоминающее колет для роли Гамлета в заштатном театрике, присовокупил полосатые красно-желтые штаны и скомканные сапоги из коробки.
– Давай.
Моран Джурич забрал вещи и швырнул их прямо в голову Воробьеву, а потом обтер руки и прикрикнул на деморализованного клиента:
– Одевайся!
Тот послушно переоделся.
Авденаго, забытый, стоял у шкафа и наблюдал. Моран обошел Воробьева вокруг, одернул на нем колет, пощелкал ногтем большого пальца по бритой макушке и наконец распорядился:
– Идем.
Авденаго подкрался к пыльной занавеске и осторожно заглянул в щель. Он увидел, что Моран Джурич установил новый задник – такую же примитивную декорацию, что и раньше, только на ней был нарисован горный пейзаж и какая-то зияющая пещера на заднем плане. Воробьев в дурацкой одежде, в нелепой позе застыл перед пещерой и выпучился в камеру. Моран бормотал:
– Сейчас, сейчас… – и елозил за фотоаппаратом в поисках лучшего ракурса.
От яркого света лампы Воробьев начал потеть, лицо и лысина его блестели, равно и черные завитки волос на тыльной стороне ладони. Наверное, Авденаго должен был бы испытать приступ брезгливости при подобном зрелище, но вместо этого парень вдруг ощутил жалость. Бедный-бедный косноязычный, коротконогий Воробьев, на которого безжалостная бывшая супруга, – воображение почему-то рисовало мускулистую блондинку в купальнике стального цвета, – натравила полчища гоблинов… Это же до какой степени отчаяния нужно дойти, чтобы искать защиты у Джурича Морана и терпеливо сносить все его издевательства!
Моран наконец щелкнул вспышкой. Лампа тотчас погасла. В полумраке виден был Воробьев, по-прежнему боящийся пошевелиться. Затем фигура клиента начала бледнеть и растворяться в воздухе. Моран удовлетворенно хмыкнул и, не дожидаясъ, пока процесс растворения завершится полностью, выскочил из-за шторы с квадратиком полароидной фотографии в руке. Он столкнулся с Авденаго, который не успел отскочить, так стремительно двигался его босс, но даже не обратил на это внимания.








