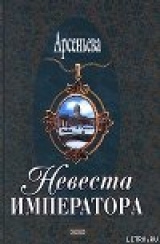
Текст книги "Невеста императора"
Автор книги: Елена Арсеньева
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 25 страниц)
Глава 12
Признание
Мертвец оказался проворнее живых и первым успел подхватить Машу.
– Отпусти ее, не трогай! – заверещала Сашенька, верно, подумав, что сейчас внезапный гость провалится со своей ношею в тартарары, однако призрак вполне твердыми шагами направился к Машиному ложу и не опустил на него бесчувственную девушку, а сел сам, так что она полулежала у него на коленях, а голова ее прильнула к его плечу, и он осторожно трогал бледный, похолодевший лоб Маши губами, поглаживая в то же время ее пальцы.
Как-то все это было слишком уж нежно и участливо для представителя загробного мира, и Меншиков робко подумал, что перед ним, пожалуй, вполне живой человек. Но, поскольку князь Федор, по всем доходившим до них сведениям, и впрямь погиб страшной смертью, оставалось одно: это и впрямь призрак Бахтияра, одетый в образ Федора Долгорукова, и Меншиков подумал, что или мир вокруг переменился, или он сам сошел с ума от горя и бедствий, постигших его.
Ладно, пусть так; но дети видят то же самое, а значит… а значит, придется перекреститься и признать, что Сиверга лихо наводит привиденные страхи, от которых может лишиться рассудка целая семья!
Сильной стороной Алексашки, сиречь Александра Данилыча Меншикова, всегда было умение мириться со случившимся. Он никогда не роптал на жизнь, на ее удары, а сразу пытался сообразить, что можно сделать, какую пользу извлечь для себя из новой, казалось бы, вовсе бесполезной ситуации. Так было, когда Лефорт подарил его длинноногому, дергающемуся мальчишке – государю всея Руси. Так было многажды за время его службы Петру: тот бивал Алексашку по зубам за мошенничество на поставках для армии, за взятки, а синеглазый князь Меншиков утирался, всхлипывая, и тут же разбитыми в кровь губами высказывал Петру какое-нибудь новое предложение, чтобы улучшить дело, – и смирял гнев властелина, обезоруживал его своей всегдашней готовностью лететь, думать, делать, строить, сражаться. Так было после смерти великого царя, когда Меншиков, едва успев оплакать друга и повелителя, не дал рухнуть зданию новой России (и своего благополучия) и лихо возвел на престол Екатерину. Так было еще совсем недавно, когда, сосланный в ледяные пустыни Сибири, отчужденный от всего мира, он не возроптал на судьбу свою, а стойко принял ее удар и начал строить церковь, чая обеспечить себе и детям прощение если не на земле, то хоть на небесах. Так и теперь…
Так и теперь он смирился. Деваться некуда! Дочь любимая беременна от черкеса, разрази его гром, но при всей мерзопакостности Бахтияра в нем есть одно бесспорно замечательное свойство: он беззаветно любит Машу, жизни за нее не пожалеет. И ежели выбирать не приходится, то надо и в самом плохом искать свои хорошие стороны. Конечно, черные, мрачные, жгучие глаза Бахтияра каждый день видеть будет нестерпимо, однако ж в обличье молодого князя Долгорукова он смотрится совсем иначе, не в пример лучше!
Ежели б удалось сговориться с Сивергой, чтоб она так и оставила черкесу сию светловолосую, светлоглазую и "весьма привлекательную наружность, то лучшего зятя трудно было бы пожелать. А вот интересно знать, ребеночек на кого будет похож: на истинного Бахтияра или же на его привиденное обличье? Хорошо, коли б на призрака. Этакое славное уродилось бы дитятко! Александр Данилыч даже улыбнулся, мысленно уже приласкав льняную кудрявую головку будущего внука, заглянув в невинные очи, рассказав тепленькому несмышленышу его первую сказку…
Судя по всему, и Марии образ князя Федора никак не неприятен, ежели она прельстилась этим обличием и отдалась-таки Бахтияру, коего прежде и близко к себе не подпускала.
Правда, весьма странно, почему из всех многих-премногих молодых красавцев, знакомых Марии в той, прежней, придворной жизни, Сиверга избрала именно сего человека – отпрыска враждебного рода, погибшего в день своей свадьбы с другой женщиной? Скорее Меншиков ожидал бы увидеть лукавые глаза и раздражающе-красивое лицо Петра Сапеги, но этот-то, Долгоруков-хитроумец, как сюда попал? Неужели и он тронул некогда Машино сердце? Неужели…
Александр Данилыч тихо ахнул и даже руками всплеснул, ибо, со внезапностью громового раската в разгар ясного полдня, до него вдруг дошла догадка, и он словно бы вновь увидел хмуро-сочувственное лицо Степки Крюковского, начальника их охраны на ссыльном перегоне, услышал его крик: "Слышь, Данилыч!
Не тужи! Твоим супротивникам бог тоже поддает жару!
Алексей Григорьича племянник, Федька, сгиб – сгорел, дотла сгорел: одни кости нашли на пепелище".
И пронзительный, неузнаваемый голос Маши: «Сгорел?» После этого, не прошло и четверти часу, она кинулась вниз головой в Волгу, и ежели б не Бахтияр…
Меншиков тогда был слишком потрясен последним прощаньем с милой Дарьей Михайловной, которую наспех зарыли в казанскую ржавую грязь, чтобы связать воедино эти два события: известие о смерти Федора Долгорукова и попытку Маши убить себя. Неужто?.. Да нет, быть не может того! Когда ж они успели?! Но, о господи, его призрак, конечно, его явила им тогда Сиверга в тусклых закатных лучах! И слова дочери зазвучали в ушах Меншикова – слова, которые он прежде не понял, которым не придал значения: «Да я на все готова, только бы с ним… Погиб он – словно месяц закатился!»
Господи! Слеп и глух был он, отец, всецело поглощенный своими невзгодами и начисто забывший о дочери… Как же она, должно быть, страдала, бедная девочка, когда погиб избранник ее сердца, если предалась дьявольскому наваждению и кинулась в объятия призрака!.. Казнясь, Александр Данилыч прижал к лицу кулаки, закачался из стороны в сторону, как вдруг дробный топот пронесся мимо и заставил его испуганно открыть глаза – и ахнуть от престранного зрелища, открывшегося его глазам.
Александр, держа в одной руке икону Богородицы, а в другой – лампадку на длинной цепочке и размахивая ею на манер церковного кадила, и Сашенька с иконой Спаса Нерукотворного (в углу зияла пустая божница) подскочили к Призраку, крепко обнимавшему их сестру, и принялись махать на него иконами и лампадкою, причем Сашенька, левой рукой суя в лицо Призрака святой образ, правой исступленно крестила его, восклицая:
– Изыди, сатана! Изыди, сгинь, провались, дьяволобесник!
Призрак отшатнулся… Лицо его заколебалось в чаде разгоревшегося масла, которое выплеснулось из чаши лампадки и попало на фитилек. Он схватился за щеку, вскрикнул…
– Не надо! – с болью вскричал Александр Данилыч, и сердце его едва не разорвалось, когда он представил, что сейчас исчезнет это милое видение и Маша окажется в черных лапах черкеса. – Не исчезай, останься!..
– Вот черти, щеку обожгли, – беззлобно ругнулся Призрак, выплывая из чадного масляного духа. – Эдак без глаз зятя оставите!
Александр с Александрою замерли с воздетыми образами, но Призрак, не обращая на них более никакого внимания, наклонился осторожно, чтобы не потревожить Машу, и, коснувшись руки Меншикова, тихо произнес:
– Это я, отец! Я жив, клянусь богом!
И если Александр с Александрою были убеждены именем Всевышнего, то Меншиков – одним коротким словом «отец».
* * *
…Уже настала глубокая ночь, когда князь Федор закончил свой рассказ. Меншиковы слушали его не дыша – Федор не счел нужным таиться и от Александра с Александрою: как бы они к нему ни относились, теперь все они были одна семья, все заедино, и их воля была принимать или не принимать его решение: бежать из Березова всем вместе или порознь, чтобы добраться морем до Англии и найти там убежище, покуда царев гнев не сменится милостью – или навечно. Но как ни долог был этот рассказ, вместивший все приключения князя Федора в Петербурге, Раненбурге, Москве, снова в Петербурге и в тайге вокруг Березова, он мог оказаться еще длиннее, когда б князь Федор рассказал о тайне королевы Марго. Но он промолчал об этом, представив дело так, будто он по наказу дядюшек своих пытался втереться в доверие к ненавистному им временщику и стать своим в его доме, но внезапная любовь к Марии сделала его иным человеком и превратила из врага в союзника. Это была истинная правда, и она извиняла его умолчание.
Не то чтоб князь Федор не нашел в себе мужества поведать про яд Экзили… Будь они наедине с Александром Данилычем, наверное, открылся бы до конца, такую безоглядную любовь и доверие ощущал он к этому человеку, воистину словно к отцу родному! Однако не хотелось отягощать смутной тайною неустойчивое, зыбкое доверие, которое постепенно, медленно установилось меж ним и Александром и Сашенькою.
Все равно ведь он не виновен ни в чем, кроме как в губительных помыслах, а коли так – не проще ли прислушаться к вековой мудрости: чего не знаешь – не помешает? И если даже проницательный Меншиков уловил некоторые недомолвки в сей исповеди, то не стал обращать на них внимания. Подобно Христу, который хоть и не имел детей, но обладал отеческим сердцем, Александр Данилыч предпочитал раскаяние безгрешности, ибо сам был не кем иным, как раскаявшимся грешником, а потому принял как должное все, что счел нужным поведать этот человек, добровольно принявший чащу страданий и испивший ее до дна.
Не в силах ничего сказать, он только сжал руку князя Федора, как бы давая знак прощения и родительского участия, – и вздохнул: что-то ожгло вдруг его пальцы. Слеза? И еще одна? Однако глаза князя хоть и грустны, но сухи, исполнены решимости. Что же означает сие? О… Маша! Это плачет Маша!
И только теперь князь Федор и Меншиков заметили, что та, которая занимала все их помыслы, очнулась и, затаившись, внимательно слушает печальную исповедь своего вновь обретенного супруга. Теперь ему, получившему доверие и прощение отца, предстояло выслушать приговор супруги, и дрожь невольно пробрала его, когда он в сотый, тысячный раз вообразил картину, ставшую для него постоянным кошмаром: как с расшивы, идущей поперек крутой волжской волны, свешивается тонкая, исполненная отчаяния фигура, чтобы отринуть жизнь и принять смерть, ибо она только что узнала: не осталось ничего в мире, что удерживало бы в ней желание жить. Грехом князя Федора была ложь. А Маша готова была принять на себя куда более тяжкий грех: изыти к богу преждевременно, совершить самоубийство, и глуби волжские стали бы для нее позорным жальником [89]89
Общая могила где-нибудь при дороге для самоубийц, бродяг, умерших нечаянной смертью, и прочего отпетого люда, недостойного похорон на освященной земле
[Закрыть]. И вновь проклял себя князь Федор за то, что не расстарался дать ей о себе известие раньше, не смог предупредить. Он извинял себя тем, что единственным человеком, кому он всецело доверял и кто мог бы доставить Марии сие предупреждение, был Савка, но с ним-то Федор никак не мог расстаться, ибо в одиночку невозможно было осуществить его безумное и почти безнадежное предприятие. Да, оно удалось, дело выгорело (вот уж воистину!), и это его во многом оправдывало и прощало, но вот простит ли Мария?..
Он ждал приговора с таким трепетом, что даже не сделал попытки удержать ее, когда она соскользнула с его колен и встала напротив, глядя не обвиняюще и отстраняюще, но с такой глубокой печалью, которая была ему непереносимее самых изощренных упреков.
Что-то было в этой печали особенное.., какой-то необъяснимый оттенок, и князь Федор насторожился.
Это было.., как услышать крадущиеся шаги в ночной тишине и гадать, пробирается ли это сквозь тьму случайный прохожий или тать нощной алчет добычи. И он вздохнул с облегчением, когда Маша, испуганно глядя в его глаза, прошептала:
– Она.., красивая?
Ни разу за весь этот безумный год, как бы ни было тяжело, больно или страшно, не затуманился взор князя Федора слезою, а сейчас так сдавило горло, что он принужден был на несколько мгновений зажмуриться, чтобы Маша не увидела его повлажневших очей и не истолковала это как-нибудь не правильно. А это всего лишь было облегчение – ведь он с чистой совестью мог признаться:
– Не знаю. Я ее, правду сказать, и не разглядел толком. Не до того было: только тебя и сердцем своим, и очами духовными видел. Грех мой, что клятвы перед богом произносил, но он, всевидящий, знал, что слова сии заведомо лживы, а я твой навеки.
Она быстро вздохнула – словно дух перевела с облегчением.
– А Сиверга?
Федор нахмурился:
– Она тебе не враг, поверь. Бахтияр сказал все в заблуждении: на самом деле с ним в твоем образе была Сиверга. И дитя во чреве твоем принадлежит лишь нам: тебе и мне. Оно увенчало нашу любовь.
Маша кивнула, веки ее смежились. Нежная улыбка взошла на уста, и пальцы едва ощутимо коснулись его – худой, загорелой щеки… И князь Федор с трудом сдержал стон, ибо ничего никогда он так страстно не желал на свете, как схватить сейчас Марию в объятия и унести ее в дальние дали любви, недоступные, кроме них, более никому на свете.
Они стояли так – и не было сейчас людей счастливее, но вдруг Сашенька кинулась к отцу и, дергая одной рукой за полу его, а другой – князя Федора, заверещала тоненьким девчоночьим голоском:
– Мы уедем? Правда, что мы уедем отсюда? Поедемте сейчас! Не будем ждать завтра! Сейчас!
Очарованный миг прошел. Маша вздохнула, испуганно раскрыла глаза – и словно испугавшись, что сказала больше, чем хотела, торопливо отвела их, но было поздно. В беззащитности ее взора князь Федор наконец разглядел то выражение, коего он доселе не мог понять, но так его тревожившее.
Это была жалость.
* * *
Меншиков ласково положил руку на голову младшей дочери:
– Успокойся, милая. Успокойся!
– Нет! Я хочу сейчас! Я хочу домой, домой!
Она зарыдала в голос, да и Александр имел вид не лучший: дрожал губами, хотя воли слезам еще не давал.
У князя Федора стеснилось сердце: дав этим несчастным надежду на спасение, он не научил их терпению, а теперь боялся, как бы крах мгновенной мечты не подкосил их. Он с раскаянием поглядел на Меншикова, боясь увидеть упрек, но прочел в его взгляде лишь бесконечную любовь, печаль – и еще то же пугающее выражение, которое он уже видел в глазах Маши: жалость.
– Александр, – сказал Меншиков, – будь мужчиной. Сделай милость, уведи сестру, успокой. Нам надо поговорить.
Он сказал только это, ничего больше, но брат и сестра разом притихли, словно поняли полную бессмысленность своих внезапно вспыхнувших надежд, и Сашенька не противилась, когда Александр обнял ее за плечи и повел прочь из избы: посидеть на крылечке под дымокуром, отпугивавшим ненасытных комаров, погрустить вместе – и утешить друг друга. Меншиков поглядел им вслед, поблагодарив господа за то, что эти его двое таких неуживчивых детей крепко привязаны друг к другу, и повернулся к Федору:
– Куда думаешь уходить, сын?
– На карбасе до Оби, потом по течению до губы [90]90
Обская губа – залив.
[Закрыть], там до мыса, где на Старую Мангазею кочи [91]91
Суда, корабли (старин.).
[Закрыть] поморские поворачивают…
– Эва! – чуть ли не испуганно присвистнул Меншиков. – Старая Мангазея! Да она уж почитай полсотни годов с Таза на Енисей вся ушла, после пожаров, будто бы…
– Старая Мангазея-то ушла в Туруханск, это правда. А золото не ушло, нет! – покачал головою князь Федор. – Я еще в Петербурге слышал, дескать, поморы моют украдкою золото на прежних местах, где отцы и деды мыли, а здесь вогулы подтвердили: до конца августа их корабли там бывают. Теперь знаю доподлинно: на Ивана Постного [92]92
30 августа по старому стилю.
[Закрыть] из Мангазеи уходит последний коч. К этому времени мы должны быть на мысу.
– Слушай-ка.., это же тысяча верст! – воскликнул Меншиков, и князь Федор поглядел на него с восхищением: чудилось, у этого человека перед глазами карта.
– Около того, – согласился он. – Самое большое – десять дней пути водою. В губе течение еще посильнее, чем в Оби, – вынесет само собой, куда надо.
– А в сентябре, говорят, здесь уже морозы, по морю шуга пойдет, – озабоченно сказал Меншиков. – Если предположить, что вам повезет, и дойдете до мыса вовремя, и подберут вас – что будет, коли лед на море станет?
– В таких случаях поморы зимуют на Груманте или на северных берегах – куда пристанут. Однако обычно они успевают до Архангельска дойти, ну а уж там иноземный корабль встретить – полдела! Увезут нас в Англию, и поминай как звали! – взмахнул он ладонью, пытаясь подчеркнуто-уверенным голосом, и этим жестом, и всей своей повадкою заглушить то опасение, которое возникло в душе после слов Меншикова: «вам повезет», «вас подберут». Не нам, нас… Вам, вас – как будто его самого уже и на свете не было.
И Александр Данилович, поняв его тревожный взгляд, тихо сказал:
– За то, что рискуешь и еще пуще рисковать готов ради спасения нашего – земной тебе поклон. Но только.., я останусь.
– Как это?! – возмущенно вспыхнул князь Федор. – Об этом и речи не мо…
– Не прекословь. – Меншиков сурово выставил вперед ладонь. – Знаю, что говорю. Сам посуди, ну как я уйду – государев супостат и враг? Каков ни есть Боровский добрый человек, а своя рубашка ближе к телу, и голова у человека всего одна. Снарядит за нами погоню – это уж как пить дать! И далеко мы уйдем таким табором? Нет, лучше без меня!
– Что ж ты думаешь, тебе тут легче будет, когда мы уйдем одни? – спросила Маша голосом столь хриплым, словно он раздирал ей гортань и душу, и князь Федор, и отец воззрились на нее с некоторым изумлением, ибо в пылу словесной баталии даже как-то позабыли о ее присутствии. – Нас, думаешь, не хватятся?
Коли на то пошло, и брат Саша, и я тем паче тоже преступники государевы. Нас тоже Боровский будет гнать по тайге беспощадно!
Меншиков кивнул растерянно.
– Да… Но все же без меня будет проще: может быть, над тобой Боровский и смилуется.
– Да что толку попусту рядиться! – возмущенно воскликнула Маша. – Я все равно без тебя никуда не тронусь!
– Что это значит – не тронусь? – вскинул брови отец – и ахнул, когда Маша тихо молвила:
– Я перед иконами поклялась, что не покину тебя до смерти.
И князь Федор наконец понял, почему она смотрела на него с жалостью!
Глава 13
Залог свободы
Он молча прижал к глазам стиснутые кулаки, да так, что зарябило в глазах. Опустил руки, выпрямился, незряче глядя в окно, и лицо его было спокойным – таким спокойным, что Маша, содрогнувшись, шагнула было к нему, вдруг осознав, что сделала со своим возлюбленным, – и запнулась, наткнувшись на его пристальный, но незрячий взгляд.
Чудилось, он что-то вспоминал, старался вспомнить…
Да, все это уже было, было с ним! Как это она сказала тогда? "Я дочь Александра Данилыча Меншикова.
Его честь – моя честь, его бесчестие – мое бесчестие!"
Ну а теперешние слова ее и этот исполненный муки взор означали: «Его жизнь – это моя жизнь!» И ни тогда, ни теперь она не думала, не говорила о том, кто ради нее презрел уставы семьи, предал своих родных, обманул государя, нарушил божьи клятвы, оставил и покинул все, что имел, что мог иметь, расставшись разом с прошлым, настоящим и будущим веселого, богатого, удачливого человека по имени князь Федор Долгоруков, добровольно взвалил на себя крест изгнанника и страстотерпца. Ни тогда, ни теперь она не говорила, не думала о любви.
Смертельная печаль, обида серпом ударили по сердцу. Князь Федор даже охнул, прижав руку к груди, словно к зияющей ране. Все смерклось в глазах. Никогда в жизни, даже валяясь полуживой от Бахтиярова удара в навозной грязи, не чувствовал он себя столь униженным, раздавленным – и никому во всем свете ненужным, как сейчас!
Нет, прочь отсюда. Довольно! Любовь – да. Унижение, беспрестанное испытание и поношение – нет!
Всю жизнь свою он бросил к ее ногам и что же? Поклялась, значит? Но ведь и ему клялась она в верности вечной и нерушимой! С этой клятвою как быть?..
Да что! Нет больше силы, нет ее… Повернулся, чтобы уйти, – и наткнулся на кого-то, ставшего поперек дороги.
Ярость вспыхнула с такой силой, что ослепила князя Федора; в ушах тяжело загудело. Он не хотел бы оттолкнуть ни Марию, ни ее отца – кто еще, кроме них, мог бы заступить ему путь? – а потому шагнул влево, потом вправо, пытаясь обойти нежданное препятствие, однако оно не исчезало: напротив, человек переступал вместе с ним, снова и снова мешая идти, а потом вдруг чьи-то руки схватили его за плечи и так встряхнули, что гул в ушах рассеялся и сменился знакомым перезвоном, а посветлевшие глаза наконец различили бледное, нахмуренное лицо Сиверги.
Так вот кто мешал ему пройти! И не успел князь Федор толкнуть ее или прогнать прочь, как Сиверга сама с силой толкнула его на лавку, словно это он был досадной помехой на ее пути, и, больше не взглянув ни на него, ни на Марию, прошла через избу, взяла за руку остолбенелого Меншикова со словами: «Пойдем, все узнаешь, что будет!» – и повлекла его к малой кадочке с водою, стоявшей в углу.
* * *
В это же мгновение Маша пролетела расстояние, отделявшее ее от князя Федора, и прильнула лицом к его лицу, губами к губам, телом к телу. Так приникают дыханием к оконному стеклу, покрытому густым белым куржаком, желая протаять морозные оковы и взглянуть на белый, живой свет.
Может быть, страх, который испытала она, впервые не увидев любви в глазах возлюбленного, явился тем самым благотворным, очистительным потрясением, которое иногда нужно испытать человеку, чтобы не закоснеть, не задеревенеть в тисках жестокожития, но только чувствовала Маша себя сейчас так, словно только что проснулась после долгого-долгого, исполненного бесчисленных кошмаров сна, сбросила его, будто тяжелый, душный пуховик, и теперь торопится надышаться утренней прохладою.., пусть даже и спускается за окном синий вечер. Она заснула там, в Раненбурге, вьюжной декабрьской ночью, в объятиях тайного супруга, а пробуждение настало только сейчас. Все, что было с тех пор, не более чем черный морок, мгла, которая ушла, а любовь осталась.
Напряженное тело князя Федора чуть дрогнуло в ее объятиях. Его как бы отпустило… Он слабо вздохнул – Маша поймала его дыхание своими губами и припала к нему долгим, страстным, неотрывным поцелуем, словно хотела губами своими высосать из его сердца, как яд змеиный из раны, горечь, и обиду, и печаль – все то мутное и темное, что смешалось с любовью за эту долгую, долгую ночь.
На миг она словно бы лишилась чувств в поцелуе, но руки князя Федора, до боли стиснувшие, прижавшие ее к себе, их жар, их страсть исторгли из ее сердца блаженный стон.
Меж телами их не осталось, куда венути даже самому малому ветерку. Одежды, чудилось, расплавились.
Будь они обнаженными, это ничто не изменило бы: нельзя было оказаться ближе! Исчезла даже телесная оболочка: два сердца, исполненные любви, прильнули друг к другу.
Все было понято, все забыто, все прощено. Все изжито! Ведь если двое – плоть едина и дух един, если они созданы друг для друга, то они не могут существовать врозь, в молчании и отчуждении, долее одной минуты. Для них ссора страшнее разлуки, ибо означает разлуку сердец. А сердце-то у этих двоих одно!.. И жить невозможно, дышать невозможно, пока не прильнут они, блаженные, друг к другу, растворяясь – и возрождаясь в обновленной, вечно живой своей любви.
* * *
Конечно, они не видели ничего вокруг – да свершись сейчас светопреставление, их ослепил бы только свет любимых глаз! – но и те двое других, которые были в горнице, тоже не замечали ничего вокруг себя.
Доверие, коим с первого мгновения исполнился к Сиверге Меншиков, было сродни покорности. Он стоял как завороженный, пока Сиверга легким, почти невесомым движением скользнула по его голове и пристально взглянула на седые волоски, обвившиеся вокруг ее пальцев. Меншикову показалось, будто в глазах шаманки мелькнула скорбь, но тут же она отвернулась и принялась медленно водить волосками по темной воде, бывшей почти вровень с краями кадки.
Александр Данилыч нахмурился. Он не любил ворожеек и не мог понять, почему так доверчиво подчиняется Сиверге. Даже если бы он хотел, все равно не смог бы сейчас заставить себя отвести взор от двух змеистых дорожек, пробежавших от края до края кадки.
Сиверга провела волосками поперек этих дорожек – и заволновалась вся поверхность воды, зарябила, да так, что у Меншикова закружилась голова, земля пошла под ногами… Чтобы удержаться, он схватился за края кадки, невольно приблизился к ней – и сердце его замерло, когда сквозь рябь, словно далекое отражение, он увидел в глубинных струях свое собственное лицо, тронутое седой щетиною, худое, желтое.., нет, восковое! Это было лицо мертвеца, и Александр Данилыч понял, что видит себя лежащим в гробу, еще прежде, чем разглядел белый платок, подвязывающий ему челюсть, и черную похоронную ленту, охватившую лоб, и тоненькую свечечку в домиком сложенных руках.
Меншиков повел оторопелым взором и увидел Сашеньку, рыдающую на груди у мрачного брата, который глядел в мертвое лицо отца со странным, враз тоскливым и в то же время мстительным выражением. Поодаль стояли Боровский, работники, жители Березова, исправники, дьяки – Меншиков тяжело вздохнул, поняв, что окончит дни свои здесь, на чужбине, – но почему-то не было возле его гроба Маши, а служил новый, незнакомый священник, не прежний березовский, и церковь.., церковь была новая, полупустая, еще почти не убранная иконами, отражавшая мерцание свечей своими белыми, светлыми стенами.
«Я построю ее! – радостно стукнуло сердце. – Я успею ее построить!»
Он вздохнул с таким облегчением, так глубоко, что новая волна ряби от его дыхания прошла по воде, и в темной глубине открылось Меншикову другое зрелище. Он увидел свою младшую дочь, несколько повзрослевшую, но еще в полном расцвете своей девичьей красоты (при этом Меншиков отчего-то знал доподлинно, что с сего дня минуло два года с небольшим), которая следовала в церковь (ту самую, покойным отцом строенную!) и заметила в окне убогой хижины незнакомого мужика, который замахал ей и выбежал на крыльцо.
Бог ты мой!.. Да ведь это был не кто иной, как Алексей Григорьич Долгоруков! Не веря своим ушам, выслушал Александр Данилыч его рассказ о смерти Петра II и страшных гонениях на Долгоруковых – и был изумлен собою, ибо должен был испытывать злорадство при виде скорби врага своего, а испытывал лишь глубокую, неизбывную печаль; чудилось ему, что он сам повествует о своих злоключениях:
«Нас везли сюда жестокие гонители и враги наши, как величайших злодеев, – лишили нас даже самого необходимого в жизни. Жена моя умерла дорогой, дочь моя умирает и, конечно, не избегнет смерти. Но я намерен вернуться и отомстить…»
Горький смешок сорвался с уст Александра Данилыча и перешел в сдавленное рыдание, ибо тотчас же открылось ему, что не дождется отмщения его супостат.., жалкий враг его. Александра с Александрою узрел Меншиков в Петербурге, в богатстве и довольстве, а Долгоруковых…
Увидел он красавицу Екатерину Долгорукову в столь строгом монастырском затворе, что даже сухой хлеб и воду подавали ей сквозь малое оконушко в дверях. Увидел он и Алексея Григорьича, лежащего в гробу и отпеваемого в той самой церкви, которую выстроил сгубленный им Алексашка. И еще одного ярого гонителя своего, Василия Лукича, узрел Меншиков: на плахе, обезглавленного… А рядом с ним, на Скудельничьем поле, в версте от Новгорода, был разрублен еще живым начетверо красавец, весельчак, баловень судьбы и царский фаворит Ванька Долгоруков. И при виде его окровавленного, смертной росою окропленного чела понял Александр Данилыч, почему льются из его глаз слезы жалости, а не злорадства: все они равно были скованы цепями грехов своих, и каждому воздалось по заслугам, но без справедливости, ибо не праведно возмездие всякое, кроме божьего, а оно – слепо и, увы, разит мимо…
Глаза его тоже ослепли от слез, сердце надрывалось от боли – дорогую плату вносим мы за предвидение, ибо истина бесценна! – и, словно в награду, открылась ему еще одна картина, которая пролила елей на его истерзанную душу, и зарубцевала раны сердца, и укрепила его, и дала силы смотреть на мир, где он пока еще жил, и говорить с теми, кто еще был рядом, и даже.., лукавить, ибо именно лукавство было первейшим свойством натуры Алексашки Меншикова.
Он медленно приблизился к Маше, которую князь Федор боялся выпустить из объятий хотя бы на мгновение, взглянул в ее прекрасные, влажные, виноватые от счастья глаза – и преклонил пред нею колени. Суровым жестом остановил этих ненаглядных чад своих, смущенно бросившихся поднимать его, и вымолвил:
– Теперь ведаю – вы уйдете отсюда вдвоем. О нас не беспокойтесь: два года, что остались до помилования, Александр с Александрою как-нибудь вытерпят… «Мой же век измерен», – этого он не сказал, только подумал, и продолжал:
– Ежели хочешь ты, чтобы жил я здесь спокойно, не терзаясь совестью («Последние дни», – добавил он мысленно), молю тебя как о величайшей милости… – Он перевел дыхание и произнес прерывисто, словно задыхался от слез:
– Молю тебя нарушить свой обет. А я отмолю, отмолю твой грех.., я построю церковь, и господь простит тебе, что ради отца ты согрешила. Простит, я знаю!
Он склонил голову, чтобы не видеть исступленной любви в Машиных глазах – это лишало его сил, а они еще пригодятся.
– Батюшка, клянусь.., да я для тебя хоть на плаху… что там грех… – едва смогла пролепетать Маша, и камень свалился с плеч отца.
Меншиков вскочил, благодаря бога, что глаза Машины сейчас отуманены слезами и она не видит молниеносно-быстрых взглядов, которыми обменялись ее муж и отец. Взор Федора выражал преклонение и печаль, ибо он многое способен был видеть духовными очами и слышал даже неизреченное, ну а Меншиков приказал ему молчать и слепо подчиняться.
– Но как же? – снова забеспокоилась Маша, внезапно осознав, какие последствия повлечет за собой ее согласие исполнить волю отца. – Брат с сестрой не простят мне вовеки свободы, гнев великий я на тебя навлеку. Мало, если будет всего лишь погоня за нами да суровое дознание, – как проведают про мое бегство в столице, не замедлят сжить тебя со свету!
– Во всем ты права, моя разумница! – Рука отца легонько, ласково подергала ее за косу, как в детстве. – И что брат с сестрой – твои завистники, ненавистники твои, и что кары ждут нас немилостивые. Но я знаю, что должно сделать, дабы целы были овцы и сыты все лютые волки. – Он помолчал, хитро глянул в настороженное лицо князя Федора, потом в Машино – покорное, детское, милое – и сказал, как выстрелил:
– Ты для сего должна умереть!







