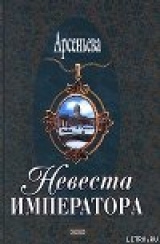
Текст книги "Невеста императора"
Автор книги: Елена Арсеньева
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 25 страниц)
Глава 8
Король дураков
Теперь он знал о ней все. Он знал, как она ласково приоткрывает губы и нежно прижимается к его языку в поцелуе. Он знал, как, вдруг задохнувшись, она отрывается от него и тотчас, словно пытаясь загладить некую воображаемую обиду, покрывает быстрыми, легкими поцелуями уголки его рта. И резко, до стона вздрагивает, тесно прижимается к нему чреслами, не в силах больше ждать: желание вспыхивало в ней мгновенно, как искра, и она сгорала от нетерпения как можно скорее утолить страсть. Он знал, что она не умеет ждать и хочет раз за разом испытывать ту власть, которую имеет над ним…
Князь Федор тяжело, прерывисто вздохнул. То, что свершилось меж ними на поляне, залитой солнцем, не могло быть описано никакими словами. Это было как возвращение к жизни, самозабвенный восторг, очищение, искупившее его невольный грех с Сивергой. Федор хотел открыться ей там же, на поляне, едва разомкнув объятия, но послушался голоса рассудка и ушел, оставив по себе лишь рваный зеленый платок, в котором когда-то изображал исламского абрека и который хранил с тех пор, ибо он оставался единственной памяткой о незабываемой раненбургской ночи.
Он поедом ел себя за то, что не дождался Машиного пробуждения, однако знал, что тогда не мог поступить иначе. И дело здесь было не только в заверениях Сиверги: мол, Мария слишком исстрадалась, чтобы выдержать реальность его возвращения; разум и сердце, надорванные горем, могут и не перенести радости, ей надо пока что привыкнуть к призрачному счастью, призрачной любви, измучиться этой призрачностью и взмолиться о воскрешении мертвого.
Дело было в ином… Сотворив человека, бог вселил в него нечто божественное – некий подобный искре помысл, имеющий в себе свет и теплоту, – помысл, просвещающий ум и показывающий ему, что добро и что зло. Называется это совестью.., и она угрызала князя Федора непрестанно. Для него открыться Маше значило сознаться ей во всем.
О, конечно, он не сомневался, что в первые мгновения, часы, дни встречи она будет так счастлива видеть его живым, что и слушать не пожелает его исповедь, а если и выслушает, то не поймет. И только когда минует первое опьянение счастья и наступит похмелье, она осознает, что жизнь ее зависит от человека, ввергнувшего ее семью в пучину горя и бедствий: разрушившего их благоденствие, убившего ее мать, жестоко обманувшего ее невинность, осквернившего их святые клятвы перед алтарем… Что ей до того, что он и сам уничтожил себя и прежнюю свою жизнь? Это был его грех, а наказание понесла она. И этого она не простит. Не простит!
* * *
Дни шли за днями, складывались в недели, и князь Федор все глубже погрязал в трясине своих тягостных мыслей, не в силах продолжать обманывать Машу – и не находя сил открыться ей. Прошла неделя, и другая, и третья. Сиверга не раз появлялась в его избушке, говоря, что Маша умоляет о новом свидании с возлюбленным призраком, но князь Федор отказывался раз за разом. Любовная горячка жгла его и сушила, Савка почти с суеверным ужасом глядел на изнемогающего своего господина, который сам себя пытал небывалой пыткою. Сиверга сперва ревниво подсмеивалась, не веря, что он долго будет ждать новой встречи с женой, посматривала на него сначала недоумевающе, потом недовольно, а потом с откровенной злостью, уже требуя, чтобы он пошел к Маше.
– Ну вот что! – провозгласила Сиверга, разъярясь наконец окончательно. – Я приду к тебе завтра, и если ты опять скажешь «нет», клянусь Матерью Земли Калтащ Эква, создавшей человека: наведу на тебя такие чары, что ты и знать не будешь, а пойдешь к ней и возляжешь с ней!
Он попытался возражать, угрожать – Сиверга не стала ничего слушать и исчезла, даже не позвенев своими бубенчиками: так рассердилась, что и они тоже рассердились. И князь Федор понял, что отсиживаться больше не удастся – надо что-то решать.
Решать для него значило одно – сознаться. Так и этак раздумывая о том, чем закончится это признание, он вдруг набрел на мысль настолько простую и очевидную, что было поразительно, как она не пришла ему в голову раньше. Изумляясь бесспорности этого решения и своей прежней тупости, князь Федор некоторое время сидел, незряче вылупясь в дальний угол избы, – к великому ужасу Савки, который и окликал его, и тряс, и даже непочтительно щипал, а потом оставил все усилия прервать сие оцепенение и тихонько заплакал, решив, что барин вовсе тронулся умом. В эту самую минуту князь встряхнулся, вскочил и ринулся к кадке – умываться, начал приглаживать волосы, готовый немедля пробраться тайком в Березов и во всем признаться.., но не Марии. Ее отцу!
* * *
Именно перед ним, перед этим королем, ставшим пешкою в его любовной самонадеянной игре, порешил князь Федор повиниться в первую голову, ибо отравление Меншикова стало первым звеном в цепочке его преступлений. Как скажет Меншиков, так и будет.
Он доверил светлейшему роль и суда, и палача, готов был по первому слову, даже знаку его немедля перерезать себе горло, повеситься, утопиться – да какая разница, какой смертью умереть, ежели Александр Данилыч не простит его, а как следствие – потребует оставить Марию?.. Весь исполнясь жертвенной решимости, Федор даже сам от себя таил надежду на прощение, однако втихомолку рассудил: ежели Меншиков окажется великодушен, то он явится единственным человеком, кто сможет уговорить Машу бежать из Березова, покинуть отца. Князь Федор слишком хорошо помнил березайскую конюшню, чтобы не опасаться отказа: эта девочка, его жена, лучше сердце себе разорвет, но чести своей не уронит.
Его кидало то в жар, то в холод: безнадежность насмерть билась в душе с надеждою, и руки его тряслись, когда наконец он нашел где-то под нарами шапку, накинул на плечо ремень ружья и жестом остановил перепуганного Савку, когда тот ринулся вслед.
Нет, ему не нужна никакая охрана на пути к своей судьбе, и если дикий зверь прервет зубами или клыками этот путь, значит, так было суждено.
Он шагнул к выходу и уже протянул руку, чтобы отодвинуть шкуру, загораживающую проем, как вдруг она отлетела в сторону, и лицом к лицу с князем Федором стал какой-то высокий человек.
– Кто? – изумленно воскликнул Федор и осекся.
Меньше мгновения понадобилось ему, чтобы узнать неожиданного гостя!
Это был Бахтияр.
* * *
Князь Федор оцепенел; Савка оказался проворнее – пролетел, как храбрая птица, навстречу противнику, сжав кулаки, но Бахтияр неуловимо резким движением выставил стволы своего ружья. Савка с размаху ударился о них горлом и, хрипя, рухнул на пол. Федор рванулся было к нему, но Бахтияр навострил на него дула, и князь принужден был остаться на месте, с тревогой поглядывал на Савку, который вытянулся дугой, задыхаясь, – и затих, безвольно раскинулся…
– Отойдет, ничего, – небрежно бросил Бахтияр. – Мне он не надобен. Мне ты надобен!
Князь Федор криво усмехнулся: вот в этом нет никаких сомнений! Но как же нашел его Бахтияр? Верно, выследил Савку. Но почему? Как он мог связать слугу, коего никогда не видел, с его якобы погибшим господином, появления которого нигде, кроме как на том свете, и вообразить нельзя?! Или это случайность? Или Бахтияр следил за Сивергой да случайно обнаружил соперника? Нет, что толку ломать голову. Насколько князь Федор знает тщеславного черкеса, тот не замедлит и сам похвалиться.
Он угадал.
– Думаешь небось, как я тебя отыскал, проклятый душман [71]71
Разбойник (татарск.).
[Закрыть]? – ухмыльнулся Бахтияр. – А вот как!
Он медленно потянул что-то из-за пояса, и князь Федор невольно покачнулся. Он не верил своим глазам: тот самый зеленый платок, тот самый…
– Узнаешь? – прошипел Бахтияр, вертя в воздухе драным лоскутом, и швырнул его князю Федору: зеленое облачко взмыло и медленно опустилось на пол. – А это узнаешь? – Он выдернул из-за пазухи лоскут поменьше – тоже зеленый, тоже шелковый… – А ну, приложи один к другому – увидишь, что будет!
Князь Федор не шелохнулся. Ему не нужно было соединять лоскуты – зачем, если он и так знал, что это один и тот же платок, им же самим разорванный вьюжным декабрьским утром, в заснеженном ложке близ Раненбурга… Ах, черт! Федор оставил этот кусок шелка Маше на поляне, возле чума Сиверги, как знак своего присутствия, а пакостник Бахтияр украл его – ну и свел концы с концами…
«Бахтияр, конечно, нечисть, – словно бы сказал в его голове чей-то укоризненный голос. – Но ты тоже хорош! Зачем платок оставил?! Вот уж правда что: кабы у дятла не свой нос, кто б его в дереве нашел? Дятел ты – дятел и есть!»
Да, утер ему нос Бахтияр! Опять с ним посчитался.
Эк у них все по нулям выходит: сначала Федор одержал верх, в Каменном саду спасши от Бахтияра Машу и едва не изувечив ошалевшего черкеса. Через несколько месяцев в приснопамятной конюшне Бахтияр оставил его валяться в грязи и не прибил до смерти, только повинуясь приказанию своей госпожи. Вскоре князь Федор взял реванш, и, как бы ни сложились события в дальнейшем, он и перед смертью расхохочется, вспоминая «зеленое знамя ислама» на снегу и рев Вавилы:
«Аллах акбар!» Но Бахтияр, увы, оказался не дурак, и, похоже, настал его черед смеяться над противником.
Вот сейчас выпалит ему в грудь из одного да другого дула этого роскошного, верно, принадлежащего самому светлейшему охотничьего ружья – и все терзания совести, все муки нерешенных проблем улетят от князя Федора, как улетает дым от погасшего костра! Ну, знать, такая судьба…
Он вдруг распрямил плечи, глубоко вздохнул. Почему-то сделалось легче, лишь возложил он вину за свершившееся на судьбу. Ясно, что только один из них выйдет из этой избушки – ну так пускай жребий небес рассудит, кто это будет.
– Во всем виновен ты! – с ненавистью бросил Бахтияр. – С самого начала – ты!
– Надо полагать, я первый был, кто тебе рыло расквасил? – не мог удержаться князь Федор, чтобы не задраться, и ствол с силой вонзился в его грудь, а палец Бахтияра заплясал на курках.
И вдруг черкес отстранился:
– Думаешь, я тебя за то поклялся убить, что ты у меня ее отнял? За женщину биться – обычное дело, на то она и женщина, а мы – мужчины. Нет.., ты ей зла желал!
– Ну да, я – зла, – с издевкой кивнул князь Федор. – А ты, конечно, добра, когда ее насилкой брал?
Ничего себе добро!
– Так это ж потом! – вскричал Бахтияр возмущенно. – Потом насилкою! А сначала она… – Черкес умолк, словно подавился.
Князь Федор отпрянул. Кровавая мгла затянула взор. Сейчас Бахтияр скажет – и это будет последнее слово в его жизни, потому что даже если он выстрелит в князя Федора, тот успеет перервать зубами его горло за это позорное, роковое слово!
Но Бахтияр не говорил ни слова, и красная пелена мало-помалу сошла с глаз, Федор мог видеть – и с недоумением увидел, что черкес, хотя и держит руку на спусковых крючках, немного приспустил ружье и с тревожным, болезненным любопытством вглядывается в лицо соперника.
– Одного не пойму, – пробормотал черкес, – коли ты за ней сюда пришел, так зачем таишься и ее терзаешь неизвестностью?
Слова Бахтияра были Федору как укус собаки.
И самое ужасное, что недоумение сие было справедливым. Сейчас, перед лицом смерти, в оба глаза глядящей на него сквозь черные стволы ружейные, князь Федор вдруг осознал, каким же он был бессердечным дураком. И сам мучился, и ее, голубушку, мучил. Да что за беда? Сознался бы в грехе, а когда б она отвернулась, нашел бы себе скорую смерть. Это все ж милосерднее, чем терзания неизвестностью. Спасибо Бахтияру.., вот смех-то: спасибо Бахтияру, лютому врагу, что сподобил осознать, до какого греха довела его темная сила злых страстей. Любопытно, что скажет или содеет Бахтияр, ежели князь Федор вдруг примется благодарить его за вразумление?
Воображаемая картина показалась настолько несусветной, что князь Федор не удержался от нового смешка – и тут же смешок сей сменился болезненным стоном, ибо дула с новой силой врезались ему в грудь.
– Ты!.. – взревел Бахтияр в ярости. – Будь проклят ты! Смех тебе – а ей смерть! Ты жив, похохатываешь – а она, пташка с крылом перебитым, не чает, как жизнь избыть, чтоб с тобой на небесах, в вашем русском раю соединиться! Только ей-то там место, а вот твою черную душу жестокосердную демоны в аду будут терзать! За что, ну за что ты ее так? Она ведь из-за тебя жизни решалась!
Князь Федор похолодел. Что он врет, поганый басурман? Все он врет!
– А, ты не ведаешь? – злорадно вскричал Бахтияр, заметив, каким смятением полыхнули светлые, дерзкие глаза ненавистного гяура. – Неужто? Ну как же! Что тебе до ее жизни и смерти! Что тебе до нее!..
Исступленный крик его оборвался, ибо, внезапным движением вывернувшись из-под стволов, князь Федор вырвал ружье из руки Бахтияра и швырнул в угол с такой силою, что от удара дуплетом ударили выстрелы, которых, впрочем, не заметили ни тот, ни другой: стояли, скрестив сверкающие взоры, и ежели б можно было убивать глазами, оба уже лежали бы бездыханны.
Князь Федор шагнул вперед – Бахтияр невольно попятился, обожженный этим горячим взглядом, и это был миг, когда он утратил преимущество внезапности: гяур оказался стремителен, как молния, и притиснул черкеса к стене, приставив ему кинжал к горлу. Достаточно было одного резкого движения, чтобы клинок вонзился в яремную вену – и прощай, жизнь.
Да что! Бахтияр не замедлил бы проститься с жизнью, ибо все равно не жил, а медленно истлевал от сердечной муки. Он с радостью кинулся бы на острие, но не мог отказать себе в последней радости – помучить негодяя, который, похоже, все еще сомневался, что он – негодяй.
– А, не знаешь! – хрипло засмеялся он, почти с наслаждением ощутил, как царапает горло кинжал и слабая струйка крови щекочет шею. – Не знаешь, что, едва мы старую княгиню схоронили, как прибежал к нам верховой с пакетом, и в письме были слова, мол, Федор Долгоруков сгорел дотла.., после свадьбы? Ты ее дважды убил тогда, дважды: изменой и смертью!
– И что она? – грозно спросил князь Федор, передернувшись от страшных воспоминаний (как вспыхнул порохом старый, пересохший дом, как гуляло пламя над головой, как он рвался к окну с бесчувственной Анной на руках, но всюду, куда ни поворачивался, вставала стена чадного пламени, так что, могло статься, когда б не Савка, весть о его смерти была бы вполне правдива!).
– Она, как услышала о том, сразу кинулась в стремнину и камнем канула ко дну, – ответил хрипло Бахтияр, холодея от воспоминаний (как сковала тело ледяная вода, как оплели его руки, словно водоросли, ее распустившиеся волосы, как мертвенно, призрачно белело сквозь зеленоватую толщу воды пятно ее лица, как тяжелы были пропитавшиеся водою юбки, так что, ежели б не спустили с баржи багры, не подцепили ими платье княжны, могло статься, не стоять им с проклятым русским в тайге на берегу Сосьвы, меряя друг друга ненавидящими взорами!).
Он не сразу понял, что это означает, почему исчезла боль в горле. Как сквозь туман, недоверчиво глядел на русского, убравшего кинжал в ножны и стоявшего понуро, бессильно свесив руки. Теперь было самое время Бахтияру хвататься за кинжал, но и он почему-то оцепенел, только ноги тряслись от слабости да противный, липкий пот стекал по спине.
– Ну вот что, – проговорил наконец князь Федор, с таким трудом исторгая из себя звуки, словно делал невероятно тяжелую работу. – Крепко наши судьбы сплелись, не разорвать, а по этой узкой дорожке вдвоем не пройти. Чаял я тебя убить – теперь не смогу, ибо если б не ты… – Он умолк на мгновение, схватившись за грудь.
– А я – тебя не смогу! – с тихой, убийственной ненавистью сознался Бахтияр. – Мне лучше самому умереть, чем ее ранить. Это я знаю тверже, чем Коран, что бы я.., ни делал…
Он поперхнулся словами.
– Пусть судьба решит, – молвил князь Федор, и жизнь вспыхнула в унылом взоре молодого черкеса:
– Жребий? О, жребий – это наш адат [72]72
древний обычай горцев, ставший законом.
[Закрыть]!
– Вот слушай. Веришь, что в эту минуту не солгу, не обману? – спросил князь, положа руку на сердце.
Бахтияр зыркнул жгучими глазами, прищурился – и обронил словно против воли:
– Верю тебе, гяур…
– Тогда иди сюда. Смотри.
Князь Федор стал на колени и вытащил из-под нар дорожный сундучок, ощущая, как напрягся за его спиной Бахтияр. Да, сейчас их мужская вера друг другу проходила серьезную проверку: в сундучке мог оказаться, конечно, заряженный пистолет, но, с другой стороны, незащищенная спина князя была вполне открыта удару черкеса… Эта мысль враз мелькнула у обоих и тут же исчезла, когда Федор достал из сундучка небольшой ларчик. Это было некое подобие garbe bijoux [73]73
Шкатулка для драгоценностей (фр.).
[Закрыть], ну а для Бахтияра – просто очень нарядная шкатулка, настолько изукрашенная резьбой, что пристала бы женщине.
Он усмехнулся, однако следующие слова соперника надолго превратили эту усмешку в страдальческий оскал:
– Здесь два флакона с ядом, – сказал князь Федор, поглаживая резную крышку. – Вернее, один с ядом, а Другой – просто с мятным маслом, которым надо разбавлять яд, чтобы придать ему приятный вкус, запах и добиться нужной крепости. Я купил шкатулку вместе с ее содержимым за тысячи верст отсюда, в шумном, прекрасном городе, в таинственном подвальчике, у человека, чье лицо было точь-в-точь как у предводителя всех злых духов на земле. – Голос его звучал так равнодушно, что Бахтияр, даже против воли, верил каждому слову. – Я заплатил немало.., немало, без сожалений, ибо знал: настанет час, когда яд пригодится мне. Однажды я думал… – Он тяжело вздохнул. – А, неважно.
Вот час и настал. Поиграем смертною игрою, а, Бахтияр?
Возьми не глядя любую бутыль и осуши ее, а я выпью, что останется. Или, если хочешь, я буду первым.
– Давай! – азартно сверкнул глазами Бахтияр, и князь Федор, не глядя, откинул крышку, схватил на ощупь один из двух пузатых флаконов и, сорвав пробку, опрокинул содержимое в рот.
Совесть его была вполне чиста, ибо он не помнил, справа или слева поставил бутылочку с ядом. Различал он флаконы по цвету: тот, что с ядом, имел желтоватый отлив, а с мятным настоем сверкал, как изумруд, поэтому нарочно зажмурился, чтобы не нарушить правила игры, но после первого глотка, ощутив во рту резкий, холодный привкус мяты, понял: судьба на его стороне.
Значит, бог простил его! Простит и Мария, теперь он знал!
Нетерпение распирало его: хотелось бежать, лететь к ней как можно скорее, но он все сидел с закрытыми глазами, боясь взглянуть, боясь увидеть соперника, умершего на месте, с лицом, искаженным мгновенным, но чудовищным страданием. Князь Федор был человеком большой храбрости, а значит, не был жестоким, и у него сердце сжималось при мысли о том, что успел тот испытать, прежде чем испустил дух. Больно умирать каждому!
Наконец, собравшись с силами, он решился открыть глаза.., и едва не вскрикнул, натолкнувшись на холодноватый взор Бахтияра, глядевшего на него с весьма холодным духом и как раз в этот миг вопросившего:
– Ну? И кто из нас уже умер?
* * *
Князь Федор тупо разглядывал обе склянки по очереди, холодел от того, что увидел: желтовато-ядовитый осадок плескался на дне его сосуда, в то время как в Бахтияровом флаконе на стенках изумрудно мерцали зеленые капли.
– Шайтан! Во рту холодно, "будто сугроб! – пробормотал черкес.
Боже! У Бахтияра во рту холодно от мяты. Значит, яд достался не ему!
Ужас пронзил князя Федора, но тут же сменился недоумением. У него во рту тоже холодно от мяты. Вдобавок выпить полфунта яда Экзили и еще оставаться живым.., не может быть! Он ощупал себя руками, недоумевая, почему руки и лицо теплые, сердце колотится как бешеное, а вовсе не пропускает удар за ударом.
Кой черт пропускает! Он уже должен давно валяться бездыханным трупом, если выпил яд! Но не валяется. Значит, отравлен Бахтияр. Но он почему-то тоже вполне жив. А если так.., о господи, если так, выходит, что ни в одной склянке не было яда! Они оба живы, живы, а главное.., князь Федор схватился за лицо, силясь заглушить рыдание.
Все мешалось в голове, плыло перед глазами, его трясло как в лихорадке, но это были вовсе не симптомы отравления. Радость, огромная, непредставимая радость обессилила его до слез.
Если они оба живы, выпив содержимое заветных бутылочек до дна, значит, ни в одной из них не было яда! Значит, в венец королевы Марго он тоже налил безвредной жидкости. Значит, он не виновен.., не виновен! Меншиков заболел не от яда, это просто роковая случайность, и руки Федора чисты. Он чист перед своей любовью и судьбой!
* * *
Закинул голову, вдохнул с наслаждением еще пахнущий мятою воздух и засмеялся во весь голос – этот его смех ударил Бахтияра, словно камча.
– Шайтан! – взвизгнул он, потрясая кулаками. – Смеялся? Одурачил меня? Ну, смейся… Поглядим, кто последний смеяться станет. Пусть теперь мы квиты – но все сызнова начнется. Отныне знай: на каждый твой шаг мой капкан поставлен будет! Берегись, знай!
И вылетел из хижины так стремительно, словно ветром его вынесло.
* * *
Князь Федор сел, устало свесив руки меж колен, дыша тяжело, как старик.
В углу послышался тихий стон. Савка-то, он и забыл!.. С трудом поднялся, доковылял до угла, встал на деревянные, негнущиеся колени. Оказывается, спастись от смерти – всего полдела. Надо еще свыкнуться с тем, что живешь.
Первое опьянение радостью прошло – наступило холодное оцепенение, как расплата за удачу. Он приподнял Савку, прислонил к стене, положил одно мокрое полотенце ему на лоб, другое на грудь и сидел теперь рядом, пристально наблюдая, как синеватая бледность сползает с лица Савки, оно приобретает живые краски, дыхание становится ровнее.
– Скоро очнется, – сказал кто-то совсем рядом, и князь Федор недоумевающе покосился.
Перед ним была Сиверга.
…Она слегка улыбнулась измученному князю, а сама так и шарила глазами по хижине, и ноздри ее маленького носа раздувались, втягивая запахи.
Федор подумал, что ее насторожил незнакомый запах мяты, однако Сиверга на него не обратила ни малейшего внимания: запах распаленных ненавистью мужских тел волновал ее до самых глубин естества!
Запах страстной ненависти, близкой смерти… Здесь двое мужчин только что стояли лицом к лицу, а когда двое мужчин желают убить друг друга, почти всегда в деле замешана женщина.
Сиверга хотела быть этой женщиной, но они схватились из-за другой, и нестерпимая ревность терзала ей сердце.
– Что ж ты отпустил его? Или он тебя осилил? – спросила презрительно, однако князь Федор взглянул на не без стыда:
– Судьба нас обоих осилила нынче.., мы теперь снова равны. Теперь опять начинается бой до победы – его ли, моей – богу ведомо!
– Богу богово, – сказала Сиверга, и Федор невольно улыбнулся: так странно прозвучало это расхожее выражение из уст туземки. – Но я – тудин, я помогу, хочешь?
– Как это? – нахмурился князь сердито. – На ловчую яму Бахтияра наведешь? В болотину заманишь, комарьем до смерти заешь? С тебя станется!
– Нет, зачем так? – обиженно передернула плечами Сиверга. – Это-то любой шаман сможет. Да и ведь я вижу: у тебя руки горят, так хочется сразиться с Бахтияром.
– Хочется! – радостно согласился князь Федор. – Я б с ним каждый день бился-ратился!
– Можно, – кивнула Сиверга. – Это просто. Буду каждый день приводить к тебе тень его, пока все восемь десятков теней его злого духа Городе ты не одолеешь. А с последней тенью и сам враг твой сгинет!
Князь Федор глядел на Сивергу, вытаращив глаза.
Много он чего здесь навидался-наслушался, уж, казалось бы, ко всему привыкнуть пора, ко всякой шуточке этой тудин, а поди ж ты – и его оторопь взяла от изумления!
– Ну уж нет! – едва обрел дар речи выкрикнуть возмущенно. – Бахтияр – мой! Ежели нас яд не взял, значит, судьба нам такая: один от руки другого погибнет. И ты в это дело мешаться не смей. Поняла?
– Понятно, что ж! – дернула плечиком Сивер га. – Как хочешь. Пускай и собаки в покое будут. – Она усмехнулась – да и ахнула, увидев искаженные внезапным ужасом глаза князя, его оцепенелый взор:
– Что ты? Что ты?
Руки его были ледяными, Сиверга прижала их к груди, силясь отогреть, но он остался безучастен, словно и не заметил, как горячи, пышны, упруги груди под тонкой тканью, как напряглись, налились они, ожидая его ласки…
– Да что с тобой?! – выкрикнула сердито, даже ногой топнула, но Федор не повернул головы.
* * *
«Яд нас не взял.., яд нас не взял…» – звенело, ухало в голове, и страшное подозрение сковало его покрепче столбняка. Да, их с Бахтияром яд не взял, но ведь Экзили – он помнил, он твердо помнил это! – там, в подвальчике, на улице Сент-Оноре, дважды нарочно предупредил покупателя, что пробки надо завинчивать чрезвычайно крепко, ведь яд легок и летуч.
Прежде чем отравить венец королевы Марго, он ни разу не открывал бутылочки. Что, если на Меншикова яд все же оказал свое пагубное действие, а за последующий год просто-напросто испарился? Что, если он все же виновен?
Кто-то тряс его… Князь Федор с трудом прорвался сквозь оцепенение, поднял голову.
Сиверга. Стоит перед ним на коленях, силится заглянуть в лицо, твердит:
– Очнись! Что с тобой? Очнись!
Князь Федор вяло поднял ресницы – и глаза Сиверги впились в его взор, как пиявицы, вонзились, словно острые ножи, вплелись незримыми путами в мысли, как ересивая трава [74]74
Плевел, куколь (старин.).
[Закрыть] оплетает пшеницу.
Множество мгновенных картин со страшной скоростью замелькало в голове князя Федора, и каждая была ярче вспышки пламени, и каждая обжигала память.
Вот Экзили повернул свое лукавое, черное, орлиное – нет, дьявольское лицо к молчаливому покупателю, передавая ему тяжелый ларец: «Prenez garde, monsieur!» [75]75
«Будьте осторожны, сударь!» (фр.)
[Закрыть] Он увидел себя, затаившего дыхание, чтобы не вдохнуть ядовитых испарений, и отмеряющего по каплям раствор на шелковый комочек, спрятанный в венце многострадальной Маргариты Наваррской. Он увидел Меншикова, сердито закусившего венец, – и Марию, влюбленную, ревнивую, страстную… Чудилось, весь этот многострадальный год сложился во множество многоцветных картинок, стройным, неведомым образом сделавшихся зримыми и понятными Сиверге. Князь Федор мог бы поклясться, что она знает теперь все, что знает о случившемся он, ибо из ее глаз на него глядели то лживые глаза Экзили, то лукавые и в то же время такие простодушные – Меншикова, и Бахтияр глядел на него со жгучей ненавистью…
Он сморгнул – да нет, что это ударило в голову? Сиверга глядит на него своими длинными, узкими проницательными глазами, бормочет:
– Все видит Око Земли, знает все!
Она провела по его голове, ласково запуталась пальцами в светлых прядях и, как в прошлый раз, выдернула несколько волосков. Подошла к дупельке в углу, повела волосками по воде, оглянулась через плечо на князя Федора – словно позвала взглядом. Он приблизился, опасливо и в то же время с надеждой глянул в темную глубину, думая, что сейчас увидит Машу, и страдая оттого, что опять лежит на пути к ней сомнение и раскаяние.., и отшатнулся: молнии мелькали перед ним, словно решетка, а за этой оградой была другая – из черных туч, но постепенно обе преграды раздвинулись, и, к своему величайшему удивлению, князь Федор увидел тот самый подвальчик на улице Сент-Оноре, в котором сторговался с Экзили. Зловещий итальянец теперь был один и с довольной улыбкою пересчитывал на столе под свечой золотые монеты, вытрясая их понемножку из туго набитого черного бархатного кошеля, расшитого серебряной нитью.
Князь Федор так и ахнул. Это был его кошель, его!
В этом самом кошеле он некогда оставил Экзили деньги в уплату за ларец с ядом! Верно, Сиверга показывает ему, что было тотчас после его ухода. Но что же тут удивительного? Несомненно, жадный итальянец сразу кинулся пересчитывать деньги… Э, да он не один!
Князь Федор увидел незнакомого толстяка, чьи глаза, не отрывающиеся от монет, так и маслились восторгом.
– Quanto?.. О! Ricchezza!.. Noi e ricci! Fin dei conti! – воскликнул он и с хохотом бросился обнимать Экзили:
– Oh, truffatore! Imbroglione! Questo e la aqua e olio! Tu e re truffatori e imbroglioni! [76]76
Сколько?." О! Богатство!.. Мы богаты! Наконец-то!.. Ох, мошенник! Плут! Это ведь просто масло и вода! Ты король мошенников и плутов! (ит.)
[Закрыть]
– A russo e re stupidi! [77]77
А русский – король дураков! (ит.)
[Закрыть] – ответил Экзили и шутливо помахал двери, которая, судя по всему, только что закрылась за русским королем дураков, а точнее – князем Федором:
– Addio! [78]78
Прощай! (ит.)
[Закрыть].
* * *
Ну, слава богу, теперь все стало на свои места!
Князь Федор с восторгом глядел в потемневшую, вновь непроницаемую воду и думал, что нет ничего лучше в мире, чем быть дураком и королем дураков. Дураком!
Не убийцей!
Он радостно кинулся к Савке, вяло шевелившемуся в углу, затормошил его:
– Ну, очнись! Очнись! Экий ты сонливый да дремливый! Очухайся. Теперь все с места тронется. Теперь вопрос дней, когда мы отсюда уберемся! Правда, Сиверга? – обернулся через плечо:
– Спроси свое Око Земли – скоро мы с Машей уедем из Березова?
Она поджала губы:
– Око Земли – не гадалка, не шаманка. Оно отворяется, лишь когда судьба зовет!
Князь Федор, устыдясь, подошел к дупельке, взглянул опасливо в темную глубину.
– Око Земли… – От этих слов, хоть он и не понимал толком их значения, дрожь шла по спине. – Боже мой, Око Земли! – Обернулся с суеверным почтением к Сиверге:
– Оно что, прямо здесь? Прямо здесь?!
Сиверга только хмыкнула:
– Ты солнце видел? В небе оно! А ведь солнечные зайчики по земле пляшут. Так и Око Земли – в глуби земной оно, а всюду зрит. Понимаешь?
Князь Федор рассеянно кивнул. Он помнил одно: теперь его руки, протянутые к Маше, чисты. О, скорее, скорее бы заключить ее в объятия!..
Сиверга поглядывала на него исподлобья. Счастливые не заботятся о мести! Он и думать забыл о Бахтияре. Ну что ж, пусть забирает свою светлоглазую.., если сможет. А местью займется она, Сиверга. И она улыбнулась так, что все гэйен на ее наряде, доселе молчавшие, дружно зазвенели.







