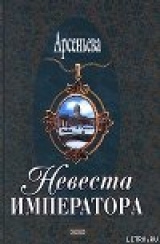
Текст книги "Невеста императора"
Автор книги: Елена Арсеньева
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 25 страниц)
Или себе тоже лжешь – мол, отравилась невзначай, а не то – чахотку нажила? Да ведь ты брюхатая!
Он умолк, с болезненным наслаждением глядя в огромные на исхудавшем личике глаза, исполненные ужаса. Не в силах осмыслить, что это он говорит, Маша медленно простерла руки, выставив ладони и даже пальцы растопырив веером, как бы желая отгородиться от брата, обвиняющих взглядов его и оскорбительных слов. Но вдруг вспомнила, что месячное время ее должно было прийти десять дней тому назад – а не пришло.
И уронила руки, и забыла про грубость Александра, и только смотрела так жалобно и беспомощно, что Сашенька, из-за двери услышавшая эти ужасные, невозможные слова «ты брюхатая» и возмущенно ворвавшаяся в избу с намерением защитить больную сестру, замерла на пороге, увидев ее лицо и поняв, что позорное обвинение – истинная правда.
– Ну, потаскуха! – с удовольствием произнес Александр, который нимало не был удручен, а напротив – чувствовал себя преотлично, глядя, как на его глазах рушится со своего пьедестала и разбивается вдребезги эта мраморная статуя – его сестра. Он ощущал при этом особенное торжество, ибо в его изнуренном страданиями воображении всегда жила ужасная возможность того, что глупый Петр, затосковав по несравненной Марииной красоте, вдруг вздумает простить ее и воротить в Петербург, не пожелав, однако, простить ни отца, ни брата ее – особенно брата, с которым всегда был на ножах. Александр не сомневался, что Мария умчится из Березова – только ее и видели, бросив семью на произвол судьбы, и не станет рисковать ради нее вернувшимся благополучием. Бог весть откуда взялись у Александра такие мысли, но он в этом не сомневался, а поэтому мстительно хохотал сейчас:
– С кем нагуляла? С пастухом? С вогулом? Или с…
Он не договорил. Дверь скрипнула, и в образовавшуюся щель просунулась коричневая сморщенная рожица, распяленная воистину дьявольской ухмылкою:
– Не нужно ли кому подмоги?
Маша отшатнулась; остолбеневшая от услышанного и вновь преисполнившаяся нелюбви к сестре Сашенька тихо, задумчиво всхлипывала в уголке, даже не обратив внимания на вошедшую; и только Александр гостеприимно махнул рукой:
– Давай, вползай, старая козюля [83]83
Народное прозвище змеи.
[Закрыть]! Яду с собой никакого не захватила?
– Не сгодится ли спорынья? – беззубо ухмыльнулась Баламучиха, ибо это была она, бесшумно и проворно проникшая в горницу – в точности как черная змея! – Или пижма ко двору? Или луковку в нужное место посадим – она прорастет корнями во плод, а мы потом луковку выдернем – и младенчика вытянем из утробы. Чего тебе больше по нраву? Али желаешь спервоначалу в баньке попариться, с крыши прыгнуть? – Она злорадно глянула в помертвелое Машино лицо:
– Ишь, носик-то распух, распух! Для зоркого ока – первый признак, что девка – уже баба в тягости. Заподлинно! Да что ж – дурное дело нехитрое…
– Что-о?! – послышался от порога грозный голос, и Маша поникла лицом в подушку, ибо настало сейчас самое страшное: воротился отец.
– Ты что это здесь, козюля вонючая?! – загремел он, надвигаясь на Баламучиху, и будь Маша менее подавленной, она засмеялась бы, потому что отец невольно назвал бабку так же, как и Александр, а пуще всего – глядя, как заметалась, заюлила Баламучиха при виде хмурого, сердитого лица хозяина.
Старуха и сама озлилась: явилась не ко времени! – однако не сомневалась, что эти неслушники рано или поздно все же придут к ней на поклон: куда им еще деваться?! – и, улучив удобный миг, юркнула за порог, не преминув ужалить на прощанье:
– Ну, когда время придет, так и быть, помогу вашу девку обабить [84]84
Принять роды (старин.).
[Закрыть]!
Меншиков так шарахнул дверью о косяк, что ветхая избешка заходила ходуном, а из деревянных ведер, стоявших на полу, выплеснулась вода. И спросил сердито:
– О чем это она тут зловонила? Кто ее покликал – ты, что ль, Александр?
Тот так и взвился. Вечно он крайний для отца! Ишь, загнал своими прегрешениями семью туда, где Макар телят не пас, а все еще взрыкивает по-старому?! И он вызверился:
– Зачем гнал повитуху? Иль не терпится внучка понянчить, выблядка чьего, неведомо?
Меншиков стал столбом, словно ударился о жестокие слова сына. Подозрения, которые у него, человека пожившего, опытного, отца троих детей, не могли не появиться с самого начала Машиной беспричинной болезни, теперь воротились, взметнулись вихрем, закружили так, что он даже пошатнулся, когда поворачивался к старшей дочери и спрашивал:
– О чем это он, скажи ради Христа?
* * *
У Маши позеленело в глазах, словно и впрямь привязалась к ней та зеленая кручина, которую пророчила Баламучиха. Да, ежели бы так! Но что толку лукавить: дело не в зеленой кручине, Александр, кажется, прав, и мерзкая старуха права – они раньше самой Маши разгадали причину ее нездоровья, не угадав, не в силах угадать и даже вообразить главное: кто в сем виновен.
Да и кому, находящемуся в здравом уме, взбредет в голову, что бывшая государева невеста Мария Меншикова, после тайного венчания – княгиня Долгорукова, понесла от призрака.., призрака своего погибшего супруга!
Ах, господи! Как же она мечтала об этом и в то же время боялась сего после той незабываемой ночи в Раненбурге, и не знала, радоваться или печалиться, когда все обошлось без последствий. А теперь.., теперь…
Как могло сие сбыться? Могло ли?! Ну в точности, будто в сказках: мол, если встретишься в чащобе с лешим и отведаешь у него заклятой еды, то дома тебе уже не бывать и прежним человеком не стать. Так и она: встретилась с Сивергой, отведала ее заклятой мухоморной воды, навевающей чары, – и как бы перешла на житье в иной мир, где можно не только предаться неистовой страсти с призраком, но и зачреватеть от него!
Этого не может быть. Это невозможно! Однако это свершилось, а стало быть.., возможно!
Маша почувствовала, что улыбается, – и закрыла лицо руками.
Ей было страшно отцова гнева, ей было стыдно… оттого, что ей нисколечко не было стыдно! Она всегда знала, всегда верила, что счастье для нее мыслимо только с одним человеком на свете, с князем Федором, и как ни отринывала его, он все же сделал ее своей женой и даже после смерти явился к ней, чтобы оставить по себе вечную память – ребенка. Ну как она могла стыдиться того, в чем видела особенное действие Провидения, которое назначило их друг для друга! Наверное, ей следовало казниться и каяться, а она ощущала себя, как птица, которой отворили клетку!
* * *
Руки отца ласково взялись за ее ладони, потянули от лица.
– Машенька, душа моя…
Глаза его, исполненные бесконечной, всепрощающей нежности, заглянули в ее – испуганные, растерянные:
– Скажи только, кто он? Скажи хоть словечко…
Маша глубоко вздохнула, впервые осознав, как нелегко ей придется. Теперь предстоит поведать отцу все с самого начала, со дня, вернее, ночи их первой с князем Федором встречи: и про его сватовство, и про взгляды, говорившие больше слов, и про березайскую конюшню, про раненбургскую часовенку и про поляну, где солнце озаряло их любовь…
Она уже приоткрыла рот – начать, да осеклась. Ах, если бы они сейчас были одни с отцом, без пристального взора оскорбленной в своей чистоте Сашеньки, без злобного сверканья Александровой насмешки! Она взглянула на дверь, мечтая, чтобы эти двое ушли, и тогда она откроет отцу все, все.., и вдруг глаза ее испуганно расширились.
Александр Данилыч встревоженно обернулся – и только плечами пожал, недоумевая, чего так испугалась Маша. Ведь на пороге стояло не адское видение, как он уже думал увидеть, а всего лишь Бахтияр – мрачный, серьезный.., но вот он поднял голову, и Меншиков увидел, что в глазах его бушует нескрываемое торжество.
Бахтияр шагнул вперед, гордо расправил плечи и произнес:
– Это я, ата [85]85
Отец (татарок.).
[Закрыть].
Глава 11
Неожиданное сватовство
Мгновение в горнице царило недоуменное молчание. Сашенька в ужасе отвернулась, Александр завел глаза, а Маша с отцом глядели на молодого черкеса как завороженные, и не зря: ведь вместо адского видения перед ними оказалось чудовище в человеческом облике. И вдруг раздался хриплый каркающий смех. Все, как по команде, взглянули на Александра, ибо это смеялся он – до слез, до колик, складываясь вдвое, сам изумленный тем, что его догадка оказалась такой верной. А впрочем, чему так-то уж изумляться? К этому давно шло, удивительно, что столь затянулось!
Он так хохотал, что даже подавился смехом, когда вдруг железные тиски сдавили его плечи и беспощадно повлекли прочь – вышвырнули из дому на траву;
Александр, оглушенный, лежал плашмя, пока на него с размаху не шлепнулась рыдающая Сашенька.
– Он прогнал нас! – бормотала она сквозь всхлипывания. – Он выгнал нас, выгнал!..
Александра лучше всего вразумляли сильные впечатления. Вот и сейчас: одним крепким тычком отец смог вбить в него даже угрызения совести.
– Ладно, не плачь! – Он поднял сестру, неуклюже прижал к себе: проявления нежности были для него диковинны. – Ну, тише, успокойся. Пусть там сами поговорят. А мы пойдем, пойдем-ка покараулим, чтоб кто чужой не пришел. – Он чувствовал, что двух неожиданных появлений – Баламучихи и Бахтияра – для одного сего вечера вполне достаточно. – Пойдем, постережем. Это дело семейное.
И брат с сестрой, поддерживая друг друга, заковыляли к изгороди.
В это время в избе Меншиков наконец очнулся от нового поворота судьбы и грозно надвинулся на Бахтияра:
– Ах ты.., грехолюбец бездушный! Не иначе, в кривую неделю тебя зачинали! [86]86
То есть в страстную неделю Великого поста, когда церковь проповедует наиболее суровое воздержание, и все, что в такую неделю зачнется, будет уродливо, неспоро.
[Закрыть] Грехотворец гнилостный!
Изнасильничал блудным воровством девку, лишь бы добиться своего, так? Думаешь, я ничего не видел, не знал, как ты ее обхаживал? Мол, ежели обездолили ее, так добыча легкая сделается? А она противилась, я видел, что противилась! Я всегда знал, чуял, что ты двоенравен, только прикидываешься тихонею, а самому впору за зипуном ходить! [87]87
То есть разбойничать, грабить на большой дороге (старин.).
[Закрыть] Но ты у меня злотворить закаешься, нечисть! Больно много возомнил о себе…
Небось теперь о свадьбе грезишь? Чтоб я дочь тебе в наложницы.., как там по-вашему – в унантки [88]88
Рабыни (татарск.).
[Закрыть] отдал? – все пуще занимался гневом Александр Данилыч. – Жди! Дождешься! Мало ли твоя родова татарская русских баб сильничала – ничего, наша Русь, слава богу, не пошатнулась. И мы выстоим, выдюжим.
Нам, Меншиковым, не привыкать из грязи да в князи, а потом обратно в грязь. Но это – мы. А ты нам тут ненадобен, твое дело – сторона. Однако ж вот что скажу: больше не доведется тебе русских девок портить своим басурманским семенем! На сей минуте жизнь твоя будет кончена!
Меншиков мгновенным движением выхватил из-за кушака небольшой пистолет, и как ни была Маша потрясена, ошеломлена, она не могла не изумиться, каким это чудом удалось отцу сберечь, утаить от многочисленных обысков тот самый «терцероль», коим она еще в Раненбурге оборонялась от Бахтияра, а однажды – и от князя Федора, не признав его с первого взгляда.
И весь тот вечер и волшебная, незабвенная ночь вдруг встали перед ее глазами, и силы вернулись к ней: она вскочила, ринулась к отцу, повисла на руке:
– Не тронь его, ради Христа! Он тут не повинен!
Он лжет!
Облегчение, отразившееся в глазах Александра Данилыча, было таким огромным, таким радостным, что Маша едва не зарыдала: позорно зачреватеть без мужа, но стократ было бы для нее позорнее понести от Бахтияра. То же чувствовал и отец ее, а теперь она хоть немножко обелилась перед ним!
Но облегчение отца и дочери длилось недолго: Бахтияр одним прыжком стал меж ними, обращая то к Меншикову, то к Марии черные, расширенные глаза:
– Я не лгу! Это ты лжешь! Мы были с тобой, и я брал тебя так, что ты кричала от восторга!
Кулак Александра Данилыча запечатал черкесу рот, и Бахтияр, отлетев на сажень, так шарахнулся в стену, что ветхое жилье снова заходило ходуном. Полежал мгновение, собираясь с силами, потом встал на четвереньки, поднял голову, закричал разбитыми в кровь губами:
– Был я с ней! Аллахом клянусь! Бородой Пророка клянусь! Пусть гром небесный разобьет меня на месте, ежели лгу, пусть…
– Довольно! – Голос Меншикова прервал этот истерический вопль. – Не трать клятв, не то одну из них услышат небеса и впрямь поразят тебя молниями. Ты безумен, я вижу, коли смеешь настаивать, когда дочь моя говорит, что ты лжешь. Поди прочь, я тебя прощаю, но впредь…
– Прощаешь? – прошептал Бахтияр. – О великодушный! И ты, гурия-джайган, тоже прощаешь меня за то, что покрыл тебя на поляне в лесу? По твоей доброй воле покрыл?
– На по-ля-не? – с запинкой повторила Маша и безотчетно замотала головой:
– Да нет, быть того не…
– А! Вспомнила! – торжествующе вскричал Бахтияр, взвившись с колен и наступая на Машу. – Вспомнила!
– Поди, поди! – слабо отмахнулась она. – На какой еще поляне, о чем ты?
– На поляне, в чащобе, где стоит чум этой одержимой бесами Сиверги! Не помнишь разве? Ты была там, когда я пришел, и солнце светило, и зеленый платок…
– Ах! – вскричала Маша так отчаянно, что Меншиков, вновь навостривший было «терцероль» на блудного черкеса, от неожиданности едва не выронил оружие. – Ты? Это был ты?! О нет, нет, нет!
Она рухнула ничком, забилась на полу. Рыдания разрывали ее гортань, и хриплые, бессвязные крики напоминали стоны умирающего. Она и впрямь умирала в этот миг, ибо страшное открытие было непереносимо, нестерпимо.., непереживаемо.
Господи! Так, значит, этого ненавистного черкеса исступленно ласкала она распаленным естеством и всем существом своим? Так это Бахтияр явился к ней в образе возлюбленного, любимого настолько, что всем истосковавшимся сердцем она безоговорочно поверила – и предалась его призраку, не подозревая, что другой воспользовался ее сладостным заблуждением?! Господи, о господи, куда ж ты смотрел, как попустил проклятущую Сивергу так смутить пронзенную душу, поддаться дьявольскому искушению?
– Машенька, дитятко… – Отцовы руки обняли ее. – Не убивайся, бог милостив, одолеем и эту невзгоду.
Только не рви так сердце, пожалей и себя, и меня! – Голос его прервался всхлипыванием, и Маша ощутила что-то влажное на своей щеке.
С проницательностью, обостренной почти невыносимыми страданиями, она почувствовала боль отца: несчастье, обрушившееся на Марию, он мнил карой за свои проступки («Грехи ваши да падут на детей ваших!») и не мыслил судить дочь – боже упаси! – но чаял выпросить у нее прощения!
И это заставило Машу скрепиться, собраться с силами.
Кое-как поднялась, помогла подняться отцу. Она знает, что ждет ее.., жизнь, исполненная горя. И даже нет той дороги к спасению, которая открыта для всех остальных отчаявшихся, потерявшихся, ибо она дала клятву перед иконами не покидать отца, а что такое самоубийство, как не бегство? Нет, ей предстоит жизнь – жизнь как мучение, как наказание, искупление, и никто уже больше не взглянет пламенно в глаза, не шепнет, задыхаясь: «Милая.., я люблю тебя!», не прильнет с поцелуем, от которого вспыхивают в глазах звезды и сердце расцветает множеством благоуханных цветов… Но нет, прочь слезы! Ей еще предстоит все это понять, почувствовать, перестрадать. А пока надо быть сильной – ради отца. Надо быть сильной, чтобы Бахтияр понял сразу и навсегда: ему здесь никогда и ничего…
Она взглянула на Бахтияра – и сразу забыла, о чем думала, что хотела ему сказать. В его глазах – целый мир темной муки и страдания, но не на Машу был устремлен этот полубезумный взор, а в окно.
Маша обернулась – и с криком вновь упала на колени, прижалась к отцу, уткнулась в его плечо, чтобы не видеть, не видеть!.. Но и перед зажмурившимися глазами маячило то же кошмарное зрелище: прильнувшее к окну со двора чье-то лицо – чудовищное лицо!
Круглое, плоское, сплошь заросшее рыжевато-серым пухом, с крючковатым носом, больше похожим на клюв, оно, чудилось, вовсе не имело рта, зато обладало глазами как плошки. Черные, необычайно подвижные, снующие туда-сюда, они вдруг замерли, перехватив испуганный взор Бахтияра, и как бы повлекли его к себе.
Жуткая морда медленно отлепилась от окна и начала постепенно отдаляться, а Бахтияр, как на привязи, тащился через всю горницу. Громкий, клекочущий крик послышался со двора, и это подействовало на Бахтияра как удар хлыста на заупрямившегося скакуна.
Он ринулся вперед и, словно бы дорога до двери (шагов пять!) показалась ему слишком долгой, ударом кулака распахнул раму (посыпались державшиеся на честном слове осколки) и выскочил, словно бы вылетел из окна. А вслед за тем.., вслед за тем входная дверь, которой нынче, похоже, была судьба распахиваться так, что на избе крыша начинала приплясывать, снова грохнулась о косяк, и в комнату ввалились Александр с Александрою. Оба дрожали как два осиновых листа, зуб на зуб не попадал у них, а бледны были, словно…
– Да вы что? Мертвеца ожившего увидели, что ли? – гневно вскричал отец, вскакивая с колен и поднимая Машу, раздосадованный, во-первых, тем, что Бахтияр сбежал от расправы, а пуще того – что слизняк Сашка застал отца в слезах и унынии. – Где черкес?!
– Он.., в окошко! – пискнула Сашенька. – Сова там была, сова! Она его, она… – Сашенька начала заикаться, и Александр оттолкнул сестру в сторону, хотя и его глаза блуждали, как у безумного, и его голос прерывался, и он безуспешно пытался выговорить:
– Там… О господи! Там идет знаете, кто? Там идет…
Он осекся, оглянулся через плечо и с тонким, жалобным воплем шарахнулся в угол, освобождая дорогу высокому худощавому человеку, ступившему через порог и окинувшему избу взволнованным взглядом светлых глаз.
* * *
Маша тихо ахнула, схватилась за горло.
Александр Данилыч медленно потянул руку вверх – перекреститься, но рука не поднималась, словно незримая сила земная налила ее свинцом. Меншиков вспомнил, как выглядел только что сын. Надо думать, и у него теперь вид не лучше! Эк его угораздило брякнуть насчет ожившего мертвеца.., вот и он, тут как тут, припожаловал! Господи, спаси и сохрани!
Левой рукой поддерживая правую, Александр Данилыч кое-как сотворил крестное знамение, однако призрак как стал на пороге, так и стоял. Знать, их, вурдалаков, спроста не возьмешь. Да, осинового кола под рукой нету – надо иначе исхитриться спастись. Но, ей-богу, из всех знакомых и незнакомых мертвецов, коим взбрела бы вдруг блажь явиться по Алексашкину душу, вот этого он никак не предполагал увидеть!
Однако, хоть и говорят, что незваный гость хуже татарина (а незваный мертвец?!), ни перед кем не давал слабины Александр Данилов Меншиков. Не даст и теперь!
Он скрепился, прокашлялся и изрек с видом гостеприимного хозяина:
– Ну, здравствуй, коли пришел, князь…
– Нет! – раздался вдруг сзади истошный крик, и Меншиков, сделав от неожиданности оборот вокруг своей оси, невольно глянул в окно, уверенный, что Маша увидела там другого упыря и потому так страшно кричит. Но в окне по-прежнему сияло предвечернее темно-голубое небо, в котором ангелы, божьи детки, уже засветили первые свои огонечки, а Маша, держась за горло, хрипло, чуть слышно, как если бы вместе с криком из нее вылетела и вся душа, бормотала:
– Нет! Это не он! Ты что, не понимаешь? Это опять сова надела его личину на Бахтияра, как там, на поляне, где мы с ним…
Она не договорила, рухнула, где стояла – то есть рухнула бы, когда б не успел подхватить ее этот неведомый, как две капли воды схожий с князем Федором Долгоруковым, царство ему небесное! Или.., нет?
* * *
А Бахтияр.., а в эту пору Бахтияр сломя голову мчался сквозь тайгу. Остатки человеческого разума, которые еще сохранились в нем после того, как появилась рыжая сова и одним взглядом, одним кликом поработила его всецело, подсказывали, что не может человек бежать так стремительно, нет в его теле таких сил, ибо он не бежал, а летел. И вдруг он понял, что не сам летит – его несли стрекозы.
Сначала он услышал странный нарастающий шум, как будто в октябре зашуршали все опавшие, иссохшие листья враз. Бахтияр поднял голову, прислушался – и вдруг, обгоняя его, понеслись десятки, сотни, а потом тысячи тысяч стрекоз.
Их было так много, что вмиг померк бледный вечер и наступили густые сумерки, чья синева была там и сям, везде, насквозь прошила злат-серебряными трепетными стежками и изумрудными блестками: мерцанием крыл и глаз.
И вокруг Бахтияра, и над кустами, и по всей тайге – всюду порхали, мельтешили, неслись эти создания, и когда он вдруг в ужасе начинал запинаться, пытался свернуть или хотя бы упасть, чудовищный рой обвивался вокруг него, как там, возле болота, обвивались осы, и вся-то разница, что новый рой не жалил Бахтияра, а впивался миллионами лапок в его одежду, волосы, вновь и вновь увлекая вперед, вновь и вновь подчиняя бесконечному бегу. И были мгновения, когда он отрывался от земли в гигантских прыжках – это поднимали его стрекозы.
Их крылья бились, трепетали перед лицом, и Бахтияру стало не хватать воздуху. Он замахал руками без всякой надежды, лишь в отчаянии, но, к его изумлению, стрекозы отпрянули в стороны, исчезли, словно исполнили предначертание свое, а теперь спокойно могли воротиться в бездны, их извергшие.
Теперь вокруг были олени…
О, далеко же занес Бахтияра лет стрекоз, если тайга махала позади и обочь своими зелеными крыльями, безнадежно отстав от тундры, которая стремительно стелилась под копыта семерых важенок, которых гнал Бахтияр.
Их серые, бархатные крупы маняще вскидывались перед ним, копыта выбивали дробь, и от этой мелодии вся мужественность его восстала, и запах самок, жаждущих самца, коснулся затрепетавших ноздрей. Он увидел их разверстые, судорожно сокращающиеся лона, полные белой влагою желания, – и неистово рванул на себе одежду, обнажая чресла.
Крикнул – нет, затрубил, призывая страстно, победно, – и важенки порскнули в разные стороны, исчезли. Теперь перед Бахтияром была лишь одна, и алое закатное солнце окрасило ее шкуру в красный цвет.
Тундра была тверда, как камень, – иначе почему копыта важенки выбивали звон, словно бубенчики?..
Боже, о аллах, да ведь это не важенка – это женщина в красном платье бежит перед Бахтияром, так высоко подняв мешавшие ей одежды, что ее длинные, легкие, смуглые ноги обнажились до самых бедер, и края круглых, тугих ягодиц были видны Бахтияру, и серебряные бубенчики, свешиваясь с платья, били, плясали по смугло-золотистой коже.
Сиверга! Это не просто женщина – это Сиверга бежит перед ним!
Нет, уже не бежит: споткнулась, упала на четвереньки. Ее нагие чресла совсем близко!
Она вскрикнула.., и Бахтияр извергся в эти сладостные тиски со стонами, рыданиями, проклятиями. Ему хотелось выкликнуть имя другой, но он не помнил, как ее звали, а потому ревел, будто страстный изюбрь:
– Сиверга! Сиверга! Сиверга!..
Тайга, затаившись, издали слушала его крик – и молчала.







