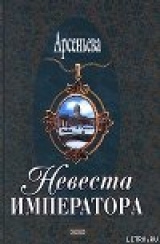
Текст книги "Невеста императора"
Автор книги: Елена Арсеньева
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 25 страниц)
Глава 6
Сиверга – гроза ветров
Конечно, когда медведь заснул, не стоило никакого труда освободить его лапу. По счастью, на ней осталась только рана, кости не переломало, хотя страшные зубы были рассчитаны именно на это.
Как только зверь оказался освобожден, сова замахала крыльями, надвинулась на людей, словно прогоняя их Федор был бы не прочь задержаться и поглядеть, что будет дальше, но Савка так и вцепился в него, так и потащил за собой, шепотом причитая что-то о безумцах, забывших в тайге про осторожность, а потом бродивших неприкаянными оборотнями. Прислушавшись, Федор понял, что, по-Савкиному, медведь этот оборотень, ежели не сам леший, а сова – та самая Сиверга, о которой всякий вогул не ленился рассказывать сказки одну страшнее другой Это заинтересовало Федора, он вознамерился оглянуться, но Савка просто-таки взвыл: «Оглянуться из-под руки – увидеть нечистую силу!» – и в толчки погнал барина перед собою по тропке Федор молчал, не спорил – он и сам еще не отошел после случившегося.
Ну и глаза у той совы! Ежели она видит все днем, то что же увидит ночью, когда природа наделяет птиц ее породы особенным, всепроникающим зрением! Уж, наверное, никто от нее не спрячется, ни на земле, ни в небесах.
– Ни под землей…
– Что, барин? – налетел Савка на ставшего столбом князя. – Чего говорить изволите?
– Ничего, – растерянно оглянулся Федор. – А разве это не ты сказал?
– Что? – вылупился Савка.
– «Ни под землей», – повторил Федор загадочные слова, которые внезапно отозвались у него в ушах.
– Чего ни под землей-то? О чем это вы, не пойму? – растерянно пробормотал Савка.
Федор отмахнулся, снова пошел вперед. Послышалось, конечно, тем более что голос-то был женский. Но до чего в лад его мыслям прозвучал он! Федор подумал, что от совы не спрячется ничто ни на земле, ни в небесах, а тут возьми и…
– Ни под землей.
Опять!
Он остолбенел. В ушах зазвенело. Тьфу, черт! Бубенцы – или смеется кто-то?
Савка снова наскочил на него, заглянул в лицо:
– Что это, барин? Что это?
Федор вгляделся: глаза у бедного парня до краев залиты ужасом.
– Ни под землей – оно чего, а, барин? Чего ни под землей-то?!
Вот те на! Теперь этот завел! Федор невольно усмехнулся, невзирая на испуг, ледяными волнами так и сновавший по спине, – и тут же легче стало на душе, словно что-то смутное, тревожное отпустило, перестало прикасаться к замершему сердцу.
В ушах все еще звенело, но теперь он знал, что и звон слышит, и смех: смеялась высокая женщина в красном платье, стоявшая поперек их тропы, а звенели бубенчики, в изобилии окаймлявшие ее одеяние, и этот легкий перезвон то громче, то тише сопровождал каждое ее движение.
– Ни под землей, – повторила она, и князь Федор сразу узнал этот голос. – Ни под землей, так, да?
Савка громко, со свистом втянул воздух сквозь стиснутые зубы и выдохнул:
– Гос-споди-и… С-сиверга!
Князь Федор глянул почти с испугом, но не на эту женщину, бог весть откуда взявшуюся, а на верного слугу: глаза выкатились из орбит, меловая бледность залила щеки, рука беспорядочно снует вокруг лица, не то отмахиваясь от чего-то, не то безуспешно стараясь сотворить крестное знамение. Зубы ходуном ходят, выстукивая:
– Шам.., шаман-к-ка! Шам-м-ан-н…
– Ф-фу! – легонько дунула на него женщина в красном платье – и выражение обалделого ужаса слетело с Савкиного лица. Теперь он только стоял, вылупив глаза, но не трясся, как припадочный, зубами не стучал, руками не махал.
– Чего так испугался? – спросила женщина, улыбаясь, спросила у Савки, хотя глаза то и дело возвращались к князю Федору, и он каждый раз слегка вздрагивал, встречаясь с ней взором: чудилось, она касается кончиками пальцев его лица, волос, груди, спускаясь все ниже и ниже по телу… Озноб снова начал пробирать его.
– Чего испугался? – продолжала меж тем Сиверга. – Ты меня видел в Березове, да и я тебя видела. Ты ходишь украдкой на избу в загородье глядеть, где царская невеста живет и ее отец.
Федор невольно вздохнул. О Марии знали все, о судьбе этой закатившейся звезды судачат, вон, даже туземцы. Эта женщина не очень похожа на вогулов: высокая, и лицо не такое плоское, и говорит очень чисто по-русски. И как властно держится, как уверена в себе!
– Я тебя не видел, – выдавил Савка. – Не было тебя там.
– А помнишь, когда из избы черный слуга вышел, который в тайгу за добычей ходит, ты за плетень скакнул, среди оленей спрятался, старуху, их ведущую, толкнул?
– Ну? – полувопросом ответил Савка.
– И она тебе сказала, мол, охотник должен зорко глядеть. А ты ответил, что ты не охотник, а рыбак, а в Сосьве, мол, одна только сельдь и ловится. А старуха тебе и говорит: брось, мол, в воду кусочек зайчатины и попроси: «Водяной хозяин, дай рыбы поймать!» – и скажи, какой рыбы хочешь, – он тебе и загонит в сети, чего попросишь.
– Ну? – повторил Савка уже почти со страхом.
– Не узнаешь? – усмехнулась туземка, задорно встряхнув двумя длинными, смоляными, без единой сединки косами, украшенными множеством разноцветных, сплетенных из шерсти лент.
– Так то ж была стару-уха! – недоверчиво протянул Савка.
– Так то ж было в Бере-езове! – в точности передразнив его голос, ответила туземка, и ее безупречно гладкое, без единой морщинки лицо расцвело веселой улыбкой.
Князь Федор неотрывно глядел на нее. Никакая она не старуха, куда там, но и не девчонка, несмотря на точеные черты, гладкую кожу и чернющие волосы. Не такая уж молодая: глаза выдают, вот в чем дело! Глаза черные, непроглядные, а все ж сквозит в них какая-то усталость.., или печаль? И не такая уж она веселая: вон как задрожал голос при упоминании «черного слуги».
И он спросил, не желая играть ни в какие прятки с этой странной туземкой – что бы там ни возомнил о ней Савка, просто женщиной, которая бросает такие откровенные взгляды:
– Почему ты ненавидишь Бахтияра?
Черные глаза сузились; алая, как маков цвет, верхняя губа хищно приподнялась:
– Он поставил капкан на моего мужа!
* * *
Теперь настал черед князя Федора таращить глаза.
В своем ли она уме? За каким чертом Бахтияру ставить капкан на какого-то туземца? Или он хотел извести соперника? Радость мгновенно ударила в сердце: неужели черкес наконец отступился от Маши?! А может, все проще: муж этой женщины случайно попал в капкан, который Бахтияр поставил на крупного зверя, к примеру, на медведя, а она решила…
Что-то вдруг словно обрушилось в голове, сердце сжалось горячо и больно. Он всегда знал, всегда подозревал: мало того, что мы все живем среди тайн и чудес, – бывают такие состояния души, когда она, как бы переступая границы тела, получает дар предчувствовать, иногда даже и предвидеть грядущие события, и в свершившемся видеть не только внешнюю сторону, а всю глубину, всю сокровенную тайну. Теперь с ним настало такое.
Капкан на медведя. Медведь в капкан попался…
На глаза нашла пелена, потом отступила.
– Сова… Ты – сова!
– Сиверга! Сиверга!.. – отозвалось эхо.
* * *
– Сиверга.., ведьма! – стонал чей-то голос вдали.
Федор огляделся, с трудом собирая вокруг себя расползшийся мир. Увидел, что они – все трое, и эта… женщина в красном с ними – сидят на шкурах в их с Савкою жилище, но хоть убей, князь Федор не мог вспомнить, когда и как они сюда попали.
– Ведьма… – А, да это Савка обморочно стонет, причитая:
– Господи, помилуй и спаси нас от чертовой шаманки!
– Я не шаманка! – горячо возразила Сиверга. – Я не шаманка, нет. Я тудин.
– Тудин, – глубокомысленно повторил князь Федор. – Понятно. Конечно, ты – тудин. Не шаманка.
Тудин.
– Чертова сила! – причитал Савка.
Сиверга засмеялась – ее колокольчики тоже пришли в движение:
– Вот я тебе расскажу. Человек может и не родиться шаманом. Но приходит к нему дух – и заставляет служить себе. Дух говорит вместо него, видит вместо него, камлает вместо него. Дух заменяет его душу Это… слишком сильно. Это не для женщины. Надо отдать духу все.., всю себя Это больше, чем любовь. Любовь тоже надо отдать духу, а я не могу. Быть шаманом – это каждый раз смерть и жизнь. Нет, о нет, я не шаманка. Я – тудин! У тудин тоже есть дух, но это дух-охранитель, этугдэ, как у русских ангел-хранитель. Он ведет, он подсказывает.., он рядом, позади, впереди, но не в тебе. Понимаешь? – Она глядела на Федора, чуть приподняв брови. Брови были тугие, черные, круто выгнутые, словно луки.
– Понимаю, – едва выговорил молодой князь.
Вдруг стало сухо во рту. В этой женщине кроется какая-то опасность, он сразу почуял! Опасность в этой переливчато-смоляной головке, тугих бровях, налитых губах, стремительных взглядах, которые он ощущает как прикосновение.., опасные прикосновения! – Понимаю. И что же ты хочешь от меня, тудин?
– Я? – опять взлетели брови. – Нет. Это ты хочешь.., от меня.
Заминка была едва заметна, однако сердце Федора успело сорваться в бешеный бег от самого звука ее слов: «Это ты хочешь.., хочешь.., хочешь…» Сейчас ему больше всего на свете хотелось перекреститься – и развеять наваждение, от которого судороги опоясывали тело, и все в нем рвалось, мучилось, восставало.., желало невозможного!
– Это я тебе нужна! Я – Сиверга, гроза ветров!
– Ты разгоняешь ветры и тучи? – проговорил князь Федор, вспомнив баснословных славянских облакопрогонников, но Сиверга пренебрежительно махнула рукой:
– Это ничто! Моя жизнь – совсем другое. Разве ты не понял? Я ведь тудин Как сказать.., я умею видеть, я знаю.., я могу все, что хочу я! Не дух, который владеет мною, а я сама!
Она зажмурилась, сжала руками виски, словно страдая оттого, что не может выразиться яснее, и теперь, когда ее необыкновенные глаза не зачаровывали его, князь Федор мигом обрел спокойствие и точность мысли.
О да, она может многое. Уж ежели совой скинулась, ежели Савка видел эту роскошную красоту в морщинах…
– Покажи! – приказал он.
Брови изумленно взлетели, но Сиверга не посмела ослушаться.
Осторожно приблизилась и резко взмахнула рукой над головою Федора. Он отшатнулся, ощутив боль, – даже в глазах защипало. Проморгался и увидел, что она зажала в кулаке несколько выдранных волос и разглядывает их в столбе солнечного света, проникающего через настежь отворенную дверь.
– Светлые.., золотые, – зачарованно пробормотала Сиверга. – Как у нее.., нет, темнее.
– У кого? – насторожился князь Федор. Сиверга опустила ресницы, но его уже было не пронять загадочными улыбками – он уже голову потерял! – У кого, говори?
Сиверга, не отвечая, огляделась, подошла к дупельке [70]70
Долбленной из цельного куска осины или липы кадочке (старин.)
[Закрыть], всклень налитой дождевицею; приглашающе обернулась через плечо. Князь Федор осторожно приблизился. Сиверга водила волосами по воде, бормоча что-то вроде:
Девять звезд, помогайте!
След зайца, помогай!
Небесный человек,
Стая уток
И ты. Лыжный след, —
Тоже помогайте!
Князь Федор хотел что-то спросить, но она вцепилась в его плечо, почти сердито нагнула к дупельке.
Вода зарябила – и сразу улеглась, темная, непроглядная, будто не в кадочке, а в глубочайшем из колодезей.
Князь Федор глядел в воду, словно в некий коридор, уводящий в непредставимую тьму. Но вот мало-помалу он начал различать вдали слабый белый свет. Свет становился все ярче, все резче. Федор был ослеплен – но в то же время его влекло к свету, как мотылька к оконному стеклу. Этот свет манил, обещал Федору, звал увидеть, и он увидел…
* * *
Он увидел изнутри бревенчатую избу, где окно состояло из осколков, а из стенных пазов выбивалась клочьями пакля. В углу висели иконы в дорогих окладах, тускло золотилась лампадка. Это были единственные красивые вещи в комнате, где пол устилали оленьи шкуры, да на колченогом, явно самодельном столе блистала остатками золотых нитей вытертая парчовая скатерть. В самодельном кресле, тоже застеленном шкурою, сидел Александр Данилович Меншиков – в черном халате (верно, в том самом, который, по слухам, только и оставили ему из одежды не в меру ретивые Мельгунов с Плещеевым!), на ногах – поношенные сапоги с наборными каблуками – небось тоже остатками былой роскоши! Рядом с ним, опираясь на стол и глядя невидящими глазами в пространство, сидел Александр, безотчетно теребя длинными пальцами застиранное, обвисшее жабо. Камзол его весь истерся и был покрыт пятнами. С другой стороны стола примостилась, свесив на лицо золотые, растрепанные кудряшки, Сашенька в короткой черной душегреечке. Перед нею на столе лежала толстая Библия в бархатном истертом переплете, и Сашенька размеренным тоном прилежно читала что-то. Князь Федор не слышал. То ли Сиверга могла открывать лишь картины, то ли.., да нет, он сейчас и крика над ухом не услышал бы! Потому что увидел ее…
Она сидела на полу, у ног отца, вся сжавшись и прильнув к нему, а он жестом, полным странного, щемящего отчаяния, касался ее пышных, вьющихся волос, заплетенных в косу, обернутую вокруг головы.
Маша глядела в никуда огромными, расширенными глазами, казавшимися особенно темными на этом исхудавшем, печальном лице.
Князь Федор рванулся вперед, простер руки – схватить, прижать к себе, чтобы никогда больше не отпустить, не разлучиться! – и отпрянул, по локоть окунувшись в студеную воду. Лицо Марии исчезло в темной глуби.
И он вспомнил.., вспомнил, что уже видел все это во сне.
* * *
Многое он пережил, много страдал по воле рока и сам себя терзая, но, чудилось, не было у него в жизни минуты горше.
Хриплое рыдание вырвалось из груди – эхом отозвался из угла изнемогший от сострадания верный Савка. И Федор вспомнил, где он, что с ним и кто с ним.
Повернулся к Сиверге:
– Помоги! Дай мне ее! Спаси мою жену, как я твоего мужа спас.
Она глядела в его глаза – нет, она впилась в его глаза, как будто хотела душу разглядеть до самого дна.
Однако и сама сделалась открыта, и среди вихрей всемогущества и власти, кипевших в ее взоре, князь Федор увидел мглу печали.
– Что ты хочешь? – спросила Сиверга.
– Увидеть ее! Сейчас! – выкрикнул он отчаянно, и Сиверга отвела взор так внезапно, что князь Федор даже пошатнулся, словно рвался в какую-то дверь, а та вдруг отворилась – и он лишился опоры.
Теперь Сиверга смотрела в тайгу. Резко стемнело, и синие тени деревьев забились под ветром.
– Заходи, будь хозяином! – позвала Сиверга, и ветер послушался, ворвался, закружился в избушке смерчем, вздымая шкуры, наброшенные на пол и на ложе, вороша сухую траву, дергая, поднимая полы одежды, ероша волосы. С каждым мгновением он дул все сильнее – в избушке его становилось все больше, там уже было тесно людям, и в конце концов бесцеремонный гость выдавил, вытолкал хозяев наружу.
Но и тут было не легче! Ветры набегали со всех сторон; ласковые, теплые, рвали с людей одежду, трепали волосы, гладили шею, плечи, сушили и опаляли губы.
Деревья так и плясали вокруг, размахивали ветвями, точно пьяные, шумели на разные голоса. Цветы, травы льнули друг к другу, словно змеи, танцующие под колдовские мелодии, источая дурманные ароматы…
«Иванова ночь! Неужто нынче Иванова ночь? – вспомнил князь Федор. – Неужто и здесь, на краю света, она всевластна?»
Божество не спрашивает, когда и где являться, в какой срок. Оно приходит – и подчиняет своей страсти все вокруг!
Среди деревьев мелькали тени. Олень гнал свою важенку, а она металась от дерева к дереву нервными, томительными прыжками, словно не спасалась бегством, а искала места, где сладостнее отдаться победителю.
Волк стелился по траве, и волчица, роняя перед ним капли своего желания, обернулась, протяжно застонала.., призывным огнем блеснули глаза. В вышине слышались страстные птичьи клики, и перья сыпались на землю, пока объятая любовным огнем пара спешила скорее коснуться земли, чтобы наконец утолить свой пыл. Тонкие, тревожные голоса раздались в глубине леса, приблизились, и перед домом очутилась стайка молоденьких вогульских девушек. Их узкоплечие, широкобедрые тела были обнажены, и листья, трава прилипли к смугло-бледной коже, влажной от пота. Резко запахло мускусом, женским нетерпением.., чудилось, меж их ног струятся белые ручейки, словно у собак во время течки.
Завидев мужчин, они замерли, но испуг был непрочен и призрачен, словно предутренняя дымка. Взоры их горели, груди тяжело вздымались, не то от быстрого бега, не то от страсти; тонкие крики безотчетно вырывались изо ртов.
Ответный крик-стон послышался рядом с князем Федором. Он покосился – и отпрянул изумленно:
Савка! Савка исступленно рвал на груди рубаху: ноздри раздуты, дыхание тяжелое, хриплое, глаза безумные…
И вдруг, испустив протяжный, страстный вой, простирая руки, он огромным, оленьим скачком одолел поляну и оказался рядом с девушками. Но они были проворнее, они прянули в лес за мгновение до того, как жадные мужские руки схватили их всех сразу. Со звериной прытью Савка вломился в чащу, и долго еще шел по тайге гул и треск: то Савка гнал вогулок. Так дикий жеребец гонит стадо своих кобылиц, еще не зная, которую из них покроет первой, но каждая ждет его нетерпеливо.
Обезумевший Савка, чудилось, унес с собою весь шум разгулявшегося ветра, треск ветвей и грохот столкнувшихся в небесах туч, и тишина воцарилась вокруг – влажная и благоуханная тишина.
Князь Федор огляделся, еще во власти этой пылкой ночи. Желание томило его, и был один миг, когда слепое естество едва не повлекло его тем же путем, что и Савку. Но это было мгновение, которое тут же истаяло, ибо единственный и незабвенный образ, составлявший весь смысл его мечтаний и вожделений, вновь властно завладел всем его существом. Смотреть в эти потемневшие от страсти глаза, ловить томные вздохи с этих нежных уст, наполнить чаши ладоней живым огнем ее затвердевших от страсти грудей, шептать беспрестанно:
«Я люблю тебя!» – и беспрестанно слышать в ответ:
«Люблю, люблю…»
– Люблю, люблю! – стонала она в его руках, и, не веря своим глазам, князь Федор стиснул прильнувшее к нему тело.
Как?.. Она, Мария! Здесь! Ее глаза, ее губы, ее теплый, родной, бесконечно любимый запах!
Нет, не может быть!
Она – здесь, в лесу? Но как?.. Да не все ли равно?
Не все ли равно, ветры ли Сиверги принесли ее сюда, деревья ли забросили на ветвях своих, молнии ли соткали ее образ из своего призрачного сияния? Она живая, она теплая, она рядом с ним, и страсть их занялась в одно мгновение, и одежды их, чудилось, сгорели бесследно на распаленных телах.
Они рухнули в траву, исступленно целуясь, и Федор, как безумный, хватал и мял ее тело, все еще не веря, что она здесь, с ним.
Маша покрывала поцелуями его плечи, вонзала ногти в спину – и он тихо, хрипло стонал от счастья.
Оба слишком истомились вдали друг от друга, им было не до нежных, долгих ласк. Стремление к слиянию напоминало смертельную схватку. Стиснув коленями его бедра, она вдруг резко повернулась и перекатила его на спину. Его раскинутые руки вцепились в траву, рванули ее вместе с тяжелыми комьями земли, тело выгнулось дугой – и все томление, весь пыл, вся затаенная любовь изверглась в ее лоно такой мощной струей, что она закричала в исступлении, терзая пальцами его до безумия, до изнеможения, в стремительной скачке своей снова и снова пронзая себя до самого сердца раскаленным орудием страсти.
* * *
Он проснулся.., нет, очнулся от долгого обморока, потому что плечо, на котором сладкой тяжестью покоилась ее голова, остыло под слабым ночным ветерком.
Приподнялся, сел. Голова легкая, словно воздухом пронизанная, в ушах звенит. Встряхнулся, потер глаза, огляделся. Ничего не видно во тьме, только стволы берез смутно белеют при свете звезд. Звон утихает, медленно удаляясь. Что-то светлеет поодаль.., какое-то бледное пятно плывет, чудится, не касаясь травы.
Федор вскочил, сторожко вглядываясь, и тут взошла луна, и он увидал, что Мария, обнаженная, волоча за собою свое черное платье, медленно, чуть покачиваясь, идет среди деревьев, удаляясь от него.
Князь Федор вскочил, готовясь позвать, догнать – и клик застрял у него в горле. Мария качнулась так, что Федору показалось, что она сейчас упадет. У него вдруг стало двоиться в глазах: одна Мария так и стояла, странно нагнувшись в стороне, а другая шла и шла вперед, сопровождаемая этим нездешним мелодичным звоном.
Федор ринулся вперед, но на том месте, где только что стояла Мария, уже никого не было. Он схватился за ствол ближайшей березы и ощутил ладонью некие черты. Имя возлюбленной! Когда, предаваясь унынию и тоске, бродил он по тайге, то здесь вырезал его. Он выкрикнул это имя; женщина, чье светлое тело мелькало впереди, от неожиданности заметалась из стороны в сторону, вскинула руки, торопливо натягивая на себя платье. Лунный луч блеснул на тускло-красной ткани, звон стал оглушительным…
Федор пробежал еще несколько шагов, схватил женщину за плечи. Она повернулась – и он очутился лицом к лицу с Сивергой.
* * *
Он чувствовал это, теперь ему казалось, с первого мгновения ее терпкого поцелуя; в каждой ласке было что-то чужое.., дурман, морок, оцепенивший его рассудок, но обостривший чувствительность. И все же он, как безумный, искал вокруг глазами Марию – ведь это же ее желал, ее обнимал! Может быть, она еще бредет где-то по лесу, полухмельная от их любви? Но нет! Ее образ был сорван, как износившаяся одежда, и отброшен обратно в те таинственные бездны, откуда был извлечен, чтобы.., о господи, чтобы осталась в лесу прогалина, где трава примята и вырвана с корнем, как будто стадо звериное удовлетворяло здесь свою похоть. Князь Федор застонал, и в глаза его близко глянули черные лукавые очи. Все слова, которые он хотел сказать, замерли.
Что толку винить ее? Язычница, дикарка, тудин.
Разве ее вина, если он так мечтал о другой, что принял за нее первую попавшуюся? Однако ловко же она скинулась Марией, ох как ловко! «От одежд исходит моль, а от жен – лукавство женское», – вспомнилось вдруг старинное изречение. Лукавство! Вот уж правда. Его передернуло от воспоминаний, и слезы навернулись на глаза, боже, как льнул он к ее губам, тем единственным в мире… Горло перехватило. Сколько же у нее мужей, у Сиверги? Медведь, кто еще? Теперь и он. Как она посмела?! Нет. Только он виновен. Снова и снова он.
– Ты хотел ее видеть – и увидел, так, да? – спросила Сиверга, заглядывая ему в лицо.
– Не так, нет… – глухо обронил Федор, отворачиваясь.
– Чего же ты хотел? – Она чуть надулась, явно обиженная тем пренебрежением, с которым он избегал ее взгляда. Сладкие судороги недавнего наслаждения еще играли в ее теле, и горько было видеть, что русский пришелец гонит от себя память об этих дивных ощущениях. Смутная ревность вспыхнула в ее сердце – ревность к серым глазам, и мягкой, темно-золотистой волне надо лбом, и легкой кудрявой прядке над ухом, и розовым, как мальва, губам. Как расцвело, как засияло белое, бледное лицо бывшей царевой невесты при одной мысли об этом понуром человеке, который сейчас стоит перед Сивергой обнаженный и равнодушный.., и она ему нужна не больше, чем звон ее бубенчиков.
– Я ей тоже показывала тебя, – мстительно молвила она – и отшатнулась, когда он обернулся и ударил взглядом в ее лицо:
– Где? Когда? Как?! – Хриплый голос оборвался почти звериным рыком, и у Сиверги, среди мужей которой были вожак-олень, орел и медведь, вдруг подогнулись колени, ибо ветер судьбы, единственный не боявшийся ее угроз, коснулся ее лица вместе с воспаленным, гневным дыханием этого светлоглазого человека, который ненавидел ее.
– Нет.., нет, не так, – торопливо пробормотала она. – Просто она тебя увидела на закате.., увидела. Но она придет ко мне и будет просить о новой встрече.
– Что? – Он надвинулся, навис над ней, и Сиверга, которая умела быть вровень с самыми высокими кедрами, когда хотела поймать за хвост ветер, почувствовала, что стремительно уменьшается и вот-вот сделается малой травинкой, испуганно прильнувшей к земле.
– Клянусь, – прошептал он, – клянусь тебе, что если ты посмеешь еще раз.., с ней… Я сам пойду к ней, сам, а если ты помешаешь, я убью и медведя, и тебя.
Клянусь богом!
Сиверга кивнула, не в силах больше говорить, ибо знала, что он сделает это.







