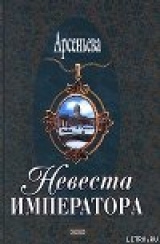
Текст книги "Невеста императора"
Автор книги: Елена Арсеньева
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 25 страниц)
Глава 15
Любовь
Она ничего больше не сказала, ни о чем не спросила – только застенчиво улыбнулась, когда он покрыл жаркими поцелуями ее руку. Никто не знал, чего стоило князю Федору сдержать себя, когда она спустила на пол ногу и стыдливо глянула на него, но он покорно отвернулся да так и сидел, глядя на пляску изломанных теней на стенке, слушая стук крышки сундука, шелест, торопливое шуршанье за спиной и сердитый вздох, когда Маша путалась в застежках: не привыкла одеваться без горничной! Конечно, князь Федор мог бы помочь ей без малейших сомнений и даже не претендуя на большее, но он уважал Машину стыдливость и сидел не шелохнувшись. Он и так потребовал от нее слишком много, чудо, что она дала согласие, и он все время боялся вспугнуть свое счастье – и ее доверие.
Наконец шорох и шелесты прекратились. Маша шепнула:
– Я готова, – и князь Федор обернулся так пылко, что она невольно отпрянула – а он замер, потрясенный: перед ним стояло неземное видение.
Озабоченный тысячью мелочей, которые следовало предусмотреть, чтобы обезопасить это безумное, дерзкое предприятие, князь Федор забыл об одном – и это сейчас казалось ему самым главным: он забыл, что означает свадьба в жизни каждой девушки. Единственный, долгожданный и незабываемый день! Свет и блеск осуществленной мечты, трепет надежд, еще не сломанный жестоким ветром жизни… Оттого и надевают невесты самые прекрасные и роскошные платья, что надеются задобрить неумолимую судьбу: вот я стою перед тобою, невинная и прекрасная, доверчиво гляжу на тебя – не обмани же мое доверие, мою невинность!
Жертва злому року должна быть прекрасна – оттого и прекрасны невесты, чтобы задобрить его. И если об этом забыл князь Федор, то не забыла Маша.
На ней было жемчужно-серое платье с кружевами, то самое, в котором он увидел ее впервые в доме отца и узнал, кто она такова. Чудная, наивная попытка связать воедино два разрозненных события: первое сватовство князя Федора, порывистое, пылкое, – и нынешнее, выстраданное, заслуженное, но оттого не ставшее менее пылким. Он едва не застонал от раскаяния, оттого, что по его вине и злоумыслу идет Мария Меншикова венчаться не в Казанском соборе Санкт-Петербурга, в блеске бриллиантов, сиянии баснословного наряда и под гром музык, а ночью, крадучись, в неновом платье.
Князь Федор прижал руки к сердцу, уже готовый пасть на колени, открыться перед нею.., но она стала близко, взглянула ему в глаза – и он замер, ослепленный сиянием счастья в этих глазах. «Господи! Да она ведь… любит меня?!» – осознал он как чудо простую и очевидную истину, и тяжесть отошла от сердца: ведь великолепная свадьба с Петром не зажгла бы этого света в ее глазах!
– Ты прекрасна, возлюбленная моя.., ты прекрасна, – сказал он тихо, и по ее мгновенно вспыхнувшей улыбке понял – сказал именно то, что она мечтала слышать. Но тут же лицо Маши сделалось испуганным:
– Ох! Фата! Я забыла!
Она взволнованно коснулась своих распущенных, пышных, украшенных и сдерживаемых только узкой белой лентою волос, но уж об этом-то князь Федор, слава богу, догадался позаботиться! Ругая себя за забывчивость, он проворно выхватил из-за пазухи свиток лионского кружева и развернул его. Маша тихо ахнула, всплеснула руками, не решаясь прикоснуться к этой изумительной красоте, и князь Федор залюбовался вместе с нею, ибо кружево было легким, как вздох, прозрачным, как туман, оно серебрилось, как снежные искры, и, чудилось, было соткано из света звезд, окаймлено нитью лунного сияния.
Но настала пора идти. Князь Федор выглянул за Дверь, и тут же перед ним из тьмы, как чертик из преисподней, возник Савка. Он явился так внезапно, что князь даже отшатнулся испуганно, однако тут же был отмщен: при виде Марии, невесомо выплывшей из комнаты, Савка разинул враз глаза и рот и несколько раз торопливо перекрестился, как если бы увидел призрак. Не то от страха, не то из великого почтения он повалился на колени и припал лбом к полу, а Маша об руку с женихом поплыла по коридору, чуть касаясь пола. Однако страх Савки кое-что подсказал князю Федору. Не ровен час, откроет глаза кто-то из спящих охранников.., дай бог ему тут же испустить дух от ужаса, ну а если попадется не из пугливых? Похоже, Савка подумал о том же, потому что, очнувшись, сунул барину в руки тяжелый плащ (наверное, это и было содержимое таинственного Савкина узла, подумал князь Федор), под которым тот с величайшим сожалением скрыл сияющую красоту невестина платья.
Теперь можно было двигаться без опаски.
Они сделали несколько шагов по длинному темному коридору, как вдруг Маша запнулась перед какой-то дверью, замерла в нерешительности, словно ее неудержимо тянуло эту дверь отворить и туда войти. Золотая нить света тускло мерцала внизу, слышался тихий, ласковый женский голос, словно бы успокаивающий кого-то… Неведомо как Федор почуял, почему Маша остановилась здесь. Конечно, это покои ее отца и матери; голос, который они слышат, принадлежит Дарье Михайловне, утешающей недужного Александра Данилыча…
Сердце князя Федора вновь облилось кровью. Если бы Маша сделала шаг, пожелала войти, открыться родителям, чтобы услышать их благословение или проклятие – бог весть! – он ни жестом, ни словом не посмел бы воспрепятствовать ей, хотя сие наверняка грозило бы провалом всего их тайного замысла.
Маша повернула голову – в темноте чуть блеснули ее глаза. Князь Федор тихонько стиснул ее пальцы, давая понять: делай как знаешь, а я с тобою. Чуть слышно вздохнув, Маша быстро перекрестилась, низко поклонилась родительской двери, словно моля о прощении, – и они продолжили путь, растворившись во тьме, и беспрепятственно достигли часовни.
* * *
Князь Федор Долгоруков едва помнил отца, а матушку свою и вовсе никогда не видел: она умерла при родах. Он вырос в чужом доме, где о нем заботились и даже, пожалуй, любили, но ощущение, что он один в жизни, не оставляло его никогда. Не одиночество, нет, – он ведь был всегда на людях и слишком занят, чтобы считать себя одиноким, то есть покинутым, никому не нужным. Он просто знал: я в жизни один, ибо нет на Земле существа, для которого я воплощал бы собою вселенную – и которое стало бы вселенной для меня.
И вот все изменилось. Это было неведомое, пьянящее, почти пугающее ощущение! Голова его кружилась, в ушах шумело. Чудилось, вокруг незримо собрались люди, которые глядят на него не то испытующе, не то сочувственно, но непременно – с любовью. Сначала он испугался этого странного ощущения, но постепенно привык. Ведь так оно и было бы, когда б они с Машею венчались открыто. Собрались бы многочисленные гости, смотрели, вздыхали, переговаривались, завидовали, желали счастья…
Венчание шло своим чередом, но князь Федор едва ли слышал хоть слово. Вести себя верно помогало некое неведомое прежде чувство, бывшее сродни инстинкту: поколения и поколения его предков прошли через этот торжественный и страстный обряд, подспудное знание жило в его крови, не давало ошибиться, он действовал по наущению пращуров своих, и чем дальше, тем отчетливее узнавал тех, кто столпился вокруг, умиленно и покровительственно глядя на жениха и невесту.
Он не отрывал глаз от скудного пламени украдкою затепленных венчальных свечей, а видел святого князя Михаила Всеволодовича Черниговского, чей потомок в седьмом колене, князь Иван Андреевич Оболенский, был прозван Долгоруким и стал родоначальником князей Долгоруковых. Он видел трех братьев-воевод Грозного – Михаила, Андрея и Юрия, а рядом с ними – ближнего боярина молодого Петра I, Якова Федоровича, того самого, кто со товарищи бежал на шведской шхуне из плена, где пробыл десять лет, кто славен был строгостью и неподкупностью, провозгласив: «Царю правда – лучший слуга. Служить – так не картавить; картавить – так не служить».
Он видел Данилу Ивановича Долгорукова-Шибановского, который во время осады Москвы поляками Владислава насмерть защищал Калужские ворота, – и Григория Ивановича, прозванного Чертом, ближнего человека Федора Иоанновича и Годунова, известного тем, что крепко бил он крымчаков! Он видел судью судного патриаршего приказа Владимира Тимофеевича, на дочери коего женился царь Михаил Федорович, но через четыре месяца молодая царица умерла, и Долгоруков, потрясенный ее смертью, случившейся от брака, который он с усердием устраивал, отдалился от всех и кончил жизнь свою в полном уединении. И боярин Юрий Алексеевич был здесь же, убитый стрельцами во время бунта вслед за сыном своим Михаилом, посулив кровожадным палачам перед смертью: «Всем вам быть на плахе!» И, конечно, Григорий-молодой, отец князя Федора, был тут же, прославленный в Северной войне доблестью и умерший в шведском плену, и жена его, Прасковья Ниловна, стояла, лаская своего взрослого сына мягкими голубыми очами, полными слез.
В их присутствии плелись, творились в пахнущей ладаном тьме тайные словеса, кои крепче пут земных связывали его небесными узами с девушкой, которая стояла рядом, склонив голову, и лишь изредка шептала что-то почти неслышное, отвечая священнику. Она, ее нежное тепло и спокойная, несокрушимая твердость духа, осветили и освятили душу князя Федора, изгнали из нее демонов тьмы – и даровали надежду на счастье.
Он знал, сколь далек еще от них покой, однако был полон решимости ждать и бороться за то, чтобы в один из дней открыто назвать ее своею.
Но вот жених и невеста уже обменялись кольцами и соприкоснулись дрожащими губами. Их поцелуй был похож на затаенный вздох, ибо они оба знали, что ждет их за порогом церкви, за метельною завесою, за полной опасности коридорной тьмою, – и полны были решимости испить чашу своей судьбы до дна, не расплескав ни капли прежде времени.
Разомкнув губы, они глядели друг на друга, целуясь теперь взглядами. Поп Вавила (князь Федор и вообразить не мог, что когда-нибудь увидит таким сверкающим и одухотворенно-торжественным своего непутевого сподвижника!), мерцая ризами, медленно размахивал кадилом. Сладковатый, извечный чад заволакивал мир непроницаемой завесою, означая безвозвратность и нерушимость свершившегося.., как вдруг громкий топот в коридоре нарушил блаженное оцепенение.
* * *
Это не мог быть никто, кроме Савки, оставленного стеречь в сенцах.., но это не мог быть Савка, который не осмелился бы топать и шуметь. Все сие оказалось осознанно князем Федором менее чем в мгновение ока, но тело его на сей раз оказалось проворнее мысли: неизвестный еще только взялся за ручку двери, а князь уже отпрянул в темный угол, загородив собою белое мерцанье Машиного платья и даже успев на всякий случай развернуть ее лицом к стене: чтоб не испугалась вошедшего, если это чужой, не вскрикнула.
И его по-звериному стремительный маневр оказался не напрасен: властною рукою распахнув дверь, в часовню влетел… Бахтияр.
* * *
Даже князь Федор был ошеломлен – что же сказать о Вавиле? Он замер, где стоял, оцепенел весь – от складок на парчовом сверкающем облачении до кончиков рыжих ресниц! Глаза его, померкнув, остановились на изумленном лице черкеса, и только рука безостановочно двигалась взад-вперед, безотчетно повторяя заученный жест и раскачивая, раскачивая кадило.
Бахтияр встал как зачарованный, не в силах отвести взор от тусклого золотого блеска на круглом боку священного предмета. И как ни был напряжен князь Федор, у него мелькнула мгновенная мысль, что сейчас Бахтияр своим черным, хищным силуэтом как никогда похож на сгусток злобной, враждебной человеку тьмы, бессильно замершей пред неким магическим кругом, каковым бессознательно огородился священник. Но тут еще одна зыбкая тень проникла в часовню сквозь приотворенную дверь, взмахнула рукой – и Бахтияр, качнувшись вперед, безжизненно простерся на полу, а Савка, столь своевременно явившийся на помощь, застыл в картинной позе, простирая руку с зажатым в ней пистолетом, чьим стволом он только что оглушил Бахтияра.
Успокаивающе стиснув Машину руку, Федор метнулся вперед и склонился над поверженным врагом.
Перевернул тело – слава богу, черкес жив, хотя и не скоро очнется. Вдобавок ему придется поносить изрядную шишку. Может быть, поумнеет немного. Случается, люди от таких ударов теряют память, но это было бы слишком большой удачей. Но ничего. Ничего!
Стремительная сила озарения мгновенно подсказывала мысли и поступки. Князь четко, до последней подробности, знал, что нужно сделать, чтобы ночное событие если и не изгладилось из памяти Бахтияра, то, по крайности, предстало бы совсем в другом свете.
И потому он успел зажать рот Савке еще прежде, чем тот раскрыл его, чтобы возмущенно произнести:
«Неужели жив, пес поганый?» Эти слова «услышала» только напряженная ладонь князя, а потом он сгреб под локти своих сообщников и, утащив их в дальний угол часовни, где так и стояла оцепенелая Мария, страшными знаками и гримасами призвал к молчанию, а сам чуть слышно прошипел:
– Чертов Савка! Как же ты его проворонил?! А говорил – покараулю, знак подам, сгожусь, мол, вот увидите… Тес! Ни слова, ни звука! Он не должен слышать наших голосов, поняли? Иначе – все, здесь все пропали! Ясно?!
Поп и Савка, мигом все смекнувшие, только кивнули, для верности зажав себе рты руками.
– Вавила, свяжи его намертво, голову закутай. Кляп не забудь. Так спутай, чтобы и шелохнуться не мог!
Пусть лежит до рассвета, пока я за ним не приду.
– А вы куда, ваше сиятельство? – даже не прошептал – прошелестел Вавила, а может, это вовсе даже не слова, а мысли его смог разобрать князь Федор – и ответил, озорно блеснув глазами:
– Ты нас только что венчал, а спрашиваешь? Все делаем, как уговорено! Я и дьяволу не позволю порушить мое счастье, не то что этому басурману! – И, подмигнув Савке, который, зажимая рот, выражал свое восхищение даже бровями и разлохмаченными волосами, нежно взял Машу под руку – и встретил ее счастливый, бесстрашный взор:
– Идем?
Она только кивнула в ответ.
Смутно ощущая, что не только сам Бахтияр, но даже мысли о нем пагубны, князь Федор мгновенно забыл про черкеса, слишком занятый тем, чтобы беспрепятственно добраться до второго этажа. Однако нынче ночью, верно, господь простер над ним свою десницу, ибо никто не потревожил их пути.
Машина комната была уже в двух шагах, когда новая волна раскаяния вдруг нахлынула на молодого супруга. Слава богу, при венчании она выглядела счастливой невестой, устроив сама себе этот маленький девичий праздник – нарядиться так, что краше и не бывает. Но что ощутит юная жена, когда придет пора возлечь на брачное ложе тайком, украдкою, в кромешной, давящей тьме? Вот ведь сообразил мгновенно, как обезвредить Бахтияра, а как украсить первую ночь со своей возлюбленной – и не подумал. Не будут ли для нее эти объятия в глухой тьме сродни оскорбительным приставаниям князя Федора в той трижды проклятой конюшне? Ах, на что он ее обрек, на какую унылую, безрадостную…
Савка обогнул медленно шествующих молодоженов, распахнул перед ними дверь, потом откинул какую-то завесу – вроде бы ее прежде не было? – и все мысли вообще надолго улетучились из головы князя Федора при виде волшебного шатра, раскинувшегося пред ними.
Все окна были наглухо завешены, и дверь – тоже, чтобы не пропустить наружу ни малого лучика из сияния, рожденного множеством свечей, расставленных по углам, вокруг мерцающего, полупрозрачного белого полога, раскинувшегося над кроватью и ниспадающего, чудилось, с самых небес. Князь Федор долго таращился на это самосветное облако, пока не узнал шелк, подаренный ему неким богатым турчином за спасение его жизни. Причем достопочтенный османец, бывший заядлым путешественником, клялся, что ткань сия – баснословной ценности, ибо вывезена из загадочной страны Чин, или Китая, где ее наверняка соткали серебряные феи тамошних сказочных гор. Теперь князь Федор готов был поклясться, что это так, а еще – что ни у кого в мире, ни в небесах, ни на земле, не было брачного ложа краше.
Он обалдело обернулся. Савка стоял на пороге с видом столь же гордым, какой, наверное, был у Саваофа, закончившего сотворение мира и только что сопроводившего Адама и Еву в райские сады. Князь Федор чуть не расхохотался, поняв наконец, что за узел волок его слуга. Мысли его всегда были об одном: позаботиться о господине как можно лучше, и если князь Федор прежде никогда на Савку не жаловался, то сейчас он воистину превзошел сам себя.
Под горячим, благодарным взором барина Савкина напыщенность растаяла, как снег под солнцем. Конфузливо сморщившись, он пробормотал:
– Я говорил, что сгожусь, разве нет? – И, окончательно растроганный, вывалился из волшебных покоев, крепко-накрепко закрыв за собой дверь.
* * *
И вот она настала, эта ночь. Ночь их любви – беззаботной, счастливой, самозабвенной, как.., как любовь, ибо, едва ступив под белый полог и погрузившись в мягкий, мерцающий полусвет, влюбленные очутились в ином мире, где не было места тревогам, опасениям, печалям – здесь царствовала радость.
Они помнили только об одном: они созданы друг для друга и наконец-то друг друга обрели. Эта мысль зажигала счастьем их глаза, улыбки не сходили с их лиц, и даже целующиеся губы их дрожали, не в силах сдержать счастливый смех. Между ними не осталось ни осторожности, ни смущения: слишком долго томились сердца их в разлуке, и вожделенный миг слияния нельзя, невозможно было омрачить ничем. Неотрывно глядя друг другу в глаза, они сбрасывали все свои одежды, словно тяжкие оковы одинокого прошлого, ибо единению, к которому оба неудержимо стремились, не должна была помешать никакая преграда, возведенная ложной стыдливостью. Это все для прочих людей, еще не нашедших свое счастье, свою вторую половину. Это все для тьмы, затаившейся за пределами их райского сада. Для них же предназначено было иное.., совсем иное, и они принялись искать это неведомое и долгожданное, касаясь друг друга – сперва нежно и трепетно, а потом все более пылко и неудержимо.
Наконец-то они двое стали едины!
Глава 16
Борьба в столице
– О, Федька, оболтус! Где столько шлялся? Много веселья потерял! Мы тут, знаешь, с государем такие приключения по ночам заделываем.., совсем другой он, без десницы «батюшкиной»!
– Экий ты неслух, Федор! Что ж на родню наплевал, что ж отмежевался? Все-таки дела делаются серьезные, твоя помощь надобна, чтоб начатое довершить.
– Ну что? Каков тот Раненбург? Твое Ракитное вроде поблизости от него расположено? Не видел Левиафана? Говорят, скорбен телом, да жив еще. Пока жив!
Такими репликами встретили князя Федора, едва он вернулся в Петербург, Иван, Алексей Григорьич и Василий Лукич Долгоруковы. Так что если и владели им некие радужные надежды, мол, утолилась наконец-то дядюшкина алчность и мстительность, то теперь он убедился в своей наивности и глупости. Что Алексей Григорьич, что Василий Лукич – оба лелеяли планы полного уничтожения некогда всемогущего временщика. Похоже было, они не успокоятся, пока им не будет предъявлен истерзанный труп «Алексашки», и все же князь Федор понимал: возможность безнаказанного издевательства над поверженным врагом доставляла им такое наслаждение, что они будут длить его елико возможно, изобретая все новые и новые козни, пока с Меншикова «будет что драть», как выразился грубоватый, но откровенный Алексей Григорьич. А ведь было-таки!
За те полмесяца, что князь Федор добирался до Петербурга (не меньше десяти дней он потерял, отсиживаясь на постоялых дворах от неуемно разошедшихся буранов, когда на шаг отойти от жилья значило беспременно погибнуть), в содержании раненбургских затворников произошли новые ужесточения. Жизнь семьи, успевшей как-то приспособиться к условиям ссылки, была нарушена появлением двух новых лиц: гвардии капитана Петра Наумовича Мельгунова и действительного статского советника Ивана Никифоровича Плещеева. Первый из них, по назначению Верховного тайного совета, должен был заменить Пырского на посту начальника караула и немедленно ужесточить охранные меры до того, что теперь часовые стояли не на этаже, а у каждой комнаты, принадлежащей светлейшему и его семье, и, ежели кто из детей желал навестить отца с матерью, он мог явиться в его спальню только в сопровождении караульного!
По свойству натуры своей князь Федор всегда в самом плохом прежде всего пытался отыскать хоть крупицу благого: таким образом бессмысленность беды обретала подобие смысла, и с нею легче было справиться. Так и теперь: он первым делом подумал, какое счастье, что венчание их с Марией уже свершилось, потому что в новых обстоятельствах проделать что-нибудь подобное этому отчаянному предприятию было, конечно, немыслимо. И, хотя все было уже совершено, все содеяно и закреплено святым православным обрядом, ему было страшно даже вообразить, что совсем недавно было время, когда он только метался в безумных, почти неосуществимых надеждах, бесплодно томился и страдал. Теперь он не мог представить, что Мария когда-то не принадлежала ему, а он – ей…
У него до сих пор слезы наворачивались на глаза, стоило вспомнить, как он ушел, оставив ее спящей: в зареве догорающих свечей, под мерцающим пологом – такую прекрасную, юную.., такую безраздельно его!
Ночь их была неуемна, и Маша, сломленная усталостью, заснула вдруг, мгновенно, посреди объятий, еще когда тела их оставались слиты завершением очередного бурного любодейства.
Князь Федор долго смотрел на нее: как никогда раньше, она напоминала цветок, но теперь это был цветок, истомленный зноем страсти, а потом легко, одним дыханием, коснулся ее губ – они слабо дрогнули, отвечая сквозь сон, – и ушел, прижимая руку к сердцу, чтобы не разорвалось от боли.
Может быть, он бы и не ушел. Может быть, не сыскав в себе решимости расстаться с возлюбленной, просидел бы над ней до рассвета, став легкой добычей охраны. Однако он заботился о ней и о ее семье, ставшей теперь его семьей (бог ты мой! Александр Данилыч Меншиков, расчетливо и хладнокровно погубленный им, стал теперь как бы его отцом! Чудилось, князь Федор слышал ехидный хохот Судьбы!), а потому прежде всего надлежало обезвредить Бахтияра. И теперь, через много дней после случившегося, когда тоска по Марии становилась вовсе уж невыносимой, князь Федор вспоминал «зеленое знамя ислама» – и не мог сдержать смеха.
* * *
Перед уходом он осторожно приоткрыл один из сундуков, стоящих вдоль стен в комнате Маши, – и ему сразу повезло: сверху лежал травянисто-зеленый шелковый плат, очень простой, без всякой вышивки.
Это было именно то, что нужно. Сунув платок за пазуху, князь Федор вышел, ободряюще стиснул руку Савки, который вынырнул из тьмы коридора и стал перед барином, как лист перед травой, а потом они выбрались в окно и, слившись с метелью, подобно двум белым вихрям, влетели в часовню, где бедный Вавила был уже ни жив ни мертв, ибо до побудки оставалось не более часу, а им еще надо было что-то делать с пленником. Черкес несколько раз начинал приходить в чувство, однако Вавила неусыпно стерег эти мгновения и, чуть только Бахтияр стонал или шевелился, легонько стукал его по макушке, вновь погружая в бездны беспамятства. Вот и сейчас пленник снова был без сознания, однако князь Федор, как и прежде, отвел свою команду в самый дальний угол и шептал едва слышно, требуя от них того же.
– По-татарски кто-нибудь умеет? – спросил он первым делом.
– Якши! – тут же отозвался ушлый Савка. – Хоп якши. Йок! [44]44
Хорошо! Очень хорошо. Нет! (татарок.)
[Закрыть].
– А еще? – с надеждой спросил князь, и Савка уныло повторил:
– Йок!
Настала очередь Вавилы, который, конечно, знал самое для себя важное татарское слово – газават [45]45
Священная война ислама против неверных (христиан).
[Закрыть].
Потом, поощряемый настойчивым взглядом князя, он поднатужился, с видимым отвращением произнес:
– Аллах акбар! [46]46
Аллах велик!
[Закрыть] – и тут же быстренько перекрестился, ибо, хотя и не хотел служить своему богу, существования и прославления другого всевышнего допустить никак не мог.
Однако крест Вавилу не спас, потому что князь Федор доверил ему в грядущем шпектакле именно эту реплику, велев произносить ее измененным голосом, чтобы остаться неузнанным. Роль Савки была проще: по знаку князя Федора ему следовало или хохотать уничижительно, или кричать это самое «хоп якши!».
Репетировать было некогда, приходилось положиться на судьбу. И пока они волокли тяжеленно-неподвижного Бахтияра к забору, пока «наводили переправу» и, еле сдерживая самые злобные и выразительные (русские, увы!) словечки, втаскивали на забор своего пленника, князь Федор усиленно выуживал из памяти все татарские слова, которые когда-то слышал.
Набралось меньше десятка, но, учитывая «богатство» этого лексикона вообще, вполне можно было обойтись.
Смысл действа должен был заключаться в том, что некие люди, абреки [47]47
Разбойники.
[Закрыть] или шехиды [48]48
Фанатики ислама, воины газавата.
[Закрыть], прослышали о намерении магометанина переменить веру и явились за ним в крепость, чтобы припугнуть и отбить такую охоту. Велико было искушение похитить Бахтияра, но его начали бы искать, это неминуемо отразилось бы на узниках, ведь Пырский ни за что не поверит, что чеченец, лелеющий столь честолюбивые планы, вдруг все бросит и сбежит!
Но вот наконец-то все актеры оказались на «сцене»: в полуверсте от стен Раненбурга, в овраге. Бахтияр вновь очнулся – теперь от холода – и слабо стонал.
Завывал ветер – это было на руку князю Федору: его бессвязную речь можно было объяснить тем, что, мол, ветер уносит слова.
Завязав нижнюю часть лица – до самых глаз! – зеленым шелком, князь Федор наконец позволил Бахтияру себя увидеть – разумеется, издали.
– Шайтан! – выкрикнул он как можно яростнее – впрочем, по отношению к Бахтияру притворяться не приходилось. – Урус кунак!
Бахтияр заелозил головой по снегу: мол, нет, нет.
– Йок?! – грозно переспросил Савка. – Ха-ха-ха!
Это была реплика для Вавилы, и рыжий поп взревел голосом бурана:
– Аллах акбар!
Хоть убей, князь Федор не мог вспомнить слова «плохой», «дурной» или что-то в этом роде. Приходилось обходиться тем, что есть, и надеяться, что Бахтияр поймет вынужденную метафоричность его речи.
– Кара [49]49
Черный.
[Закрыть] джигит! Шайтан! – крикнул он, стараясь говорить тем особенным, гортанным языком, которым говорят чеченцы и горские татары. – Урус шайтан! Гяур!
За этого «гяура», выплывшего из потаенных глубин памяти, он возблагодарил господа. Это было именно то, что надо! Как еще назвать ренегата? Конечно, гяур – неверный.
– Урус баба – джаным? [50]50
душенька.
[Закрыть] – ехидно переспросил он, давая понять Бахтияру, что подноготная его поступков очевидна. – Бюль-бюль? Тьфу! Урус баба – шайтан! – И махнул своей труппе.
– Ха-ха-ха!
– Аллах акбар! – грянул дуэт.
– Секир башка! Урус гяур, урус кунак – секир башка! – пригрозил князь Федор.
Показалось ему или и впрямь снег под Бахтияром пожелтел и подтаял?..
– Айя! – взвизгнул совершенно по-чеченски Савка, внезапно расширив свой словарный запас. – Якши!
Хоп якши! – Он выхватил из-за пояса два своих охотничьих ножа и принялся громко лязгать ими один о другой, свистя разбойничьим посвистом, то и дело упоенно повторяя:
– Секир башка, урус кунак!
Видно было, что Савка, прирожденный лицедей, наконец-то обрел себя. Вот это роль! Это вам не по кустам скакать, мяуча кошками или лая собаками, отпугивая от барина приставучих красоток!
Вавила, не желавший отставать, надсаживался:
– Аллах акбар! Аллах акбар! – с тем же усердием, с каким выпевал свое любимое «Иже херувимы».
Впрочем, их лицедейство затянулось. Говорить, собственно, больше было не о чем, а талдычить одно и то же становилось небезопасно: Бахтияр был все же не дурак, хоть и стукнутый по голове.
Дав знак труппе, чтоб молчала, князь Федор провыл, пытаясь подражать муэдзину, который с высоты причитает трижды в день, глядя в сторону Мекки:
– Ля илляха иль Алла! [51]51
Нет бога, кроме Аллаха!
[Закрыть] – Это был его коронный номер, после которого следовало немедленно удалиться со сцены, не дожидаясь аплодисментов.., впрочем, на них рассчитывать не приходилось. Оторвав от шелкового платка зеленый лоскут, князь Федор швырнул его на Бахтияра – и еще успел увидеть, как тот, гонимый ветром, опустился точнехонько на глаза чеченца.
Так вовремя опущенный занавес скрывает от любопытного зрителя тайны сцены…
* * *
Веревки они ослабили – при определенных усилиях Бахтияр вполне мог выпутаться и добраться до крепости. Пусть радуется и недоумевает, почему его пожалели сердитые абреки.., или шехиды? Князь Федор молился, чтобы Бахтияр остался жив. Хотя сердце кровью обливалось, что похотливый черкес вновь будет пялиться своими грязными глазами на княгиню Марию Долгорукову, оставалось надеяться, что «урус баба шайтан» он не скоро забудет. Да и не кончено было еще дело, Бахтияру еще предстояло сыграть свою роль!
Теперь следовало разыграть второй акт шпектакля под названием «Секир башка гяур». Пожар в доме Вавилы, коему предстояло разгореться завтра, должен был вспыхнуть сегодня, сейчас, пока еще далеко до рассвета и все добрые люди спят! Какое счастье, что порох и останки медведя Вавила унес к себе еще загодя.
Если сейчас возвращаться в Ракитное – нипочем бы не обернуться до утра!
Сегодня, сделать все сейчас – словно бы стучало в голове Федора. Сегодня, сейчас – тогда пожар в поповском доме непременно будет приписан тем же, кто похитил Бахтияра, а теперь отомстил попу, намеревавшемуся осквернить правоверного обрядом крещения.
Только бы у Бахтияра оказались не вовсе отшиблены мозги, только бы он свел концы с концами!
Оставалось уповать на бога.., что и делали трое всадников, с лесного крутояра наблюдая, как столб огня и дыма, возникший там, где уединенно стоял поповский дом, поднимается все выше, расползаегся все шире. Ветер, по счастью, дул от церкви; кроме того, князь Федор решил, когда до него «дойдут слухи» о пожаре, прислать на благоустройство храма немалую сумму. О своем алиби, как говорят в Европе, он не тревожился: никто в Ракитном не сомневался, что князь еще вчера утром срочно и спешно, с одним только камердинером, отбыл в Воронеж, а оттуда в столицу, наказав вещи отправить вслед обозом.
Итак, князь с Савкой уехали. Ну а Вавила.., что ж Вавила? Сгорел – да весь сказ. Царство ему небесное!
* * *
Теперь ночи его были полны томления, а дни – тоской. Не зря, не напрасно он так стремился к этой женщине, так добивался ее. Мужской опыт, соединенный с нежностью и восторгом, которых ему никогда не приходилось испытывать прежде, подсказали это его женщина, она создана для него, без нее жизнь его будет пуста. Она и была пуста – теперь. Его не насыщали безумные сновидения, напрасно в воображении он силился вознестись на те же вершины: путь туда открыт только двоим, и звездный фейерверк сверкает лишь для двоих, и мелодии неземные, и цветы непредставимые – все видимо лишь тем, кто стали двое – дух един.







