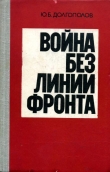Текст книги "В шесть тридцать по токийскому времени"
Автор книги: Эд. Арбенов
Соавторы: Моисей Писманик
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 20 страниц)
Перебежчик всем понравился, и за Маратовым с первого же дня закрепилась репутация мыслящего и, главное, полезного человека. Янагита, присутствовавший на совещании, принимал похвалы, адресованные Маратову, на свой счет: он добыл его, ему принадлежал вроде бы этот полезный человек. Когда командующий отмечал обстоятельный ответ Маратова, Янагита благодарно склонял голову.
Совещание окончилось где-то в четыре часа утра. Янагита попросил Идзитуро Хаяси проводить Маратова до отеля и позаботиться о том, чтобы «гость» хорошо отдохнул.
– С этого часа, – сказал полковник, – вы будете всегда рядом с ним.
Так Идзитуро Хаяси стал тенью Маратова.
Ему хотелось понять человека с усиками. Тень иногда любопытна. Задавать вопросы, не связанные с интересами штаба Квантунской армии, неудобно, да и небезопасно. У Маратова слишком внимательные глаза. Он тоже изучает и анализирует. Потом спросит Янагиту: «Меня допрашивают по вашему распоряжению?» Или только с намеком, это у него хорошо получается: «Мой юный друг желает получить образование в русском духе…» И Янагита объяснит Идзитуро его обязанности. Объяснит в приказе, после чего «юного друга» откомандируют в другой город и забудут вернуть.
Он попытался проникнуть внутрь Маратова при закрытых дверях, то есть без вопросов, только приглядываясь, анализируя, строя догадки. Газетная шапка «Маратов: «Я избираю Страну восходящего солнца!» показалась ему фальшивой. Конечно, человек с усиками избрал Японию, но выбор его был весьма ограничен. Вообще выбора не было. Куда он мог податься из Благовещенска? Не в Австралию же! И не в Америку! О Европе и говорить нечего. Граница пролегала рядом. Появилась возможность бежать. И он побежал.
Итак, Маратов не избирал. Не манили его лазурные берега, не импонировал душевный склад японцев. Когда на второй день начальник штаба Квантунской армии устроил обед в честь «гостя» и приказал обставить комнаты в японском стиле, Маратов отнесся к меблировке без интереса, он не заметил редких вещей, специально для этого случая принесенных из квартиры командующего. То же самое повторилось и в Токио. Прогулка по Гинзе, посещение театра Кабуки, ужин в обществе гейш не произвели на перебежчика никакого впечатления. Он был далек от Японии, хотя и находился в Японии. Он был вообще человеком без определенных симпатий и привязанностей. Вещи он оценивал с точки зрения их практической целесообразности. И, конечно, стоимости. Дорогое он легко отличал, если даже внешне оно выглядело скромным.
Это огорчило Идзитуро. Обидело почему-то. Он знал, что Маратов перешел границу во имя политических целей, он менял строй. Но где-то в глубине души могла жить симпатия к людям, которых он избрал своими будущими согражданами. Ну за их трудолюбие, ум, наконец, за экзотическую раскосость глаз, такую необычную для европейцев. За что-то…
Существуй такое тепло в душе Маратова, Идзитуро, пожалуй, простил бы ему многое: и голую расчетливость, и эгоизм, и даже вероломство. Последнее если не простил бы, то, во всяком случае, оправдал желанием человека найти свой дом под солнцем. Но тепло душевное никак не обнаруживалось. Возможно, его не было вовсе. Как же тогда жил человек?
А он жил. Не любя, не пытаясь понять окружавшее его, не утруждая сердце сочувствием к чужой боли, он шел вместе со всеми по дороге, не знакомой ему и, в общем-то, не нужной.
Она была удобной, и все. Этого оказалось достаточно для Маратова.
«Зачем ты пришел к нам? – спрашивал мысленно перебежчика Идзитуро. – Или не пришел, а просто зашел, чтобы, передохнув, пойти дальше. Куда? Есть ли земля, которую ты назовешь своей?»
Были ли у Маратова идеалы? Этого не знал Идзитуро. Перебежчик часто говорил о каком-то политическом учении и называл себя троцкистом. Что исповедовали люди, принявшие это учение, к какой цели они шли? Существовал ли бог, свой, особенный, вечный, которому они молились? И где он находился: на небе или в земле? Идзитуро, слушая Маратова, почему-то рисовал себе темный лабиринт без конца и без надежды. Выйти к солнцу из него нельзя было. А Маратов шел…
Возможно, Идзитуро был так требователен к Маратову, потому что не любил его. Не принимал его сердцем, так же как Маратов не принимал сердцем соплеменников Идзитуро. Они были чужими.
Иногда Идзитуро ловил взгляд Маратова, остановившийся на японском лице. Что-то насмешливое, пренебрежительное было в этом взгляде и, главное, печальное. Печаль разочарования или сожаления. Может быть, даже досады. За себя, за необходимость брать хлеб из рук японцев, служить им. Прозвучало даже раздражение. Это когда Квантунская армия оставила озеро Хасан, откатилась под ударами советских войск. Начальник штаба изобразил отступление как тактический ход и преподнес его Маратову. Тот скривился:
– Я так и понял…
Как хлестнул Идзитуро этот ответ! Маратов отказывал японцам в талантливости.
На Новый год, который отмечали в чудесном местечке близ Камакуры, офицеры пригласили Маратова. Штабному начальству хотелось познакомить перебежчика с японскими обычаями. В двенадцать часов раздался первый удар храмового колокола, и все благоговейно смолкли. Ударов должно было быть сто восемь, последний, сто восьмой, извещал об окончании старого года и исчезновении всех неприятностей прошлого. Это были торжественные, возвышенные минуты. И вот где-то на двадцатом ударе Маратов зевнул. Скучно, уныло, опоганивая чувства людей. Заметил ли кто это оскорбительное проявление равнодушия, Идзитуро не знал, но он заметил, и ему стало не по себе.
Сто восемь ударов храмового колокола запомнились навсегда. Особенно тот, двадцатый…
Как-то Идзитуро спросил Маратова:
– А что с тем человеком?
Маратов не понял:
– С каким человеком?
– Что вернулся на машине к сосне… Его судили?
– Надо полагать.
– Кто он вам – друг, родственник?
– Подчиненный.
– Он умер?
– Не думаю. Тюрьма всего лишь.
– Но он же невиновен?
– Какое это имеет значение? Ветер сбивает с ног тех, кто нетвердо стоит или не видит, откуда налетает вихрь.
Идзитуро тоже не видел, откуда налетает вихрь. Он просто не предполагал о его существовании. Он был наивен.
Последний разговор произошел в загородном особняке Янагиты. У генерал-майора (в тридцать девятом году Янагите присвоили новый чин) был для конфиденциальных встреч такой особняк. Что-то вроде дачи в японском стиле. Здесь он принимал гостей, с которыми не следовало показываться на людях, – штаб-квартира и даже отель всегда у кого-нибудь на примете, а здесь полная изоляция.
Последнее время Маратов для бесед с генералом приезжал только на дачу. Он был важным лицом и претендовал на внимание и почет. Главное, он был нужным лицом. Токио отпускал Маратова в Маньчжурию лишь после настоятельных просьб штаба Квантунской армии. С Янагитой он держался на равных и разрешал себе иногда даже подтрунивать над шефом маньчжурской секретной службы.
В тот день они обсуждали план заброски диверсионных групп в Приамурье. Второй отдел намечал цикл таких ударов по советскому тылу с помощью эмигрантских организаций. Разведшколы готовили в различных городах группы подрывников и террористов, которые должны были дезорганизовать работу транспорта, связи, обезглавить советские и партийные органы. Янагите хотелось узнать у Маратова, насколько крепок советский тыл. и какие средства защиты против диверсий там существуют. Проще говоря, он искал уязвимые места, и места эти должен был указать Маратов.
– Назовите мне пункты высадки групп и схему движения по территории! – потребовал перебежчик.
– Ориентировочно?
– Нет, точно. В противном случае я не смогу назвать препятствия, с которыми столкнутся группы в том или ином месте.
Это требование ущемляло как-то Янагиту, и он сразу принял оборонительную позу:
– Хорошо… Я покажу на карте маршрут и назову цель. Но тогда вы будете ответственны за безопасность операции.
– Ответственность за безопасность операции лежит на том, кто ее разработал. Я же призван только оценивать ее.
Янагита вспыхнул. Его умение думать и действовать ставилось вроде бы под сомнение.
– Предоставьте нам эту возможность оценивать, – осадил «гостя» генерал. – Нам по силам такая миссия. От вас же требуется консультация…
– Беспредметная…
Маратов не желал сдаваться и имел на это какое-то основание. И поддержка, видимо, была там, в Токио. Развалившись в кресле, он свысока смотрел на Янагиту. Много воды утекло за год, Маратов был уже не тот, которого Янагита подобрал на границе. Он сам, кажется, способен был «подобрать» шефа секретной службы в критический момент. Генерал понял это.
– Вот схема. – Он протянул карту с нанесенными на ней синим и красным карандашами линиями движения групп, Синие линии – к цели, красные – от цели.
– Одно направление, – бросил коротко Маратов.
– Что?
– Красные стрелки можете перечеркнуть. Отхода не будет. Некому будет отходить. – Маратов взял со стола карандаш и жирными кругами обвел конечные пункты: – Здесь – кольцо. Перестреляют, как зайцев. Первый поселок, который им встретится, зафиксирует движение, и группу уже встретят, вернее, отрежут от границы. Они, сами того не зная, будут втягиваться в мешок. Останется только завязать его.
Циничный тон, которым Маратов излагал итоги операции, оскорбил Янагиту. Он, конечно, понимал, что перебежчик прав. Наверное, прав, хотя правота ничем не доказывалась, только утверждалась. Но признать чужую правоту, значит, расписаться в собственной беспомощности.
– Схема опробована, – заметил Янагита.
– Покойниками? – Маратов позволил себе хихикнуть. Это было уже слишком.
Янагита взорвался.
– Что?! – почти крикнул он. Первая нота прозвучала очень высоко, вторая – ниже, третья – совсем низко. В одном слове отразилась борьба генерала с самим собой. Дав поначалу волю чувствам, он тут же приглушил их. Нельзя было перед Маратовым показывать свою слабость.
Но упущенное не вернешь. Маратов все понял и отметил про себя, что спокойствие хозяина показное, он с трудом владеет собой. Не больно хорошо, видно, идут его дела с засылкой диверсантов. Но бередить чужую рану не стал – рискованно. Стер с лица ехидную улыбку и нарисовал что-то схожее с огорчением и сочувствием. В глазах, однако, продолжала искриться насмешка.
– Вы же помните, как закончила свой путь группа Радзаевского… Остался жить только тот, кто поднял руки.
– Не только… – Янагита подавил гнев и уже спокойно реагировал на колкие слова Маратова. Может, и не подавил, а лишь упрятал поглубже, чтобы робеседник не замечал раздражения. – Кому нужно было, тот остался жить…
– За колючей проволокой, – снова не удержался от насмешки Маратов.
– За стенами штаба Дальневосточной армии!
Гнев, оказывается, не угас и не слишком глубоко был, видно, припрятан, иначе не загорелся бы снова так быстро Янагита и не бросил бы в отместку Маратову эту фразу. Одним ударом сразить хотел собеседника.
– За стенами? – переспросил Маратов.
– Да, за стенами. У самых сейфов, которые так старательно охраняются!
Не сразил. Не так-то легко было повалить Маратова. Слишком много знал этот перебежчик. Впрочем, на его осведомленность и рассчитывал Янагита, произнося свою загадочную фразу.
Короткое замешательство. Генерал, кажется, попал в цель. Маратов бросился на поиск информатора, пробравшегося в штаб ОКДВА. Бесплодный поиск. Бесплодный поиск. Агент был слишком хорошо законспирирован, даже японцы не знали его настоящего имени.
Не без удовольствия следил Янагита за поиском Маратова. Теперь настал его черед смеяться над собеседником: «Ну, каково быть в положении поверженного?»
– Не Большого ли Корреспондента вы имеете в виду? – спросил Маратов. В самом вопросе уже прозвучала какая-то ирония. Недозволенная ирония. «Большой Корреспондент» – одна из великих акций японский секретной службы. Два эти слова должны произноситься с благоговением.
– Да, Большого Корреспондента, – торжественно повторил Янагита. Он был на высоте и оттуда, с высоты, смотрел на побежденного Маратова.
– Что ж…
Неопределенно прозвучало это «что ж». Вроде бы признавал Маратов успех Янагиты и самой секретной службы и вместе с тем сомневался в чем-то и этим сомнением как бы умалял значение успеха. Опускал Большого Корреспондента на ступеньку ниже, а может, и вообще снимал с той лестницы, на вершину которой вознес его Янагита.
Могло и другое побудить Маратова произнести это многозначительное и настораживающее «что ж». Боязнь сокрушить самого Янагиту. Не агента секретной службы Японии, а одного из руководителей этой секретной службы, заместителя начальника второго отдела штаба Квантунской армии. На самой кромке обрыва стоял Янагита, и надо было лишь толкнуть его, чтобы с криком ужаса полетел он в бездну.
Янагита почувствовал себя на кромке. Слишком стремительный взлет всегда близок к критической грани, за которой уже не устремление вверх, а падение. Такое же стремительное. И тем более опасен этот предел. Внизу бездна. Янагита знал о ее существовании, но никогда не вглядывался в беспредельную пустоту, не видел себя падающим. И вот перебежчик понудил его к этому своим неопределенным «что ж».
Но прежде всего надо было убедиться, что Маратов искренен, что тут честная игра, а не тактическая уловка, желание посеять сомнение в душе Янагиты, убить радость победы. Весь разговор сегодня – хождение по шипам. И шипы ставит Маратов. Он ухмыляется, когда его собеседник натыкается на острые иглы.
Вот это-то и ожесточило Янагиту. Он пренебрег опасностью, забыл о кромке, на которой остановил его Маратов, остановил загадочностью фразы. Ринулся по этим шипам, чтобы скорее одолеть колючую, наносящую боль полосу.
– Вот именно – «что ж»! Мы достигаем цели, когда это необходимо…
– Реальной цели? – не то спросил, не то уточнил Маратов.
– Ощутимой… Большой Корреспондент вскрыл русские сейфы!
– Ему было легко это сделать, – опять усмехнулся Маратов и тем наконец столкнул собеседника с кромки.
Кажется, зашумела под ногами Янагиты осыпь. Но он не понял этого.
– Большой Корреспондент – важное лицо в штабе Дальневосточной армии…
Маратов откинулся на спинку кресла и захохотал.
Вот тут Янагита понял, что падает. Он попытался уцепиться руками за выступы обрыва, но выступов не было. Не было ничего, способного остановить падение.
– Ваш Большой Корреспондент…
Для полного уничтожения Янагиты, для разрушения величественного изваяния Большого Корреспондента Маратов назвал известную фамилию. Колосс японской разведки медленно рассыпался.
– Выйдите, капитан! – закричал Янагита.
Идзитуро Хаяси был в комнате. Он не мог не быть здесь Он – тень Маратова. И вот Янагита отрывал эту тень.
– Сейчас же выйдите!
Идзитуро встал – он сидел в углу под желтым японским фонариком, выполнявшим роль торшера, и просматривал журналы, – встал и пошел к двери, бледный, отрешенный, испуганный. Путь в несколько шагов был долгим, мучительно долгим и для Идзитуро, и для Янагиты.
За дверью Идзитуро остановился, обхватил голову руками и зашептал:
– Что же теперь будет?… Что будет?
В номере отеля, куда Идзитуро привез ночью своего подопечного – тень оставалась тенью, – Маратов сказал:
– Забудьте, друг мой, что слышали сегодня в доме Янагиты… Я пошутил… Пришла в голову шальная мысль позлить новоиспеченного генерал-майора.
Идзитуро молчал. Он не знал, как отнестись к словам перебежчика. Ему все еще было страшно.
– Вы еще молоды, – добавил Маратов, – и мне не хотелось бы видеть вас несчастным… Заставьте себя позабыть все…
Идзитуро кивнул. Это было признание собственной обреченности.
– Обещайте! – попросил Маратов.
– Хорошо.
Через два дня Маратов вернулся в Токио. Один. Капитана Идзитуро Хаяси впервые оставили в Харбине. Не по его просьбе. Ему нашлась срочная работа: подготовка диверсионной группы к выброске на левый берег Амура. Группу готовили на окраине Харбина в лагере «Хогоин», который официально именовался «Научно-исследовательским отделом». Шесть человек должны были перейти государственную границу в районе маньчжурского погранпоста, что в шести километрах северо-западнее селения Раддэ, и углубиться на советскую территорию. Пятеро диверсантов – из эмигрантского отряда «Бункай», шестой – Идзитуро Хаяси. До этого японских инструкторов не бросали за кордон. Они лишь готовили группу и иногда сопровождали до пограничной полосы. Впервые инструктор переступал рубеж. И им оказался Идзитуро.
Объяснений не требовалось. Да никто и не собирался давать их. Надо уметь самому делать выводы. И Идзитуро сделал.
– Ну вот, полог откинут, – закончил Хаяси свой печальный рассказ. – Ты увидел тайну, которая принадлежала всего трем людям. Теперь нас четверо.
Четверо! Простая смена цифр. Для арифметической задачи требуется лишь крестик после тройки, и за знаком равенства появится новое число. Если бы так было и после нашей встречи с Идзитуро. До знака равенства стояли числа, связанные с тайной, а после него – жертвы.
Мы молчали.
За стеной стихали звуки города, погруженного в темноту ночи. Харбин засыпал.
– Прости меня, – сказал Хаяси после долгой безмолвной минуты. – Моего мужества оказалось мало для испытания. Я побоялся остаться один на один с несчастьем…
Это были последние слова Хаяси. Он больше не просил меня стать секундантом. Простое, человеческое победило в нем офицера разведки. Наверное, оно побеждало не раз…
И все же ему было стыдно. Он закрыл лицо руками и так застыл перед окном. В темноте. Я не видел его лица, а ему казалось, что оно освещено…
– Вы сказали: «Не знаю, стоило ли мне умирать из-за какого-то резидента, как умер мой друг Идзитуро Хаяси. Наверное, не стоило…» Он умер?
– Группа не вернулась с операции. В ее задачу входило спровоцировать инцидент в районе полицейского поста 207. На другой день газеты сообщили о нарушении советскими вооруженными силами маньчжурской границы. Диверсанты из отряда «Бункай» были одеты в красноармейскую форму и легли под пулями наших же пограничников. Мне потом сказали, что боя и не было. Группу просто расстреляли из пулеметов, когда она возвращалась на свой берег. Так было задумано. Вот этого Идзитуро не знал…
Мне бы хотелось, чтобы время сохранило память о моем друге. Наивное желание, не правда ли? Великое само утверждает себя в веках. Рожденные героями бессмертны. Даже если след, оставленный ими, окрашен кровью. Идзитуро был только солдатом, японским солдатом. Умри он в бою с врагом, боги вознесли бы его на небо. Но его убили свои. Братья! Не знаю, к какому перечню благодеяний отнесена такая жертва. Видимо, ни к какому.
Или это глупая смерть. Хаяси наступил босыми ногами на змею. Может ребенок наступить на змею или взять ее в руки? В росной траве – а жизнь иногда схожа с росной травой, зеленой и нежной, – мы не видим ничего, кроме буйства весны. И вдруг – яд! Если бы ноги наши не были босы. Если бы! Но пройти через жизнь, ни разу не обнажив себя, не дав телу насладиться радостью общения с весной! Кто способен на это?
Кому отдана жизнь? Богине солнца Аматэрасу? Силам, творящим свет и красоту мира? Мне хотелось думать, что смерть Хаяси была продиктована высшей необходимостью. Только какой? Камень, устилающий дорогу, дает возможность идти вперед, достигать цели. Идзитуро стал камнем дороги будущего. Это прекрасно!
Так я думал как японец. Изменить себя мы не вправе, иначе перестанем быть солдатами императора. А мы рождены ими.
Счастье в том, чтобы не сомневаться в собственных убеждениях. А я стал сомневаться. Сомнения принес Янагита. Как ни пытался я закрыть перед ним дверь, ничего не помогало. Он проник, а может быть, и не проник, а находился внутри и время от времени давал о себе знать. Как умный ястреб, Янагита прятал свои когти. Лишь иногда они обнажались, чтобы вонзиться в жертву.
Как-то я подумал: не этому ли богу отдана жизнь моего друга? Кто же такой Янагита? Почему он требует жертв? На чей алтарь они кладутся? Его ли только или самой Аматэрасу? Он посредник между людьми и небом.
Высокое сравнение, не правда ли? Оно может показаться даже кощунственным, если верить в небо и считать его обителью богов. Но когда видишь, что Янагита неуязвим, Янагита вечен, а сам ты беззащитен и смертен, ты фонарь на ветру, который можно легко задуть, кощунственное отбрасывается. Свет Хаяси именно так померк на великом ветру. Мне хочется, чтобы друг мой, умирая, был убежден в этом. Проще расставаться с жизнью, видя себя хотя бы песчинкой в вихре событий. Горе, если Хаяси в последнюю минуту отверг великое и понял, как понял позже я, что не было над нами неба. Не во имя ясной синевы его мы погибли. Пулеметная очередь, пронизавшая всех шестерых, могла отрезвить его… В последнюю минуту. Горестно, если так…
– Он, кажется, намеревался покончить с собой… Правильно я понял смысл вашего разговора с Идзитуро Хаяси на конспиративной квартире?
– Это было бы протестом – наложить на себя руки.
– Протест – итог раздумий. Что-то, значит, изменилось в представлениях вашего друга о пути, которым он шел.
– Ничего не изменилось. Хаяси обвинил себя в невольном прикосновении к тайне и избрал смерть как наказание за эту оплошность.
– Фанатическая убежденность в непогрешимости господина?
– Да.
– Печальный пример… Впрочем, вы, кажется, относите это к отличительному качеству японского разведчика. Особый тип офицера секретной службы – так вы назвали его?
– Почти…
– А как же быть с вашими сомнениями?
– Я – плохой разведчик… Я уже признался в этом вначале.
– Разрешите не согласиться с вами, господин Сигэки. То, что вы разгадали необычность Сунгарийца, свидетельствует как раз о противном…
– Сомнения родились помимо моей воли. Не особенно-то хотелось вступать в конфликт с господином, как вы назвали Янагиту, и навлекать на себя его гнев. К тому же он мог оказаться не один. Несколько господ… Много…
– Сомнения могли родиться и у Идзитуро, и тоже помимо его воли.
– Для этого ему нужно было дожить до 20 августа.
– Не так уж много… Несколько лет.
– Несколько лет – это целый век, если говорить о событиях. Великий взлет и великое падение!
– Не думаю, чтобы в вашем прозрении главную роль сыграли эти события. Пять человек, посвященных в тайну, – вот круг, из которого вы пытались выйти. Трагический круг. В нем все решалось. Смерть Идзитуро – начало пути к сомнениям
– Нет, не начало. Сострадание не способно пробудить протест, оно вызывает лишь скорбь и отчаяние.
– Разве вы, думая о друге, не задавали себе вопрос: «Зачем?»
– Не помню… Наверное, не задавал. Да и надо ли было его задавать? Ответ давно известен – высшая необходимость.
– А мне кажется, душевная боль – начало размышлений о причинах страданий человека.
– Если они известны, нет надобности искать новые. О тайне я, верно, думал. Но пока без сомнений. Вопрос «зачем?» возникал, по-видимому, но он относился к тайне. Во имя чего оберегается она? Что в ней? Это было только любопытство. И еще – страх. Когда притрагиваешься к неведомому, сердце сковывает холод.
– И все же вы притронулись?
– Меня каждый раз подталкивал Янагита. Идзитуро оказался случайным свидетелем разговора о Сунгарийце и Большом Корреспонденте и тем ввел себя в роковой круг. Я оказался в нем по желанию шефа. Помните мои злоключения в Сахаляне? В тот вечер я следил за Сунгарийцем. Вместе с маршрутом гостя с левого берега я принес Янагите имя его спутницы – официантки международного ресторана. Через два месяца после гибели Идзитуро Хаяси шеф предложил мне отыскать Катьку-Заложницу и ликвидировать ее. Вот когда вопрос «зачем?» стал донимать меня. Я соединил смерть друга с приговором Кате, или, как она звалась по-настоящему, Любови Шелуновой. «Способ изберите сами, – сказал Янагита, – только будьте осторожны – она красива».
Янагита мог дать распоряжение о ликвидации Кати-Заложницы той же военной миссии, как сделал это с Маратовым, но почему-то не воспользовался такой возможностью. Он считал, что я плохо знаю официантку или совсем не знаю, и потому предостерег об опасности…
Не смотрите на меня так, я не убивал официантку. Нет-нет! Я не смог бы это сделать. Вы понимаете? Никогда бы не смог…
– Но приказ!..
– Приказ был выполнен… Не важно как, но выполнен. Агент Комуцубары перестал существовать…
Атаман Семенов и официантка ресторана «Бомонд»
Да, Янагита считал, что я не знаю Любови Шелуновой. Его ввели в заблуждение мои недоуменные вопросы и та ошибка с опознанием спутницы Сунгарийца, которую я принес ему ночью в номер отеля. Что ж, на какое-то время это избавило меня от преследований шефа.
Вначале я только присматривался к Кате как сотрудник второго отдела и иногда как посетитель ресторана «Бомонд». Первое было запретным. Не полагалось офицеру разведки интересоваться чужим агентом, тем более агентом своего начальника. Второе даже поощрялось, поскольку симпатии сотрудника секретной службы не выходили за пределы самой секретной службы. Я почему-то отдавал предпочтение запретному, то ли в силу своей склонности к психологическим анализам и, следовательно, к поискам ответа на всевозможные «почему?» и «зачем?», то ли из желания делать все наоборот – дух противоречия живет во мне с детских лет. Всегда мне хотелось возразить другим, и, даже соглашаясь (бывает так, что нельзя не согласиться), свой ответ я начинал со слова «нет». Что-то, в общем, заставляло меня шагать по запретной тропе.
Конечно, никто не видел меня на ней – я приходил в «Бомонд» как самый обыкновенный посетитель. Вопросов Кате не задавал, даже не садился за ее стол. Любопытство мое удовлетворяли завсегдатаи ресторана, эмигранты-офицеры, считавшие за честь ответить на вопрос японца, заданный к тому же на русском языке. Это был осведомленный народ. У некоторых запас всяких историй был настолько велик, что вызывал постоянную потребность излить его, облегчить свою душу.
От завсегдатаев «Бомонда» я узнал о существовании второго имени у Кати – Заложница. Они растолковали и смысл его. А вот имени человека, продавшего Катю хозяину «Бомонда», не помнили. Это не мешало им, однако, смело фантазировать и присваивать «торговцу живым товаром» титулы и чины. Кто утверждал, что покровителем Кати был граф Смолич, кто – князь Беспалов. Назывались и другие князья и графы. Баронов, правда, не было. Где они сейчас, эти князья и графы, словоохотливые завсегдатаи сказать затруднялись. Или слабо знали географию, или у них не хватало воображения. Но то, что покровители исчезли именно в ту ночь, когда получили деньги за Катю, подтверждали все без исключения.
Со свойственным мне упрямством я доискивался до истины: куда же все-таки девались покровители Кати? В каком хотя бы направлении исчезли? Вопрос заставлял моих собеседников пожимать плечами. Кое-кто кивал неопределенно, но не на север. Север почему-то исключался. Запад – тоже. Что-то вроде юго-востока. Один произнес твердо: «В Австралии он!» Почему в Австралии? Многозначительно поднятые брови, как многоточие, уводили в туманную неизвестность. Австралия не объяснялась. Все далекое необъяснимо, иначе оно перестанет быть загадочным. Назвавший Австралию просто высказал предположение о судьбе эмигранта, которому вдруг повезло – он добыл деньги. А где их истратить, как не в барах полуамериканского пятого материка? Назвавший сам охотно продал бы Катю, приведись такая возможность, и подался бы от этой горькой и смрадной жизни на край света, за океан, на какой-нибудь коралловый риф…
Спустя год, а может и больше в том же самом «Бомонде» я разговорился с совершенно незнакомым мне человеком. Очень странным человеком. Он был совершенно лыс и гол лицом – ни единого волоса, если не считать седых, весьма пышных бровей. Но не в лысине и не! в бровях была его странность. И даже не в удивительной округлости всех черт – шарообразный лоб, яблоковидные щеки, блюдцеподобный подбородок. Он ничего не ел, только пил. Вот в чем была его странность. Пил короткими и редкими глотками, смакуя вино и поглядывая на посетителей. Увидев Катю, он сказал в пустоту, ни к кому не обращаясь:
– Дочь холуйствует, а отец проматывает деньги в карты…
Это было что-то новое и, главное, совсем невыдуманное.
Страшно похожее на правду. Я спросил:
– У нее есть отец?
Круглый человек оказался колким:
– У кого нет отца! Увы, все от какого-то происходят…
Мой вопрос прозвучал глупо, я понял это и стушевался:
– Я хотел спросить: ее отец жив?
– Да. Этого пройдоху ничто не берет. Боюсь, что уже не успею бросить горсть земли в его могилу.
«Колет, не щадя никого, – отметил я про себя. – И похоже, что колет в уязвимое место».
– Если бы даже успели, – заимствовал я у лысого насмешливый тон, – трудно, находясь в Харбине, бросить горсть земли в могилу где-то в Австралии.
– В Австралии?! Ха-ха! – скривил губы лысый. – Австралийским кенгуру явно повезло. Он в Дайрене, всего лишь в Дайрене. А до Дайреиа я как-нибудь доберусь на своих больных ногах. Ради такого случая можно пренебречь даже подагрой.
Не любил Катиного отца лысый.
– Удивительно, – признался я. – А мне говорили, что ее отец или жених, не помню уж, сбежал куда-то за океан. Продал дочь и сбежал.
– Продал, верно. Он не то что дочь, душу черту продаст, лишь бы денежки, золотишко… А вот бежать ему незачем. От кого бежать? Они с племянником тут хозяева.
Лысый интриговал меня своими неожиданными открытиями. О каких-то важных лицах, известных в Маньчжурии, говорил он.
– И не вспоминает о дочери? – выразил я недоумение и тем попытался приблизить лысого к именам этих лиц.
– У него этих дочерей! По всему Приморью… Генерал от бабьих юбок… В одних исподниках драпал от красных… С какой-то печи стащил его ординарец, а то бы так голоштанным и попал в ЧК.
– Здесь он появился с дочерью? – вернул я лысого к началу разговора.
– Привез ее кто-то из Благовещенска на радость папеньке.
– Похожа на отца?
Лысый хихикнул. Видимо, вопрос мой прозвучал как издевка.
– На генерала похожа лишь старая калоша и то, если поносить ее лет двадцать… Вы что, не видели никогда дядюшку атамана? Бог мой!
Я действительно не видел дядюшку атамана Семенова – теперь стало ясно, что лысый говорит именно о нем. Самого атамана я встречал не раз и в Харбине, и в Порт-Артуре, и в Дайрене. Если атаман внешне схож со своим дядей, то не так уж тот безобразен. Лысый из ненависти к генералу мог сравнить его черт знает с чем. Хотя есть ли что унизительней старой калоши, ношенной двадцать лет?
– Не видел, – признался я.
– То-то… Не советую смотреть. Когда мне приходилось лицезреть генерала, я спешил сплюнуть. А плюю я, учтите, только на жаб и мокриц.
Все же я посмотрел на генерала Семенова. Не в тот, естественно, вечер и не в ту неделю. Не было надобности. Да и желания тоже. Разговор со странным посетителем «Бомонда», развеселившим меня своими неожиданными сравнениями и еще более неожиданными заключениями, не породил любопытства к личности генерала. Исчезла таинственность, так занимавшая меня прежде. А без таинственности не существовала и сама Катя. Мне даже подумалось, что говорил лысый о ком-то другом.