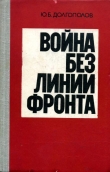Текст книги "В шесть тридцать по токийскому времени"
Автор книги: Эд. Арбенов
Соавторы: Моисей Писманик
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 20 страниц)
– Жаль, что рядом на фотографии нет самого создателя этих сапог.
– Резиденты не фотографируются. А уж если нет возможности избежать этого, становятся спиной к объективу. – Доихара опять просвещал бедного майора.
– Жаль, – повторил с огорчением Язев.
В широко распахнутых глазах Доихары, рисовавших только что поиски и еще не избавившихся от этой задачи, мелькнула тень беспокойства: не то искал он! Майору нужен портрет Сунгарийца – так надо понимать интерес к фотографии. Какой-нибудь портрет. В Хабаровске намерены искать резидента. Сигнал Доихары принят.
А портрета нет. Нет никакого портрета. Такой в сущности пустяк: картонка девять на двенадцать, шесть на девять, в конце концов. Сколько этих картонок прошло через руки Доихары и сколько лежало в сейфах и столах! Была, наверное, и та, с изображением Сунгарийца. Конечно, была. Дело резидента существовало: с фотографиями, анкетами, отпечатками пальцев, приметами. И возможно, где-то есть. В том же Харбине или Дайрене. Или здесь, в Токио. Хотя мало вероятно. Приказ от 15 августа требовал уничтожения всех документов. Секретных в первую очередь… «Предать огню! Под личную ответственность…»
Веки сами по себе опустились. Никакого поиска. Что блуждать в пустоте. Он не помнил лица резидента, ничего не помнил. И не потому, что устал мозг или время стерло образ, просто встреча с Сунгарийцем была слишком короткой, причем единственная встреча. Если бы Сунгариец отличался чем-либо особенным, какая-то черта редкая, приковывавшая глаз, была в его облике, Доихара, конечно, зафиксировал бы ее.
Веспа привез Сунгарийца, тогда еще не Сунгарийца, а казачьего подъесаула, тачавшего сапоги для харбинских чиновников, на конспиративную квартиру. Где точно находилась эта квартира, Доихара не помнил: у сотрудников японской военной миссии было множество конспиративных квартир. Сеть расширялась, и места явок агентов буквально усеяли Харбин В Фуцзядяне, кажется. Старый китайский район с его узкими, слепыми переулками, бесчисленными харчевнями и опиумокурильнями хорошо оберегал тайну любой встречи.
В небольшой комнате с задернутыми занавесками при свете жалкой керосиновой лампы казачий офицер показался Доихаре очень высоким, голова едва не упиралась в потолок. Впрочем, потолки в китайских домиках низкие – поднятой рукой свободно достанешь камышовый настил. Просто подъесаул был выше Доихары – вот в чем дело, а себя Лоуренс-2 считал высоким человеком.
Около окна стояли табуреты, и Доихара поспешно сел. Для «гостя» он подчеркнул этим свое начальствующее положение, а себя избавил от неприятной необходимости чувствовать разницу в росте… Унизительную в некотором смысле разницу. Сел и отвернулся. Стал смотреть на желтый язык пламени, что приплясывал в стеклянном пузыре лампы. Так Доихара делал при встрече с агентами: лицо себеседника его не интересовало. Да и существовало ли вообще лицо? Агент! Человек, который куплен.
Молодой, старый, красивый, некрасивый – какое это имело значение? Когда приобретали его, оценили качества, возможно, смотрели даже зубы, как у лошади на торгах. Все оказалось подходящим. Веспа не взял бы плохой товар. Этому итальянцу с китайским паспортом Лоуренс доверял. Опытный скупщик! Теперь Доихара пожалел, что поручил вербовку Веспе. Как бы пригодились сейчас приметы Сунгарийца.
– Высокий… Он был высокого роста, – виновато произнес Лоуренс-2 и глянул на майора так, будто просил извинить за слишком скупое сообщение. «Вы должны учесть, – мысленно добавил он, – что в обязанности начальника военной миссии не входит вербовка резидента для Благовещенска. Я мог интересоваться лишь его деловыми качествами, легендой, с которой он пойдет на левый берег, наконец, произнести напутственную речь… Остальное – дело подчиненных». Высказав все это взглядом и убедившись, что Язев понял, Доихара несколько успокоился. В душе, однако, жила досада на себя, на всех. На того же амурского казака. Надо же было ему пройти мимо начальника миссии непримеченным!
Язев, кажется, вздохнул. В такую трудную для Доихары минуту высказал свое огорчение и тем столкнул Лоуренса-2 с его пьедестала, высокого, сооруженного усилиями стольких лет. Доихара почувствовал, что падает…
«Не поверили!» Он не подумал о майоре. Майор мог не поверить. Пусть! Не поверили там, в Хабаровске и в Москве Руки стали влажными. Холодная испарина выступила на ладонях, и Доихара провел ими по сухой ткани брюк, стараясь избавиться от раздражающего ощущения влаги.
– Высокого… Я должен поработать. Должен вспомнить.
Предательская влага не оставляла его рук, они стали еще мокрее, и холодок сковал пальцы. Доихара принялся перебирать ими, постукивая по коленям, как по клавишам. Ему сделалось страшно. Страшно, как в минуту ареста, когда перед ним открылась чернота бездны. Вечная чернота. Защититься от нее нельзя. Можно оттянуть мгновение, и только. Все эти месяцы приходилось заглядывать в бездну. Вначале редко, сейчас – все чаще и чаще. Изменившийся ритм стал пугать его: как бы ощущение падения не стало постоянным. Другие, сидящие рядом в камере, пытались принять эту необходимость, приучить себя к неизбежному. Он не мог. Ужас охватывал его при одной лишь мысли о конце.
Ему говорили, что он самурай, слуга императора, наконец, просто японец, долг которого принять смерть как дар неба. Напоминали об уходе из этого мира военного министра Анами, добровольном уходе. Он слушал и молчал. Будто бы соглашался. Но в глазах был протест, боль была. Не принимал смерти Доихара. И они, сидящие рядом, видели это.
Боль заставляла его искать выход, торопила. Кажется, он нашел просвет в глухом кольце: тайна «Большого Корреспондента». Широкий просвет, через него можно было вернуться в мир, тот прежний мир, который находился за стенами тюрьмы Сугамо и ежедневно заглядывал в решетчатые оконца арестантской машины.
Доихара уже шагнул в просвет. Так, во всяком случае, ему представилась встреча с советским контрразведчиком. И тут вдруг выход заслонил Сунгариец, этот сапожник в чине казачьего подъесаула. Заслонил своим бесформенным телом, да-да, бесформенным: не было в нем ничего определенного, ясного, запоминающегося. Безликое существо, тень какая-то. И как тень – нематериальна. Легенда, идея, мечта. Выдумка Доихары!
Вот чего он испугался.
Он встал грузный, измученный беседой. Последними минутами измученный, словно была проделана непосильная работа. Ей отдано все, даже вера в завтрашний день. А это ли не самое большое из того, что он имел и чем жил?
Пауза, которая дает возможность найти утерянное
Выдумка! Легенда!
Об этом тоже подумал Язев. В какую-то секунду, когда Лоуренс-2 растерянно смолк и стал искать в лабиринтах своей памяти приметы Сунгарийца, Язев испытал досаду: старый, опытный разведчик потерял то, что не имел права потерять. Не имел права. И если уж потерял, то не должен был идти сюда, на встречу с представителем советской контрразведки. Без примет, без фамилии, без каких-либо опознавательных деталей трудно, да и просто невозможно отыскать резидента. Располагая лишь общими сведениями о Большом Корреспонденте и Сунгарийце, в Благовещенске, Хабаровске и Москве не продвинутся ни на шаг. Условные обозначения, псевдонимы! А что за всем этим?
Пустота!
Доихара заполнить ее не в силах. Никто, видимо, не в силах восстановить прошлое.
Язев пытается.
Прежде всего начало.
Вот что история может предложить Язеву:
Документ 393
«26 июня с. г. на участке заставы Даурского погранотряда к пограничному знаку № 47 подъехали со стороны Маньчжурии две легковые машины, из которых вышло 6 чел., одетых в военную форму, 1 в штатском. Указанная группа пересекла границу, углубившись на территорию СССР на 500 метров…»
Документ 416
«22 декабря на советской территории, западнее г. Турий Рог, были задержаны два китайца шпиона, из которых один оказался командиром отделения 15-го полка 3-й пехотной бригады Маньчжоу-го Хан Минфа, а другой – жителем пограничного маньчжурского пос. Оренбай.
Оба показали, что выполняли приказания японского офицера – разведать местность восточнее горы Пропасть (на запад от Турьего Рога), а именно – состояние дорог, строительство казарм и расположение воинских частей. По делу производится строгое расследование».
Правда, 25 декабря 1934 г.
Документ 418
«27 декабря с. г. в 13 ч 40 мин японский самолет типа разведчик на высоте 600 м перелетел границу у отметки 450 (6 км южнее заставы Сиянхе, участок Градековского погранотряда). Взяв курс на северо-восток, самолет углубился на 12 км советской территории и, достигнув отметки 284, повернул на северо-запад. Самолет пересек границу в районе истока реки Большой Ключ и скрылся на территории Маньчжурии…»
Язев расставил факты в нужной ему последовательности, связал с тем пунктом, где впоследствии оказался Сунгариец и где он акклиматизировался. Сочетания не получалось. Если даже кто-то из военных 26 июня застрял на нашей территории, то, находясь под наблюдением, не смог бы далеко уйти. Притом все военные были японцами.
По той же причине не представляло интереса и сообщение «Правды» о двух шпионах. Допустим, было не двое, а трое лазутчиков, один не попал в поле зрения пограничного поста и скрылся на нашей территории. Задержанные рано или поздно сообщили бы о нем. А такого сообщения не последовало. Отпадал и третий факт. Самолет мог, безусловно, сбросить парашютиста. Но в зоне, примыкающей к границе, небо хорошо просматривается, да и высота в 600 метров малопригодна для выброски. К тому же за нарушителем следили и с заставы и с автомашины, которая шла по курсу самолета. Участок был тщательно прочесан.
Но вот четвертый документ заставил Язева призадуматься.
Документ 548
«С июня-июля чрезвычайно усилилась деятельность белоэмигрантов-фашистов в закордоне; создавались новые белобандитские формирования; под руководством и по заданию японских военных миссий белобандиты стали подбрасываться к границе; участились случаи их переброски на нашу территорию с диверсионными, разведывательными целями, в том числе крупной банды (Маслакова)…
Начальник Управления НКВД по Дальневосточному краю
комиссар государственной безопасности 1-го ранга Дерибас»
Не был ли Сунгариец причастен к белоэмигрантской фашистской организации в Маньчжурии, которая поставляла штабу Квантунской армии живой материал? Организация-то ведь поддерживалась и финансировалась японскими военными миссиями.
Лихорадочная работа мысли. Попытка сцепления фактов Доихара не говорил о причастности Сунгарийца к фашистской партии, но он вообще не упоминал о политических симпатиях или антипатиях своего резидента Он их просто не знал. Логически же Сунгариец мог оказаться среди харбинских нацистов, это естественно для казачьего подъесаула, заброшенного событиями в Маньчжурию и вынужденного служить японцам. Беляки-фашисты тоже служили оккупантам и тоже выполняли секретные задания второго отдела генштаба. Значит, связь логична. Сцепление возможно.
Особенно заинтересовал Язева пятый документ. Он не только подкреплял его предположения, но и открывал путь для разработки целой версии. Кажется, теперь становилась ясной картина появления Сунгарийца на левом берегу. Кто-то нарисовал ее беспристрастными четкими линиями.
«Формирование банды началось… в Харбине и проводилось фашистами под руководством Харбинской военной миссии. Глава РФП Радзаевский через своих начальников отделов и районов приступил к вербовке отдельных фашистов в Хайларе и на ст. Яблоня КВЖД из числа охранников лесной концессии
В июне формирование банды было закончено. Завербованные 35 чел. съехались в Харбин, где были размещены в двух общежитиях. Содержалась банда строго конспиративно.
В первых числах августа подготовка банды была закончена, и вечером 5 августа все бандиты были собраны в доме майора японской военной миссии Онаучи, куда явился Радзаевский с несколькими фашистами. Онаучи и главарь банды произвели перекличку. Радзаевский произнес напутственную речь. После этого банда была посажена на грузовые автомашины и отправлена на ст. Санкашу Лафа-Харбинской железной дороги. Здесь бандиты были пересажены в товарные вагоны, которые были затем закрыты и запломбированы Со станции поезд с бандой убыл в направлении Сахаляна (на границе против нашего Благовещенска).
В ночь на 8 августа на перегоне Боганцзы – Сахалян банду высадили из вагонов в степи и направили походным порядком к берегу Амура, куда она прибыла к 24 ч. 8 августа и была принята на борт японо-маньчжурской канонерской лодки. Бандитов поместили в трюм, запретив выходить на палубу. Утром 9 августа канонерская лодка в сопровождении двух японских бронекатеров двинулась вверх по Амуру.
…В целях конспирации и для связи с закордоном на случай, если кто-либо из бандитов останется на территории СССР, каждому бандиту были присвоены кличка и личный (порядковый) номер. Здесь же банда получила оружие, снаряжение и обмундирование. После этого банду с канонерской лодки пересадили на бронекатера и доставили в г. Мохэ, где на один из катеров сел начальник японской военной миссии, находящейся в этом городе. В 16 ч. 23 августа катера направились далее вверх по Амуру и в 23 ч. того же числа подошли к советскому берегу в районе устья реки Амазар, где банда и была высажена на наш берег. От Харбина и до места вьгсадки на нашу территорию ее сопровождали японцы: Судзуки, Ямада, Нака-сима и фашист Носов.
Банде Харбинской военной миссией и главой РФП Радзаевским были поставлены следующие задачи: выйти на железнодорожную линию и организовать крушения нескольких поездов с целью добыть документы для бандитов, получивших задание осесть в СССР; часть документов должны были отправить в Харбин; разрушить телеграфную и телефонную связь на линии железной дороги; фотографировать железнодорожные и оборонные объекты.
Кроме того, часть участников банды получили особые задания, должны были осесть на территории СССР с целью насаждения фашистских ячеек, организации вредительства, диверсий и для совершения террористических актов в отношении членов правительства и руководителей партии. Получившие особые задания были вооружены лучшими револьверами, им рекомендовалось вначале попасть в центральные районы СССР, ассимилироваться в советских условиях, а затем уже осесть в определенных местах…»
Кажется, это начало. Среди намеченных к оседанию в Хабаровском крае мог быть и амурский казак по кличке Сунгариец, тот самый подъесаул, что поразил Доихару своим ростом. Язев живо представил себе идущих по тайге беляков и среди них высокого статного подъесаула, одетого в суконную куртку, подбитую мехом: был сентябрь, а в Приамурье в это время уже прохладно, дуют северные ветры. Идут не тропой хоженой – как бы тонка ни была, пусть в нитку, берегись ее. Там, где прошел человек раз, пройдет и второй, и именно сейчас, когда беляки оседлали стежку. Глухоманью пробираются, стайкой, чтобы рассыпать след, не протоптать одну стезю. Семьдесят ног – шаг в шаг – легко выбьют траву, какая бы густая да высокая ни была. А потом по голой земле, по вмятинам кому надо пересчитает банду и отыщет без труда. Для собак так это просто указка – беги по тропе, как на привязи, не даст она сбиться, свернуть в сторону.
Давненько не хаживал по тайге подъесаул, с самого детства, небось тяжело воевать с разлапистыми елями: лезут колкими ветвями прямо в лицо, хлещут по рукам. Еще тяжелее одолевать бурелом: пока не раскидаешь сушь, не пропустит. Руки в ссадинах, смола жжет кожу, тело ноет от усталости. Передохнуть бы, да нельзя. Каждый час рассчитан. Продовольствия – в обрез. Кончится – околеешь. Тайга не накормит. Тут опытный охотник и тот не надеется на поживу, берет с собой что надо.
Нет, это не умозаключение Язева. Документ рассказывал о голоде, который настиг банду на девятый день похода. Слишком отклонились диверсанты от прямых дорог, слишком вытянули тропу. Завела она их в безлюдье. А безлюдье – это все равно что пустыня. Восемь человек отказались идти дальше – невмоготу. Пока еще есть силы, лучше вернуться назад. С ними, малодушными, Сунгарийца не было. Ему нельзя было возвращаться, не для того перебрался на левый берег. И он шел, усталый, голодный, через тайгу, мучаясь, проклиная все на свете и в том числе Доихару, пославшего его на гибель.
Здесь уже предположение Язева. Подъесаул мучился, конечно, испытывал, как и все, голод, с ног валился от усталости, но проклинать ему было некого. Сам выбрал тропу, по которой шел сейчас. Ни Веспа, ни Доихара не понуждали его к жертве. Да и можно ли принудить человека жить и работать за кордоном? Там страх бессилен, рука карающая не дотянется до отступника. Только интерес, только высокое вознаграждение способны удержать от нарушения клятвы. И еще долг. Ненависть, наконец. Все беляки жили надеждой на расплату с Советами за потерянное. Ненависть могла вести на левый берег и подъесаула.
И это – предположение. Одни предположения. Язев блуждал среди расставленных им же самим вешек, не зная, на какую ориентироваться. Чувство мести вряд ли руководило Сунгарийцем при решении вопроса о будущем. В Маньчжурию он попал почти мальчишкой, не способным оценивать события, происходившие на левом берегу. Не воевал. Чин достался ему от отца, по наследству вроде. Символический, так сказать, подъесаул. Да и все символическое. Ненависть отпадает.
Остается заинтересованность в высоком вознаграждении. Ради этого Сунгариец мог терпеть лишения.
Язеву пришла мысль: почему, собственно, Сунгариец должен терпеть лишения? Почему необходимо делить тяготы, павшие на банду, совершать преступления ради куска хлеба. Ему не надо было убивать стрелочника станции Амазар Верхотурова, грабить рабочих прииска Калтагай и жителей поселка на перегоне разъезд Потайка – разъезд Колокольный, ютиться в шалашах зимовья вблизи устья реки Ушман и потом отстреливаться от настигавшего банду отряда лейтенанта Галатина, спасать себя и своих дружков, ползти раненому по мокрой от дождя земле. Умирать. Да, умирать. Почти все диверсанты нашли свой конец на левом, чужом берегу. Не надо было.
Банда рассеялась, как только почувствовала опасность. Сунгариец мог оказаться в числе тех, кто таинственно исчез где-то между Сахаляном и устьем реки Амазар. Или еще где-то. Ведь группа при перекличке состояла из тридцати пяти человек, а 29 августа, в момент разделения, в ней оставалось всего тридцать два диверсанта: двадцать четыре плюс восемь. Вот где Сунгариец! Он и не блукал по тайге. Он шел своей дорогой, известной ему одному, и добрался до нужного пункта. На худой конец мог оторваться от группы при первом столкновении с пограничниками. Рассыпались диверсанты, каждый по собственному разумению решал задачу – как спастись. Решил ее и Сунгариец.
Решил! Если существовал вообще Сунгариец, резидент японской секретной службы…
Дело второе
Неожиданный свидетель
Пассажир с грузового катера
– Осенью 193… года, не то в октябре, не то в начале ноября, во всяком случае, было холодно, мы с полковником Янагитой отправились в порт, надев плащи с теплой подкладкой. Кажется, шел дождь, мелкий, почти невидимый, обычный в Приамурье. Янагита сказал, что в такую погоду удобно приземляться на берегу. Он не имел в виду самолет. Разговор шел о речном причале. Со стороны Благовещенска должен был подойти грузовой катер и высадить нужного нам человека.
Я не знал, что это за человек и почему он едет не на пассажирском, а на грузовом катере, но поскольку его появление определялось конспирацией, такой способ переправы казался вполне естественным.
Янагита был целиком занят предстоящей встречей. Втянув голову в высоко поднятый воротник плаща, он шагал размеренно по мокрому тротуару и сосредоточенно думал. Не о том, надо полагать, как вечером, в шесть тридцать по токийскому времени (мы всегда уславливались так со своими людьми – местное время игнорировалось), в международном отеле он будет разговаривать с «гостем» с левого берега. Встречи с агентами – я не сомневался – случались не раз, к ним давно привык Янагита. Его беспокоило другое – появление «гостя» на берегу. Полковник был уверен, что город наводнен русскими разведчиками и они обязательно зафиксируют визит нужного нам человека. Возможно, Янагита был прав. Без причины к нему не приходила тревога, а в это утро он проявлял нервозность и как-то подозрительно ко всему присматривался. Даже дорогу к причалам выбрал необычную – через военную площадь, где проходили муштровку маньчжурские солдаты. Это был крюк, и довольно большой, но он давал нам возможность войти в порт с тыла и застать врасплох наблюдателей.
На берегу мы оказались минут за двадцать до подхода катера. Амур был по всему плесу затянут серой пеленой дождя, и противоположный берег, хорошо просматривавшийся в ясную погоду, теперь исчез. Не был виден и катер, наверняка уже отошедший от Благовещенска. Глухо звучали басовитые сирены судов, вспыхивали прожектора пограничных дозоров.
У причала мы никого не встретили. Здесь были только грузчики-китайцы и таможенные чиновники. Полковник сказал:
– Это хорошо. Грузовой катер не возбудит любопытства, а если кто-то и решит следить, ему неловко будет появиться тут среди портовой обслуги.
Мы прошли мимо причала и остановились у скверика, рядом со штабом Маньчжурского гарнизона.
Катер выплыл из тумана, когда до берега осталось каких-нибудь сорок-пятьдесят метров. Он сигналил без конца, предупреждая о своем движении, и смолк лишь у самого причала. От катера приняли канаты, и его легко пришвартовали на спокойной воде – ветра не было, и волна почти не приплескивала. Это был советский катер – не помню, как он назывался, но по всему борту светлела надпись на русском языке, да и флаг на корме был красный.
Мы следили не столько за катером, сколько за берегом. Полковнику надо было точно установить, кто встречает грузовое судно. Я помогал ему, оглядывая подходы со стороны складов. Сам же он контролировал мост, соединяющий берег с улицей Ван-Юан-лу, точнее, с городом. Ничего подозрительного мы не обнаружили. К катеру приблизились лишь трое таможенников и поднялись на борт.
Янагита пояснил:
– С этой стороны, кажется, все в порядке. Не было бы только «хвоста» на самом катере.
Таможенники управились довольно быстро. Через полчаса примерно они покинули судно и следом за ними сошел на берег человек, которого мы ждали. Я видел его впервые и потому не мог определить, он ли это, но по выражению лица и какому-то настороженному взгляду Янагиты догадался: именно он. Еще в отеле полковник предупредил: «Будьте внимательны. Возможно, вам придется встретиться с ним еще раз без меня. Особых примет у «гостя» нет, фиксируйте облик!»
Примет особых действительно не было. «Гость» ничем не отличался от известных мне по Харбину и Дайрену русских эмигрантов. Позже, правда, я приметил кое-что, но в то утро это кое-что отсутствовало. Сразу взгляд отметил только одно – стройность и высокий рост «гостя». Стройность подчеркивалась темным пальто, перехваченным, как тогда было модно, поясом с большой пряжкой. Поднятый воротник закрывал затылок до самого кепи, надвинутого на лоб, но не слишком, а в меру, как это делают при дожде, скрывая чуточку глаза и вместе с тем не заслоняя дали. Ни чемодана, ни портфеля у «гостя» не было, в левой руке он держал кожаные перчатки, небрежно снятые только что: на берегу ему показалось не так-то холодно. А возможно, это был условный жест. Для Янагиты. Лично я не был предупрежден о деталях. Паролем мне показалась и папироса, раскуренная тут же. «Гость», прежде чем закурить, смял одну и бросил в урну. Это что-то означало. Опять-таки для Янагиты. Я был непосвященным.
Пока «гость» занимался папиросой и зажигалкой, я фиксировал его облик. Нас отделяли каких-нибудь пятьдесят метров. Прежде всего я установил, что «гость» блондин. Неяркий. Волосы почти пепельные, усы и бородка – тоже. Бородка не клинышком, а овальная, повторяющая линии строгого, чуть крупноватого подбородка. Лицо из-за этой бородки казалось удлиненным, да и на самом деле было вытянуто. Острый нос, некрупный, без горбинки, но и не вдавленный, а ровный, соединенный одной линией со лбом, делал профиль «гостя» четким. И был этот профиль характерным для амурских казаков. Во всяком случае, мне часто приходилось видеть такие лица. В нашей миссии работал переводчик, похожий на «гостя» с левого берега, только тот был шатен и не носил бородки. Для запоминания общая характеристика ничего не давала. Необходима была особенность сочетания линий. Даже одинаковые черты комбинируются на лице по-разному. Я принялся искать это своеобразие. Расстояние между нами сокращалось: «гость» шел к мосту, который начинался как раз у сквера, где мы стояли, но все же несколько десятков метров – интервал слишком большой для изучения внешности человека. К тому же условия для «поиска» были малоподходящими: пасмурная погода, кратковременность встречи. Я растерянно глянул на полковника: что делать? Он понял меня и направился по аллее сквера к каналу.
Нас отделяла от дороги цепь деревьев, уже облетевших, и живая изгородь – какие-то чахлые кустики, посаженные как попало. Символическая ширма. При желании ее можно было считать глухим забором. Так и сделал Янагита. Он смело шагал по аллее, предполагая, что нас со стороны дороги никто не видит, и тем более пассажир с грузового катера. Я следовал его примеру. Что еще оставалось мне делать в присутствии начальника? В конце концов ему лучше знать, видят нас или нет. Возможно, отсутствие маскировки его вовсе не беспокоило. Позже я убедился, что предположение мое не было ошибочным.
Мы проследовали по аллее до того места, где сквер оканчивается, и вышли на дорогу перед мостом. Здесь же оказался и пассажир катера. Он двигался нам навстречу под углом градусов в шестьдесят. Через минуту мы должны были встретиться и вместе взойти на мост. Свернуть некуда: слева и справа – канал, сзади – порт, Возвращаться никто не собирался, да и зачем.
Янагита делал вид, что увлечен разговором со мной и вовсе не интересуется каким-то прохожим. Получалось это у полковника довольно плохо. Он вообще не умел играть роль. Как и другим руководителям секретной службы, ему не приходилось самому проводить операции. Практическую разведывательную работу проводили мы – рядовые сотрудники. Янагита ограничивался указаниями. И когда вдруг обстановка требовала личного участия шефа в осуществлении акции, он проявлял полную беспомощность и вел себя как последний дилетант. Вот и сейчас попытка изобразить делового человека, решающего на улице какие-то вопросы со своим спутником, выглядела как сцена из плохо срепетированного спектакля. Вовлеченный в игру, я изо всех сил старался поддерживать партнера: кивал, разводил руками, улыбался…
Так бездарными актерами мы и предстали перед «гостем» с левого берега и дали возможность ему посмеяться над нами. Правда, внешне он не выразил ничего, что могло быть истолковано как осуждение, но в глазах его я приметил издевку. Черт возьми, он был насмешником, этот человек с бородкой!
Вот она деталь, нужная мне. Характер всегда проявляется в чем-то. В ту минуту настроение «гостя» запечатлелось в выражении глаз. Особый прищур. Полусмеженные веки создавали сумеречность какую-то, и в этой сумеречности становились приметными веселые, насмешливые огоньки. Возможно, они всегда там горели, но лишь в полумраке становились видимыми.
Я увидел их. Не знаю, коснулся ли свет полковника, почувствовал ли он насмешку прохожего. Вряд ли. Увлеченный своей ролью, старательно трудясь над решением непосильной для него задачи, Янагита не смотрел на пассажира с катера. Да и не надо было ему смотреть. Это возлагалось на меня.
Минута, отведенная на знакомство с прохожим, была израсходована полностью. Даже не минута, а какие-то секунды «Гость» находился против меня всего лишь мгновение, и взгляды наши встретились один раз. Большего мне не надо было. И большего не позволило время.
«Гость» свернул на мост и направился по улице Ван-Юан-лу к зимней таможне. Мы пошли следом, держась от «гостя» на некотором расстоянии. Впрочем, надобности в таком сопровождении не было: мы установили, что «гость» с левого берега прибыл один и один продолжает путешествовать по правому берегу. «Фотографию» я получил. Полковник подал знак, и за мостом мы свернули налево, к штабу пограничного поста. Янагита продолжал что-то говорить – роль словоохотливого дельца пришлась ему по вкусу, и он уже не хотел с ней расстаться. Лишь за штабом, на улице Да-Син-цзе, наступила наконец пауза, и полковник посмотрел на меня не как на компаньона по коммерции, а как на своего подчиненного.
– Запомнили? – спросил он.
– Так точно! – кивнул я.
– Понравился вам Сунгариец?
Впервые прозвучало имя «гостя», вернее, кличка. Мне следовало удивиться. Во-первых, Янагита не имел привычки посвящать в свои деловые секреты рядовых сотрудников, во-вторых, откровению не предшествовали никакие объяснения. Я выполнял скромную обязанность спутника Янагиты, сопровождал его, как сопровождает слуга своего господина. Но удивления своего я не выдал. Сделал вид, что знаю, о ком идет речь, и вопрос меня не озадачил. Задуматься действительно заставил. Нравится ли мне этот Сунгариец? С какой точки зрения? Как человек? Агент? Чей агент? Абстрактной позиции не могло быть, да и к чему она – мы разведчики.
Он все-таки агент. И наш агент, иначе ни о какой встрече в шесть тридцать не могло быть и речи. Следовательно, впечатление о пассажире с катера – это впечатление о тайном сотруднике японской военной миссии.
С такой позиции я и взглянул на него. Сунгариец мне не понравился. Не могу сразу объяснить, почему именно не понравился. Хорошо сложенный, красивый человек, наверное, красивый, если черты его лица правильные. Держится с достоинством. Весь короткий путь от причала до моста проделал удивительно просто, естественно, как если бы шел не по чужому, а по своему берегу, и шел не в первый раз. Допускаю, что подобные прогулки он уже совершал и достаточно хорошо знал город. Даже в этом случае поведение его было подкупающе безукоризненным. «Гость» чувствовал себя хозяином. Как это лучше объяснить? Хозяином не того места, по которому ступал, а хозяином положения. Не приспосабливался, пусть умело, даже талантливо к ситуации, а творил ее. Мы же с Янагитой были в ней чужими. Гостями, актерами на гастролях.
Но не потому мне не понравился Сунгариец. что жил в своей роли лучше нас – это меня как раз восхитило. Не понравился взгляд его. Красноречивый взгляд. Сунгариец, так я полагаю, все понимал, верно оценивал, разгадывал суть. И насмехался над тем, что раскрывалось перед ним. Люди подобного склада не способны внутренне подчиняться тем, кому служат. Они всегда независимы и всегда ненадежны. Лично я не принял бы такого человека под свое начало. Он видит лучше меня, легко понимает то, что я лишь пытаюсь понять. Самое главное, читает мои мысли. Психолог. Отличный психолог.