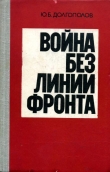Текст книги "В шесть тридцать по токийскому времени"
Автор книги: Эд. Арбенов
Соавторы: Моисей Писманик
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 20 страниц)
– Амлето Веспа?
– Да.
– Этот китаец итальянского происхождения причастен к операции «Большой Корреспондент»?
– В какой-то степени… – Доихара подосадовал на себя за оброненное имя. Веспа хорошо известен в Европе и как секретный агент Японии вызывал любопытство,
– Он вербовал Сунгарийца?
– Не то чтобы вербовал, – скривил губы Доихара, – нашел где-то… Кажется, в Сахаляне, среди эмигрантов.
– А не в Харбине? Там вы встретили Веспу.
Доихара отшатнулся – такой неожиданной была справка Язева. Майор вроде бы уличал Лоуренса-2, во всяком случае, приближал к тому, от чего тот хотел отойти.
– Почему там?! Из чего вы заключили, что я встретил Веспу в Харбине?
– Так пишет сам Веспа.
– Ах, да… Я упустил из виду стряпню моего бывшего агента относительно его успехов в Маньчжурии. Он не всегда был точен, пожалуй, всегда неточен и, главное, неискренен.
– Нам показались его характеристики почти что фотографиями.
– Кроме самого Веспы, – с раздражением заметил Доихара. – Себя он изобразил рыцарем разведки.
Язев вспомнил книгу Веспы, которая в свое время наделала много шума в Европе да и в Америке, попытался представить себе страницы, где шла речь о самом авторе. Признался:
– Он обходит себя.
– Это так кажется, – загорелся Доихара. – Явных откровений нет, зато, осуждая японскую секретную службу, Веспа отстраняет собственную персону от всего, что могло казаться европейцам коварным и жестоким. Он льет слезы по поводу судьбы китайских агентов, лишенных возможности делать свое дело в присутствии японцев, в то же время сам Веспа был китайским агентом, и именно мы, японцы, привлекли его к секретной работе, и именно он создал для нас агентурную сеть среди белоэмигрантов.
Свидетельство первое
Харбин, 14 февраля 1932 года
«В штаб-квартире военной миссии после пятиминутного ожидания я был введен в кабинет полковника Доихары. Доихару я, знал уже давно. Он всегда был со мной подчеркнуто любезен. Иностранные журналисты часто называют его «японским Лоуренсом». Я думаю, однако, что если бы его сестра не была наложницей японского наследника, то большая часть «успехов» Доихары осталась бы лишь плодом его собственной фантазии.
Он встретил меня улыбкой, не то саркастической, не то издевательской.
– Итак, мистер Веспа, – проговорил он по-русски, пронизывая меня взглядом, – мы друг друга знаем, не так ли? Не припомните ли вы, где мы с вами встречались в последний раз?
– Если не ошибаюсь, это было в Тяньцзине?
– Совершенно верно. У вас хорошая память. Мне говорили, что вам никогда не приходится что-либо объяснять дважды. Приступим к делу… В прошлом японские военные власти не раз предлагали вам оставить китайскую службу и перейти к нам. Вы постоянно отказывались, но теперь положение вещей изменилось. Я не приглашаю вас, я заявляю: отныне вы будете работать на японцев! Я знаю, что, если вы захотите, вы сможете сделать многое и сделаете это хорошо. Если будет сделано мало и плохо, это будет значить, что вы работаете с неохотой. Так вот, – добавил он медленно и угрожающе, – я предпочитаю расстреливать тех, кто проявляет к нам недружелюбие. – Затем уже более спокойным тоном он продолжал: – Идет война, мистер Веспа. То, что официально она не объявлена, никакого значения не имеет. Всякую вашу попытку к бегству мы будем расценивать как дезертирство, а дезертирство мы караем смертной казнью. Разумеется, при ваших обширных дружеских связях в Маньчжурии и в Монголии вам ничего не стоило бы перебраться в Китай. Но вы не один, у вас семья. А для семьи, состоящей из пятерых человек, пересечь огромные степи Маньчжурии и Монголии – дело нелегкое. Вы меня поняли? А потому советую вам, взвесив все сказанное мною, взяться за дело. Жалеть вам не придется.
Я выразил удивление по поводу его тона и заявил, что хотя у меня нет особого желания работать на японскую разведку, так как я сберег немного денег и приобрел паи в нескольких театрах, все же, если мне предложат достаточное вознаграждение и не будут разговаривать со мной тоном угрозы, я могу обдумать такое предложение.
Доихара нахмурился:
– Я не делаю вам предложений, мистер Веспа, я уже объяснил, что отдаю вам приказание. Полагаю, что нет нужды останавливаться на этом. Завтра, в 11 часов, вы должны быть у меня: я познакомлю вас с начальником японской разведывательной службы в Маньчжурии. Уверен, что вы с ним прекрасно сойдетесь и вообще привыкнете к японцам. Будьте осторожны, не сделайте опрометчивого шага. Не забывайте о том, что произошло с вашим покойным другом Суайнхартом. Ведь вы помните? Он утонул, мистер Веспа. Не так ли?
Суайнхарт был американским гражданином, служившим китайским властям в Маньчжурии. Во время поездки в Японию он был убит японцами, а труп выброшен в море. Токийские газеты сообщили, будто Суайнхарт утонул случайно.
На следующий день, в 11 часов, я явился в назначенное Доихарой место…»
– Веспу принудили к сотрудничеству, – заметил Язев.
– А кто добровольно берет на себя трудную и опасную обязанность тайного агента? – в свою очередь отметил Доихара. – При разоблачении это смерть.
– При отказе от обязанностей – тоже смерть.
– Да, – определенно и довольно твердо ответил Доихара.
Язеву захотелось порассуждать о принципах мобилизации чужих усилий.
– Страх – единственный стимул. Надежно ли это?
– Страх и заинтересованность в хорошем вознаграждении, – добавил Доихара. – На этом держится мир.
– Свою японскую агентуру вы подбирали по другому принципу. Материальная заинтересованность не играла почти никакой роли.
– Пожалуй, – опять не сразу ответил Доихара. Прежде подумал, взвесил одному лишь ему известное и только тогда согласился с доводом Язева. – Но страх играл ту же роль, что и при вербовке иностранного агента.
– Страх?
– Именно страх. Ну и потом воспитание. Мы со школьной скамьи готовим юношу к самопожертвованию, к служению долгу – Доихара посмотрел на Язева как-то снисходительно, будто вдруг понял, как высок он, «японский Лоуренс», и не столько он, сколько страна, родившая его и тысячи, тысячи других солдат невидимой армии.
Доихара не сказал о тайном обществе «Гэнъёся» («Черный океан»), которое поставляло шпионов и диверсантов второму отделу генштаба. Опытные торговцы душами следили за молодыми японцами, заносили в свои карточки все, что характеризовало каждого, и, накопив нужное количество «жизненного» материала, представляли его совету общества для вынесения решения: годен или не годен кандидат к вступлению в ряды «Черного океана». И когда совет произносил «да», подопечный автоматически вводился в общество. Его приглашали на заседание совета и объявляли о выпавшем на его долю счастье служить великой цели. Конечно, он должен был дать согласие стать солдатом тайной армии, его не принуждали к жертве. Но отказ мог рассердить божество, покровительствующее обществу, и неизвестно было, как оно поступит с неблагодарным избранником. Туманное, выраженное высоким стилем предупреждение совета могло получить довольно конкретное воплощение в виде ножа, воткнутого между лопатками, или яда, всыпанного в чашку с чаем. Поэтому «нет» исключалось, в лучшем случае он вымаливал время на обдумывание своего будущего шага. Советоваться ни с кем не разрешалось, даже с семьей. Он мог лишь проститься с близкими, и то мысленно. Исчезновение из дома происходило внезапно. Человек растворялся, как «утренний туман при восходе солнца».
Перед «путешествием» избранный в присутствии членов совета произносил собственный приговор:
«Клянусь богиней Солнца, нашим священным императором, который является высшим священнослужителем великого храма Исэ, моими предками, священной горой Фудзияма, всеми реками и морями, всеми штормами и наводнениями, что с настоящей минуты я посвящаю себя службе императору и моей родине и не ищу в ней личной выгоды, кроме того блаженства, которое ожидает меня на небесах…»
Рука избранного была поднята и как бы символизировала решимость отдать себя во власть небесных сил.
«..Я торжественно клянусь, что никогда не разглашу ни одному живому человеку того, чему общество научит меня или покажет мне, того, что я узнаю или обнаружу в любом месте, куда буду послан или где окажусь. Исключение из этого будут составлять мои начальники, которым я обязан беспрекословно повиноваться, даже тогда, когда они прикажут мне убить себя. Если я нарушу эту клятву, пусть откажутся от меня мои предки и пусть я вечно буду гореть в аду!»
Не мог сказать Доихара о «Черном океане» потому, что это была не личная его тайна, и еще потому, что сам он когда-то давал клятву богине Солнца. Нарушение ее, как известно, вело в ад, который не рисовался грешникам чайным домиком в Симбаси, где глаза услаждали грациозные движения гейш, а слух – душевная мелодия кото.
– Национальная черта, так сказать, – обобщил мысль собеседника Язев.
– Можно назвать это национальной чертой, – кивнул Доихара. Он еще пребывал в блаженном состоянии избранного, когда все вокруг существует лишь для того, чтобы подчеркнуть его превосходство. Взгляд Доихары был надменен, губы, жестко очерченные, втянуты и оттого казались мертвыми. «Я из иного мира, – говорил своим видом Доихара. – Мы – разные люди, если считать меня только человеком…»
Поднимался ли он в мыслях до такой высоты, которая читалась в его внешнем облике, или это было лишь обличье бутафорское, приобретенное не по особенно дорогой цене. В среде военных многие считали Доихару выскочкой с довольно заурядными способностями. Именно так характеризовал Лоуренса-2 Комуцубара Юкио, один из видных разведчиков Дальнего Востока, сталкивавшийся не раз с Доихарой Кендзи при выполнении заданий второго отдела генштаба. Наоборот, генерал Нанао, стоявший у истоков карьеры Доихары, называл его талантливым разведчиком, яркой звездой на фоне секретной японской агентуры двадцатых годов. Являясь советником Чжан Цзолина, генерал Нанао никак не мог обойтись без своего адъютанта, полковника Доихары при осуществлении той акции, которая решила судьбу Северного Китая и открыла дорогу японской армии на континент. «Он умел не только выдвигать удивительные планы, но и блестяще их осуществлять, – говорил Нанао. – И планы были до того смелыми, что мы порой испытывали растерянность и даже тревогу».
Возможно, Нанао, подчеркивая роль адъютанта в разработке и осуществлении планов диверсий, тем самым как бы отводил от себя обвинение в совершении террористических актов на Дальнем Востоке, которое в свое время предъявляла да и сейчас предъявляет мировая общественность японской военщине. Это, мол, все смелый и изобретательный Доихара. Это его инициатива, его творчество. Мы тут ни при чем! Так позже отвечал и японский генштаб на уведомления и протесты Советского правительства по поводу провокаций на границе. «Нашему командованию ничего не известно…» Нанао, конечно, было все известно, но инициатива вроде бы исходила не от него. «Слишком самостоятелен, слишком независим Доихара. Что я мог поделать с ним!» Впрочем, это домысел.
Ни Комуцубара, ни Нанао, ни многочисленные авторы повествований о «героях» японской секретной службы, в том числе и Амлето Веспа, не дают точного портрета Доихары. Каждый ретуширует его по своему вкусу и в соответствии со своими целями. Когда начальник японской разведывательной службы в Маньчжурии сказал Веспе: «С тех пор как европейцы назвали его (Доихару) «японским Лоуренсом», он стал высокомерен и хвастлив», он хотел только подчеркнуть новую черту в характере Доихары, но не развенчать его как разведчика. Правда, Лоуренсом он его не считал. «Я, ни минуты не колеблясь, могу сказать, что он меньше всего похож на Лоуренса, – заметил шеф секретной службы. – Разумеется, никто не станет отрицать, что в ряде случаев он добился определенных успехов». Об успехах говорил постоянно близкий друг и почитатель Доихары военный атташе в Берлине Хироси Осима. Он называл Доихару разведчиком экстра-класса, современным Вильгельмом Штибером, а не Лоуренсом.
Хироси Осима видел свой идеал только в немецком обличье, он был, как выражались при дворе микадо, больше нацистом, чем японцем. Сама Япония представлялась ему третьим рейхом, одетым в кимоно, а Токио – расцвеченным фонариками Берлином. В 1936 году его усилиями осуществился сговор с нацистами и стало торопливо расти здание тройственного союза. Генерал Хироси Осима своими маленькими, но старательными руками помогал ковать пресловутую ось Рим – Берлин – Токио. В акции против Чжан Цзолина он увидел стиль чернорубашечников и не отказал себе в удовольствии отметить это. «Старая Европа негодует, и что же? – менторски заключил он. – Мы не можем действовать старыми методами, они малоэффективны. Бояться выстрелов и крови, значит, бояться смелых и решительных шагов. А нам нужны решительные шаги в Азии!»
Хироси Осима мог бы сравнить Доихару с Отто Скорцени, с этим любимцем бесноватого фюрера, но тогда еще для мира и для самого Хироси не существовал полулегендарный «человек со шрамом», на крыльях планера вынесший из альпийской тюрьмы насмерть перепуганного дуче. Позже такое сравнение он сделал бы, это соответствовало духу японского нациста, но время и события избавили Хироси от рискованных сопоставлений. К ним прибегли другие много лет спустя и не на родине Доихары, а далеко за океаном.
Все эти противоречивые мнения никак не открывали Доихару и тем более не давали возможности решить вопрос: поднимался он в мыслях до такой высоты, которая чудилась в его внешнем облике? «Я – из иного мира!» – он мог так думать и имел на это какое-то право. Легенда о «японском Лоуренсе» создана на биографии Доихары, а не другого разведчика. Ямагути, например, вцепившегося мертвой хваткой в морское министерство Соединенных Штатов в 1934 году, или главу японской шпионской сети там же в 1938 году – секретаря посольства Тэрасаки. Или Хата Хикосабуро, осуществившего ряд смелых акций в Маньчжурии перед второй мировой войной, наконец, Канда Масатона, начальника второго отделения генштаба Японии, причастного к провокациям, решившим судьбу Северного Китая, и уже названного нами Комуцубара Юкио, чье имя хорошо известно на Дальнем Востоке. Другие не получили права называться «японскими Лоуренсами», Штиберами, Скорцени. Даже если считать, что сам Доихара складывал слова легенды, то не из одних же слов она состояла? Вокруг чего-то плелся этот словесный плющ, на что-то нанизывался? И на что-то значительное, для японской разведки хотя бы, для генштаба Японии тех времен.
Доихара оказывался почти всегда у истоков главнейших событий тридцатых годов на Дальнем Востоке. Талантливо или не талантливо играл он свою роль, об этом можно говорить, оценивая события, но он играл ее. Не вычеркнешь Доихару из перечня действующих лиц в Мукдене, Тяньцзине, Харбине. Теперь уже – в Харбине, если принять за факт операцию «Большой Корреспондент», открытую Доихарой советской контрразведке. Генеральную операцию, если можно так выразиться. Она в течение почти десятилетия питала секретную службу Японии данными о советском Дальнем Востоке, о боевой готовности Особой Дальневосточной армии. На основе этих данных строилась стратегия и тактика японского генштаба, формировалась и дислоцировалась самая многочисленная и самая агрессивная Квантунская армия. К разработке и осуществлению акции «Большой Корреспондент» были причастны многие сотрудники второго отдела, весь разведцентр Маньчжурии какое-то время занимался «Большим Корреспондентом». Но первый ход в игре был сделан Лоуренсом-2. Как же исключить после этого Доихару из списка главных действующих лиц японской секретной службы и согласиться с Комуцубарой Юкио, что это просто выскочка с заурядными способностями, или признать вывод Амлето Веспы, будто во взлете Доихары повинна лишь сестра его, оказавшаяся наложницей японского наследника, без которой «большая часть «успехов» Доихары осталась бы лишь плодом его собственной фантазии»?
Доихара был крупным японским разведчиком и, главное, типичным японским разведчиком, если иметь в виду характерные черты, культивируемые секретной службой Японии тридцатых годов. Пожалуй, он имел право требовать к себе внимания и поднимать высоко голову, когда был окружен почитателями. Сама по себе голова его не возвышалась в силу элементарных положений физики – Доихара был среднего роста, поэтому он не любил стоять рядом с подобными же. Держал их на дистанции. Зато грузная фигура его легко выделялась среди щуплых и низеньких, как правило, японских офицеров, и Доихара казался высоким, солидным, производящим впечатление. Лоуренс-2 учитывал это.
Низкий, басовитый голос его звучал повелительно, понуждающая нотка улавливалась в каждом слове. Он не терпел возражений и не умел выслушивать чужие доводы. То, что было им решено, не менялось и не корректировалось, оно осуществлялось, и осуществлялось настойчиво, ломая преграды, подавляя сопротивление.
Во втором отделе знали характер Доихары и не мешали ему. Даже когда действия Лоуренса-2 грозили неприятностями для министерства иностранных дел и даже для самого правительства в целом, операции его не приостанавливались. Некоторое смущение и порой замешательство испытывали и в штабе и в кабинете министров: уж слишком громкий резонанс получали акции Доихары, однако ему никогда не ставилось это в вину. Резкие и торопливые повороты нужны были генеральному штабу – сами генералы торопились с выполнением планов создания великой Азии. Как модно было говорить тогда в воинственной Японии: «Не опоздать на автобус!» Не опоздать бы!
Доихара не опаздывал. Удивительно вовремя звучали выстрелы, взрывались поезда, менялись главы правительств, воздвигались троны, создавались новые государства. Вовремя! Может быть, в этом и секрет славы Доихары Кендзи.
А как с «Большим Корреспондентом»? Не опоздал ли Доихара или не слишком ли рано осуществил эту акцию? «Интенсивный шпионаж должен предшествовать интенсивному вооружению для подготовки к войне» – так, по выражению одного из теоретиков разведки, устанавливается время активных разведывательных акций агрессора. Японский генералитет готовился к большой войне на континенте. Первая фаза была завершена вводом войск в Северный Китай, вторая завершалась – возникла империя Маньчжоу-го и появился плацдарм на правом берегу Амура. На очереди третья фаза – удар по советскому Дальнему Востоку. Планировался тотальный шпионаж. Значит, время для большой разведывательной акции созрело. Доихара, как всегда, поспел к началу событий. Чутье не изменило ему.
Он обычно действовал на освоенной территории – освоенной японскими войсками, или на территории, находящейся под их контролем. В худшем случае – в вакууме, где местное правительство уже не имело силы для поддержания порядка и власть фактически отсутствовала. Тут Доихара ходил вооруженный до зубов и в сопровождении телохранителей. Иногда ему, как, например, в Тяньцзине, приходилось прибегать к фарсу с переодеванием. Правда, это мало помогало Лоуренсу-2, его всегда узнавали, и едва приземлялся самолет или пришвартовывался катер со странным пассажиром, как газеты поднимали шум: «В городе Доихара Кендзи! Положение критическое».
Он был вестником перемен, и перемены наступали сразу – Доихара не отличался терпеливостью. Небо заволакивали тучи, словно их гнал ветер, и начиналась буря. В этом Доихара напоминал настоящего Лоуренса, Томаса Эдуарда. Появление «некоронованного короля» всегда приносило перемены на Востоке. Его, как и Доихару, легко узнавали, хотя на нем был то тюрбан бедуина, то цветастая шаль цыганки, то ряса буддийского монаха. Его разоблачали пресса, контрразведка. С ним начинали борьбу дипломаты. Чего стоит знаменитый протест правительства Афганистана с требованием отозвать Лоуренса из пограничных районов Индии! И даже отозванный, он делал свое дело, вернее, дело, начатое им, завершалось нужным результатом. То самое правительство Афганистана, которое послало ноту протеста Англии, было уже обречено. Понадобились лишь дни, чтобы оно пало.
Правда, Доихару не отзывали, протесты были, но безрезультатные, он доводил до конца начатое. Только удостоверившись в удачном завершении операции, Лоуренс-2 покидал место действия. Как говорили, придавив ногой пепел. Пепел был горяч, всегда горяч. Даже вился дымок. Не случайно пресса Запада легко узнавала о содеянном. Начиналась кампания посрамления японской секретной службы.
Доставалось всегда генеральному штабу или кабинету министров. Доихара исчезал. Неторопливо, даже слишком неторопливо. Чего ему было, бояться на территории, контролируемой японскими войсками, или в вакууме? Исчезновение, увы, не мешало западной и китайской прессе точно определить виновника событий, и имя Доихары не сходило с газетных полос.
Операция «Большой Корреспондент», кажется, первая операция Доихары, не получившая огласки. О ней не узнали журналисты, тайна не коснулась ушей досужих репортеров. Наверное, потому, что проводил ее Лоуренс-2 за пределами японских владений и документы, связанные с ней, хранились в папке с грифом «кио ку мицу» (совершенно секретно). Надпись выводилась ярко-красными чернилами или была оттиснута такого же цвета типографской краской. Да и не только папка. На каждом документе горели эти предостерегающие слова: «Совершенно секретно!» Даже теперь, когда смотришь на них как на свидетельство прошлого, ушедшего навсегда и потому потерявшего свое значение, понимаешь, какую робость испытывали перед этим «кио ку мицу». Прикосновение чужой руки к бумаге с подобным грифом было связано с риском. Чужой интерес расценивался кемпейтай – японской контрразведкой как проявление недобрых чувств к Стране восходящего солнца. «Я предпочитаю расстреливать тех, кто проявляет к нам недружелюбие», – говорил Доихара.
Сейфы надежно хранили тайну. Посторонние к ней не прикасались, посвященные молчали, связанные клятвой. Круг посвященных постепенно сужался: кого-то уносило безжалостное время, кто-то падал на дорогах войны, кого-то убирали… Последнее было непонятным. Непонятным опять-таки для непосвященных. Посвященные знали, почему это делается. Генерал-лейтенант Янагита, например, знал. И, убирая Маратова, руководствовался определенной целью. Не знал Доихара. Удивительнее всего, что не знал именно он, планировавший и осуществивший операцию.
– Национальная черта… – повторил Язев почему-то раздумчиво и несколько иронически. – Однако для операции «Большой Корреспондент» вы прибегли к услугам иностранцев, в частности к Веспе и Сунгарийцу. Последний, как я понял, был русским эмигрантом из амурских казаков.
– Выбор диктовался условиями, – не снижая торжественности и нисколько не ставя под сомнение сказанное прежде о японской разведке, пояснил Доихара. – Работать Сунгарийцу приходилось на советской территории. Этими соображениями руководствовался и Веспа. Белую эмиграцию он знал отлично.
– Но ведь прежде ваша секретная служба имела резидентов на левом берегу из числа японцев. Помните Абэ Чута?
Доихара с явным недоверием глянул на Язева. Ему почудился подвох в словах собеседника.
– Кто такой Абэ Чута?
– В вашу бытность начальником Харбинской военной миссии он выполнял обязанности вице-консула Маньчжоу-го в Благовещенске. Правда, под вымышленной фамилией.
– Он был вице-консулом? – уточнил Доихара.
– Он был японским резидентом.
– И советская контрразведка это знала?
– Узнала… Мы напали на след агентуры, а агентура привела к резиденту.
Недоверие во взгляде Доихары сменилось досадой. Сообщение майора разрушало горделивое здание, воздвигнутое только что в честь японской разведки.
– Его предали агенты – русские или корейцы, – попытался отвести обвинение Лоуренс-2.
– Он выдал себя грубой работой, – дал справку Язев.
Это касалось уже самого фундамента: камни вынимались прямо из-под стен.
– Он не был разведчиком, – заслонился Доихара и тем самым заслонил секретную службу.
Язев мягко, даже чуточку извиняясь, улыбнулся:
– Абэ Чута – разведчик, прошедший специальную школу, долго готовившийся к работе в России. Он знал в совершенстве русский язык, а это нелегкое приобретение, вы должны согласиться со мной.
– Да, – вздохнул Доихара.
Ему самому пришлось потрудиться несколько лет, прежде чем стали выговариваться правильно русские слова. Лоуренс-2 специализировался как зарубежный агент с прицелом на советский Дальний Восток. Работа в Китае была лишь стажировкой будущего резидента на левобережном Амуре. Время, однако, изменило планы японской секретной службы – Доихара застрял в Маньчжурии.
– Провал Абэ Чута и других резидентов, – продолжал мысль Язев, – вынудил вас обратиться к помощи иностранцев
– Нет-нет! – отрубил Доихара. – Я ничего на знал о вице-консуле и его провале, как вы называете случай с Абэ Чута. Мы руководствовались совсем иными мотивами. Нам нужен был информатор из самого центра, а проникнуть в центр, не вызывая подозрений, мог только русский, и не просто русский, но хорошо знающий Приамурье, имеющий связи с местными жителями. Им оказался Сунгариец.
– Белоэмигрант?
– Белоэмигрант – это общо. Амурский казачий офицер, – дал свое определение Доихара.
– И вы считали это достоинствами, вполне подходящими для человека, собирающегося проникнуть в штаб Дальневосточной армии?
Доихара скептически улыбнулся: сомнения майора показались ему наивными. Чересчур наивными. За кого он принимает руководителей японской секретной службы?!
– На том берегу белый офицер превращался в коммерсанта, – азбучно пояснил Лоуренс-2. – Версия разрабатывалась специалистами, хорошо знающими обстановку в тогдашнем Благовещенске…
Теперь мог улыбнуться Язев, и не скептически, а откровенно насмешливо.
– Версия не гарантирует возможности, она дает лишь право, причем формальное, на легализацию агента. Не любоваться же Амуром посылали вы Сунгарийца? Он должен был пробиться в центр, а центр слишком далек от торговых дел, которыми занимался резидент.
Грузное тело Доихары качнулось, он словно бы отстранился, чтобы глянуть на Язева со стороны: так ли в самом деле наивен этот контрразведчик, не лукавит ли, не прикидывается ли простачком? Или действительно простак, не разбирается в самых элементарных вещах? Неужели на континенте так плохо готовят кадры секретной службы? Ему стало как-то неловко за своего собеседника.
– Вы полагаете, что резидент должен быть лично знаком с командующим армией и даже участвовать вместе с ним в боях? – кольнул собеседника иронией Лоуренс-2. – Разведка знает резидентов, выступавших в качестве официантов, полотеров и даже содержателей публичных домов.
– Да, но знающих нравы и обычаи той среды, в которой вращаются, органически связанных с ней. Белогвардейский офицер, почти двадцать лет проведший за границей, оторванный от родины, – это инородное тело на левом берегу.
Доихара подумал: «Пожалуй, он не так уж наивен, но все же примитивен. Мысль его шаблонна».
– Существует способность к ориентации, фантазия, дарование, если хотите, – сказал Доихара – он решил немного просветить контрразведчика. – Этими качествами обладал Сунгариец… Между прочим, он был сапожник,
Следовало ахнуть, развести в удивлении руками, на крайний случай поднять брови. Ни того, ни другого Язев не сделал. Справка Доихары не поразила его, хотя, честно говоря, она прозвучала неожиданно.
– Стал сапожником? – заменил слово Язев и тем самым выявил суть. – Офицеры тоже хотят есть. Эмигрантов не держат на даровых хлебах даже в Париже, а о Харбине и говорить не приходится. Там довольно жестокие законы существования.
– Не мы их ввели, – пресек возможное обвинение в адрес японцев Доихара. Просто пресек, как это делается в официальных опровержениях. – Китайцы не обещали армии Семенова райские сады на правом берегу Амура. Их нет там. Пустыня Гоби. – Даихара критически взглянул в прошлое, и оно показалось ему разумным, даже мудрым в какой-то степени. – Хорошо обеспеченный эмигрант быстро стачивает зубы на обильных ужинах. Известно ведь, что вечно голодный волк сохраняет клыки острыми.
Уже не китайскую, а собственную точку зрения высказывал Доихара. Это было кредо селекционера, который культивирует определенную породу. Выращивать ее начали еще задолго до него, он принял дело и создал идеальный по его представлениям человеческий материал для секретной службы: голодное, острозубое, готовое к прыжку существо.
– Сунгариец был голоден? – Язеву очень хотелось обнаружить изъян в этой хорошо скованной цепи логических умозаключений Лоуренса-2. И не только умозаключений. Существовала система, реально действующая система, и ни одно звено в ней не отказывало, не выпадало…
– Голоден… Не в обычном понимании, естественно. Сапожное дело приносило ему доход, приличный доход. Заказчиком Сунгарийца, как говорил мне Веспа, был даже Чжан Цзолин.
На этом имени Доихара вдруг споткнулся, неожиданно для себя и для Язева тоже. Больше – для Язева: майор в то мгновение никак не соединил фамилию диктатора с Лоуренсом-2. Это была только фамилия, знаменитая, конечно, но всего лишь фамилия, пример, подтверждавший особые успехи Сунгарийца в сапожном деле. И только. Но Доихаре почудилось, что соединение произошло. Он осекся и выдал себя и свои опасения. На какую-то долю секунды в глазах Язева мелькнуло недоумение. И тут же сработала память. Он поставил рядом Доихару и Чжан Цзолина. Лоуренс-2 убил маньчжурского диктатора! Убил, и это знали все.
Доихара заторопился:
– Веспа тоже носил сапоги, сшитые Сунгарийцем…
– На фотографии он в них? – спросил Язев, не глядя на Лоуренса-2 и тем избавляя его от необходимости скрывать растерянность.
Доихара, кажется, попытался вспомнить страничку из «Секретного агента Японии», где изображен этот итальянец. Именно попытался. Ему вовсе не нужно было подтверждение чужой догадки, он ухватился за возможность сыграть роль занятого мыслью человека. Доихара широко распахнул глаза, тяжесть, всегда таившаяся в них, будто истаяла, открылась какая-то прозрачная глубина, бесцветная, ничего не говорившая, мертвая будто. Язеву показалось, что в пустоте трудно отыскать прошлое, и Доихара напрасно пытается это сделать… А Доихара не искал. Он играл в поиск. Ответ был готов еще в ту секунду, когда прозвучал вопрос. Лоуренс-2 отходил от глупой кочки, о которую споткнулся, назвав имя Чжан Цзолина.
– В них… Такие голенища кроил один Сунгариец. Особый силуэт. Бутылочный…
Подробность примечательная. Ее мог зафиксировать лишь требовательный к проявлению моды глаз. Был ли таким глаз Доихары? Существовала ли в самом разведчике потребность видеть причудливую линию, ощущать игру красок? Или здесь профессиональное умение примечать деталь, чувствовать конкретность, складывать из приметного, особенного образ и запечатлевать его? Что-то схожее с дарованием художника. Если так, то Доихара носил в себе портреты людей, чем-то поразивших его. Сунгариец должен был попасть в незримую папку с эскизами. Не слишком заурядная личность, надо полагать. Рядовому агенту такую роль не поручили бы. Сделав такой вывод, Язев решил тут же проверить способности Доихары.