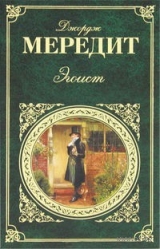
Текст книги "Эгоист"
Автор книги: Джордж Мередит
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 34 (всего у книги 47 страниц)
Глава тридцать восьмая,
в которой мы подходим к сердцевине эгоизма
Они встретились. Постояв с ними минуту, Вернон отошел.
– Нашли Кросджея? – спросил Уилоби.
– Нет. Но я хочу повторить свою просьбу: простите его! Бедняга ведь сказал неправду из-за мальчишеского представления о рыцарской чести.
– Рыцарская честь, которая начинается со лжи, приводит к тому, что подобный «рыцарь» становится героем известного толка, столь милого дамскому сердцу и столь распространенного в свете, – героем, который подчас кончает скамьей подсудимых.
Он всегда умел заставить ее умолкнуть: она терялась и не знала, как отвечать на подобные тирады.
– Итак, – сказал он, – вы сделали миссис Маунтстюарт своей наперсницей.
– Да.
– Вот ваш кошелек.
– Благодарю вас.
– Профессору Круклину удалось познакомить доктора Мидлтона с вашим неосуществленным намерением. Это, по всей видимости, ваш железнодорожный билет в складке кошелька. На станции профессора Круклина заверили, будто вы взяли билет до Лондона и не нуждаетесь больше в коляске.
– Это правда. И я жалею об этой глупости.
– А сейчас вы уютно поболтали с Верноном и, надо полагать, вывернули меня наизнанку?
– Мы о вас не говорили. Я понимаю, что вы имеете в виду, но он бы никогда не пошел на такое.
– Да, он славный малый, у него есть понятие о чести, пусть и несколько старомодное. И притом он чрезвычайно скрытен. Кстати, он ничего вам не рассказывал о своей жене?
Кошелек выпал из Клариных рук, и она наклонилась, чтобы его поднять.
– Я ничего не знаю о личных делах мистера Уитфорда, – сказала она, извлекая из кошелька железнодорожный билет и разрывая его на мелкие клочки.
– Его история – лишнее доказательство того, что эти романтические души в жизни весьма неромантичны. Вы любите говорить о «рыцарской чести». Побуждаемый этой самой рыцарской честью, он, верно, и женился на дочери хозяйки меблированных комнат, где проживал, пока я не взял его к себе. О сем благословенном союзе мы узнали из газетной хроники, в которой говорилось о нетрезвом поведении миссис Уитфорд, учинившей дебош на одном из лондонских вокзалов – скорее всего, том самом, на который вы должны были вчера прибыть, – ибо скандал этот произошел, как выяснилось, в день, когда мадам Уитфорд направлялась сюда за пополнением несколько оскудевшего хозяйства супругов Уитфордов.
– Я очень огорчена. Я ничего не слышала и ничего не знаю, – сказала Клара.
– Все это вызывает у вас понятную брезгливость. Впрочем, добрая половина студентов и писателей именно таким образом и женится. И мало кому из них так везет, как повезло Вернону.
– У нее были какие-то достоинства?
Клара выпятила нижнюю губу, что и в самом деле придало ее лицу брезгливое выражение. Уилоби стал убеждать ее не предаваться этому чувству.
– Сочинители, даже те из них, кто имеет доступ в общество, славятся полным отсутствием вкуса там, где дело касается женщин. Им нужна хозяйка. Порядочные женщины их отпугивают и, вероятно, были бы для них помехой.
– Вы сказали, что ему повезло.
– Я вижу, он вам не безразличен.
– Я его глубоко уважаю.
– Да, он хоть и чудак, но добрый малый, честный и все такое прочее. Но, конечно, столь малопочтенный союз оставляет на человеке пожизиенное клеймо. Свет не заставишь молчать. Да, пока что ему везет. Он шлепнулся в грязь и поднялся из нее. Но если ему доведется жениться во второй раз…
– А разве она…?
– Умерла. Нет, не пугайтесь: своей смертью. Молитвы его близких были услышаны. Он похоронил эту женщину, и я приютил его. Взял с собою, когда отправился в свое знаменитое путешествие. Второй брак, возможно, покрыл бы позор первого. Конечно, люди вспомнили бы ту, прежнюю историю, пошумели бы немного; родные той женщины все еще продолжают ему писать – должно быть, клянчат у него деньги. Теперь вы понимаете, отчего он так угрюм. Не думаю, чтобы он слишком сожалел об этой утрате. Разве что вздыхает время от времени – из сентиментальности, как все мужчины, после того как избавятся от тяжкого груза. Но вы не должны думать о нем плохо.
– Я и не думаю, – сказала Клара.
– Всякий раз, как заходит речь об этом эпизоде, я за него вступаюсь.
– Разумеется.
– Но я не оправдываю его глупости. Совсем обелить его я не берусь.
Они подошли к дверям дома. Клара подождала, не захочет ли он сказать ей что-нибудь еще, но он молчал, и она побежала к себе наверх.
Мысленно он уже швырнул ее Вернону, и не только без всякой боли, но с острым чувством удовлетворения. Ну, не чудотворец ли человеческое сердце?
Сэр Уилоби решительным шагом направился к Летиции.
Впрочем, решительной была только походка; в душе он еще колебался.
Летиция сидела подле открытого окна за вышиванием. По эту сторону окна, опершись о подоконник, стоял де Крей. Уилоби решил простить ей сдержанное оживление, с каким она слушала своего собеседника.
– Уверяю вас, – говорил полковник, – я провел самые приятные полчаса в моей жизни и предпочитаю бездельничать с вами, если вам угодно называть нашу беседу бездельем, чем болтаться в седле.
– Беседа с мисс Дейл никогда не бывает праздной тратой времени, – произнес Уилоби.
Она сидела в лестном для нее полумраке.
Полковник осведомился о Кросджее, Летиция вполголоса замолвила словечко за мальчика. Уилоби принялся разглядывать ее рукоделье.
Появились тетушки Эленор и Изабел. Они пришли пригласить Летицию на прогулку в карете.
Летиция ответила не сразу, и Уилоби сказал вместо нее:
– Мисс Дейл только что упрекала Горация в безделье, и я предлагаю вам завербовать его к себе на службу, а я сменю его здесь.
Дамы взглянули на полковника – он не заставил себя просить и направился с ними к карете.
– Полковник де Крей говорил со мной о мальчике, – возобновила разговор Летиция, не поднимая головы от рукоделья. – Позвольте надеяться, сэр Уилоби, что вы простите беднягу?
– Что вы можете сказать в его защиту?
– Если бы я обладала даром красноречия!
– По-моему, вы им обладаете.
– Он виноват, безусловно, но побуждения у него были самые благородные. В школе, среди товарищей, он считался бы образцовым мальчиком. А здесь он вечно перевозбужден, его душевные силы в постоянном напряжении.
– Этого не было, когда он жил с вами в вашем доме.
– Я сурова и строга.
– Спартанская мать!
– Если бы мне пришлось воспитывать мальчика, я бы, верно, придерживалась спартанской системы – но только не в одном: он всегда чувствовал бы, что может рассчитывать на мое снисхождение.
– Но не за счет правосудия, надеюсь?
– Ах, я не стала бы судить столь юное существо по всей строгости закона! Мнe кажется, что, запугивая детей, мы их губим. Ведь мы рискуем вызвать то самое зло, которое хотим искоренить, не правда ли? Дети делят свое время между школой и домом; и, мне кажется, они вправе рассчитывать, что точно так же дисциплина чередуется со снисхождением. Характер у них еще не сложился, и к ним нельзя предъявлять моральные требования, рассчитанные на взрослых. Ведь ожесточить юное сердце ничего не стоит! Вот видите, сэр Уилоби, я и доказала, что не обладаю красноречием. Впрочем, вы сами вызвали меня на этот разговор.
– Все, что вы говорите, Летиция, чрезвычайно разумно.
– Во всяком случае, справедливо. Не поразмыслите ли вы над тем, что я сказала? Я уверена, что, подумав, вы и сами захотите его простить. Однако я чересчур осмелела, – боюсь, как бы мне не пришлось просить у вас прощения за себя.
– Вы еще пишете? Продолжаете трудиться? – спросил Уилоби.
– Немного, совсем немного.
– Мне не нравится, что вы растрачиваете свои силы на публику. Вы слишком драгоценны, чтобы кормить это чудовище. Постоянное расходование энергии неминуемо ведет к истощению. Лучше поберегите себя для друзей. За что вы их обкрадываете? Разве не резонно полагать, что чем больше вы сбережете сил, тем больше богатства внесете в свой домашний круг? И я вам честно признаюсь, что, имей я на это право, я бы конфисковал ваше перо. Я бы сказал: «Прочь эту погремушку!»{60} Я не имею обыкновения цитировать Кромвеля, но его слова приложимы к данному случаю. Только вместо «погремушки» я употребил бы слово «ланцет». Право, это было бы точнее. Ваше перо и в самом деле стоит вам крови, изнуряет вас. И ради чего? Ради дуновения славы!
– Я пишу ради денег, сэр Уилоби.
– На это, если бы речь шла не о вас, а о ком-либо другом, я сказал бы, что в конечном счете вам грозит умственная деградация и даже – как знать? – нравственная! Торговля умом не может продолжаться безнаказанно. Она неизбежно низводит его до уровня тех, кто его покупает. Нет, Летиция, я конфискую ваше перо.
– В таком случае, сэр Уилоби, вы конфискуете ваш собственный дар.
– Это только доказывает… постойте, когда же я сделал вам этот подарок?
– Вы прислали мне золотую вставочку для пера к моему шестнадцатилетию.
– Это доказывает полнейшее мое легкомыслие в те годы. Ах, и в более поздние тоже!
Облокотившись о колено, он прикрыл глаза рукою. Откуда-то, словно из бездны, где обитает неумолчный голос прошлого, еще раз глухо раздалось: «И в более поздние тоже!»
Да, в этом не было ничего невозможного, решил он. Правда, попытка привести сидящую перед ним живую девушку в гармонию с художественным произведением, которое он расцветил такими чистыми и яркими красками, стоила ему немалого труда. От усилия он даже зажмурился. Впрочем, задача была ему по плечу. Приветливый голос Летиции, ее разумный разговор и милосердный полумрак – все это значительно облегчало дело. Да, это трезвый напиток, трезвый и благотворный. Предоставим безумствовать желторотым юнцам. В зрелые годы тянуться к хмельному – только искушать судьбу.
И в самом деле, человек, женатый на женщине, подобной Летиции, мог бы трубить о ее добродетели и нравственном совершенстве, не стесняясь ничем, в то время как, если бы жена его славилась необыкновенной красотой или незаурядным талантом, он был бы вынужден молчать. Это звучит парадоксально, и тем не менее это так. Сама нейтральность Летиции, ее бесцветность, оборачивалась достоинством, ибо давала возможность наделять ее какими угодно красками.
Летиция прекрасно понимала, что сэр Уилоби пребывает в расстройстве чувств. И вскоре смутная тревога, которую она поначалу ощутила, уступила место изумлению: он даже не считал нужным притворяться перед нею! Но тревога все же не проходила: Летиция опасалась, как бы он не разразился запоздалыми сожалениями или какой-нибудь страстной тирадой.
– Так можно надеяться, что Кросджей прощен? – спросила она.
Сэр Уилоби оторвал ладонь от глаз.
– Друг мой, я всегда руковожусь принципами. Докажите мне, что я ошибаюсь, и я не стану упорствовать. Вы меня знаете. Люди, которые не сообразуют свои поступки с принципами, они… словом, они не достойны провести и получаса в вашем обществе. Мы еще поговорим попозже. Сейчас мне нужно отправить кое-какие письма. Итак, сегодня в полночь. В той самой комнате, где мы с вами беседовали последний раз. Или нет, ждите меня, пожалуй, в гостиной. Ведь мне придется занимать гостей до самой ночи.
Он поклонился. Он спешил.
Да, задача вполне выполнима. Так он решил, так он и сделает. Таково предопределение судьбы.
Глава тридцать девятая
В самом сердце эгоиста
Тем не менее в судьбе было нечто от палача. Уилоби с ужасом думал о предстоящей встрече с Кларой. Зачем только удерживал он ее здесь все это время? Иметь ее перед глазами – и не отступиться от своего благоразумного решения, когда один ее вид лишает его всякого благоразумия! Если бы ее не было рядом, быть может, поддерживая себя сознанием долга по отношению к самому себе, он и проделал бы все, что от него требовалось, – не без тайной ненависти к несчастной, которую готовился осчастливить, но с полным соблюдением приличий: он был бы учтив и по-своему великодушен. Однако мысль о том, что Клара будет здесь все это время до и даже – о, ужас! – после того, как он сделает этот роковой шаг, одна эта мысль выводила его из равновесия. Гордость? Но у него не осталось ее ни капли – всю свою гордость он кинул Кларе на растоптание. Впрочем, нет, его гордость осталась при нем – он успел подхватить ее вовремя, еще до того, как Кларина нога на нее ступила. Да, ему удалось сохранить свою гордость, но лишь затем, чтобы она кинжалом вонзилась ему в сердце, по самую рукоятку. Его гордость была его горем, но он был слишком горд, чтобы этому горю поддаться. «Я поступаю правильно». Как только он произнес эти слова, сознание собственной правоты выровняло все ухабы и рытвины на его пути. Но тут же перед ним встал вопрос, требовавший немедленного ответа: одобрит ли свет его выбор, позволит ли ему гордиться Летицией? В свое время он мог бы в этом не сомневаться. Но теперь? Кларина сияющая красота вновь коснулась его сердца своими лучами.
Все мы, люди, находимся на борту корабля, который буря кидает с волны на волну: кругом раздаются крики и вопли, экипаж в замешательстве, инстинкт самосохранения заставляет одних спасать тонущее судно, других – свою жизнь. Клара представляла для него обломки корабля, Летиция – жизнь. Впрочем, как знать, быть может, истинное спасение в том, чтобы изо всех сил цепляться за Клару, а не в том, чтобы отбросить ее ради Летиции? Нет, нет, Клара слишком глубоко уязвила его самолюбие! Ведь она чуть ли не на глазах у него откровенничает с каждым по очереди. Она предала его – сперва Вернону, затем миссис Маунтстюарт, а судя по глазам Горация де Крея, и ему, – словом, всем, кому не лень. Быть может, и стоило держаться за нее, чтобы ей отомстить, но жажда мести, коль скоро ее утоление не сулило реальных выгод, не являлась достаточно побудительной силой для сэра Уилоби.
«Я не признаю мести», – произнес он, и в душе у него защемило от сладкой боли восхищения перед человеком, способным на такое великодушие, несмотря на причиненное ему зло.
Но чем больше достоин он был восхищения, тем больше заслуживал и жалости. И он отмерил две-три капли жалости к себе и проглотил их, в качестве противоядия против возможных проявлений общественного соболезнования.
Итак, от Клары следует отказаться. Надо убедить свет в том, в чем был убежден он сам, а именно – что он поступает правильно. Он был Лаокооном, но Лаокооном, борющимся со змеями, которых сам же и вызвал, и эта его поза борца, напрягшего все мышцы, была не лишена известного величия. Да, от Клары следует отказаться. О, прекрасная! О, ненавистная! Надо от нее отказаться, но только не уступать ее тому, чьи ласки отравленными стрелами вонзались бы в сердце Уилоби. Нет, ее следует отдать тому, кто заставил бы померкнуть ее блеск: пусть она сделается второй женой старомодного отшельника, опозорившего себя своим первым браком! И если люди узнают, что она отвергнута и брошена старине Вернону и что, движимая досадой, стыдом, отчаянием, под давлением обстоятельств и собственного благоразумия, решилась обвенчаться с ним, то в глазах света ее красота утратит свое былое значение! Люди поймут все надлежащим образом. Инстинкт самосохранения нашептывал Уилоби, что, в случае если бы Клару к алтарю повел не Вернон, а Гораций де Крей, свет посмотрел бы на это совсем другими глазами. Нет, не мстительное чувство, а именно инстинкт самосохранения подсказывал ему этот ход. Еще раз окинув мысленным взором ее проступок, он почувствовал себя полностью оправданным – нет, он вовсе не желал ей зла! Уилоби был джентльменом, и притом джентльменом в высшей степени цивилизованным. Но он был не прочь подвергнуть ее всем прелестям публичного скандала, или если не скандала, то, по крайней мере, светских пересудов.
Итак, он передал ее с рук на руки Вернону Уитфорду, своему кузену, исполнявшему при нем обязанности секретаря, который согласился зажмурить глаза и открыть рот.
Слышите, что говорят в обществе? Разве заставишь людей молчать? Довольно уже того, что он не желает ей зла. Но, и не желая ей зла, он, разумеется, не мог не предвидеть, что блеск ее неминуемо потускнеет – такая мысль невольно приходила ему в голову, иначе он не перенес бы утраты Прекрасной и Ненавистной. Без этого он не мог бы уступить ее другому.
Все эти мысли были хороши еще тем, что доставляли ему облегчение уже в настоящем. Представив себе пересуды, какие пойдут в обществе, и недоуменное пожимание плеч, он увидел Кларин образ запятнанным и лишенным своего обычного магнетизма. Теперь он может спокойно встретиться с ней лицом к лицу. На нем броня неуязвимости. Нетронутость – основное условие, которое он предъявляет женщине, а женщина, о которой говорят, не способна вызвать в нем сердечный трепет.
Будем, однако, снисходительны и постараемся вникнуть в положение Эгоиста, в чьем лице нежность родителя сочетается с сыновним почтением, причем объектом и того и другого чувства является он сам. Отец и сын, соединенные в одном лице, связаны теснейшими узами родственной любви. Как же им спокойно взирать на поступки, ранящие одного из них, не испытывая лютой ненависти к обидчику? Нет, они не желают вам зла, но ни один из них не допустит, чтобы другой страдал и понапрасну томился. Взаимное сочувствие, которым так крепко спаяна эта пара, не мешает каждому в отдельности испытывать еще более интенсивную любовь к себе. И пусть даже им случится принести вас в жертву, вас, ни в чем не повинного человека, – это будет жертва, возложенная на алтарь взаимной любви: сыновней почтительности и отцовской нежности… Младший предложил старшему лакомый кусочек или, напротив – старший младшему. Они слишком поглощены своей взаимной преданностью, чтобы думать о вас. Они поистине великолепны!
Однако не следует забывать, что младшему свойственны все страсти юноши, вследствие чего между нашей трогательной парой намечаются разногласия – а это уже состояние трагическое, взывающее к жалости. В таком-то горестном положении и пребывал сэр Уилоби-мдадший, когда, вняв совету сэра Уидоби-старшего, он согласился отведать протянутый ему горький плод. Старший при этом старался не замечать сведенных судорогой челюстей младшего. Как бы то ни было, одна часть сэра Уилоби постигла мудрость, заключающуюся в соблюдении собственных интересов, а другой его части, менее зрелой, оставалось только, призвав на помощь сыновнее чувство, этой мудрости покориться. Разумеется, здесь не обошлось без боли, но тот же сыновний долг велел мужественно эту боль превозмочь: сын, ропщущий на судьбу, бросает тень на отца. Итак, Уилоби, исполненный сыновней преданности к Уилоби, покорился Уилоби. Из всего этого мы видим, что нам, собственно, и незачем было взывать к снисхождению. Жалость здесь ни при чем. Если мы прибегнем к элементарной анатомии и расщепим Эгоиста на две его составные части, то убедимся, что он достоин не то что оправдания, а быть может, даже и восхищения. Все мы ведем свое происхождение от Эгоиста, от первобытного человека. В каждом новом эгоисте возрождается и заново утверждается в своих правах его древний предок. Возрожденный дикарь в условиях современной цивилизации может быть весьма отшлифованным джентльменом, не утратившим от своей самобытности ничего, кроме корявой прямолинейности патриарха, зачинателя рода. Сам себе отец, он также и наш отец, но он же и наш сын. Мы породили его, он – нас. С этого мы некогда начали, к этому мы со временем вернемся. Да, мы всего лишь, как говорит поэт, гребцы, работающие веслом против течения – «si brachia forte remisit…»[26]26
Если дать отдых рукам… (лат.)
[Закрыть]{61}; как бы далеко мы ни заплыли вверх по течению, если мы хоть на минуту прекратим работать веслом, нас отбросит вместе с лодкой назад, к исходным началам нашего существования. Ведь все мы не более как семена, небрежно раскинутые рукою сеятеля.
Правда, здесь можно бы процитировать и других поэтов, которые скажут нам, что возвращение к примитиву отнюдь не является признаком вырождения; напротив, оно скорее служит доказательством нерушимости нашей породы, первозданной энергии, сметающей на своем пути все, что мешает развитию особи; примитивный человек – это образец, и всякий из нас мог бы стать таким, если бы обладал сосредоточенной энергией своего предка. Он сумел сохранить самобытную невинность, простодушие во всей его чистоте. Это мы сами, смешавшись с обществом, растворившись в нем и утеряв свою сущность, олицетворяем собой спад, измельчание породы. А он стоит посреди нас, незыблемый, как монумент, как веха честной и грубой старины, испещренная символами нашего первобытного языка – изображениями ног, устремленных в беге, и могучих рук, разящих противника; славный кремень, впервые высекший огонь, и оперенная стрела – вот герб, осеняющий этот памятник. Мусорной кучей истории, этой радостью археолога, высится он среди нас, и быть может, эта мусорная куча и есть венец творения.
Однако общество обступило Эгоиста со всех сторон. Оно напоминает ему о себе, время от времени отрезвляя его зрелищем виселицы, на которой болтается какой-нибудь простодушный сын природы. С содроганием отворачивается он от этого зрелища, но едва ли с меньшим содроганием взирает на казнь, постигающую смельчака, дерзнувшего бросить вызов обществу: эта казнь – полное уничтожение его репутации. Размышляя над контрастами, какие жизнь являет взору, он чувствует, как в нем начинают бродить начатки воображения, и поднимается в новую сферу Эгоизма – духовную. Он становится цивилизованным эгоистом. В нем, разумеется, сохранился прежний дикарь, подобно тому как у современного человека сохранились зубы, хоть пользуется он ими уже иначе, нежели его прародитель.
Словом, являлся ли сэр Уилоби жертвой вырождения (а у нас нет никаких оснований это утверждать) или нет, он был эгоистом цивилизованным, наделенным могучим воображением, которое начинало работать всякий раз, как затрагивались его коренные интересы. Он открыл для себя область более обширную, чем область чувственных аппетитов, и, как новоявленный Александр Македонский, покорил ее. Во время этих горделивых походов он и подхватил к себе в седло – сперва Констанцию, а затем и Клару.
Каким именно образом тайники его души открылись взору мисс Дарэм, мы не беремся объяснить, но в случае с мисс Мидлтон несомненно, что ее прозрению немало способствовали его собственные изнурительные разглагольствования об оной душе. Впрочем, не существо открытия вызвало в ней это чувство пресыщения, – женщины редко возражают против подобных открытий, которые сами по себе подчас даже кажутся им увлекательными, – а монотонность, с какой он внедрял в нее эти открытия. Он убил в ней воображение. А для любви нет страшнее катастрофы, нежели гибель воображения. В своем ненасытном желании заставить ее любить его все больше и больше он протащил ее сквозь дремучие лабиринты мужской души. Он подрезал крылья ее воображению, и когда, обескрыленная, она внимала его речам, они казались ей чудовищными. Да, несомненно, это и было причиной, ибо магическое обаяние дикаря обычно сохраняет свою власть над женщиной до ее окончательного сближения с ним.
Итак, он передал ее с рук на руки Вернону Уитфорду, своему кузену, исполнявшему при нем обязанности секретаря, который согласился зажмурить глаза и открыть рот.
Весь вопрос в тем, как это осуществить. Со свойственным ему упорством и сосредоточенностью Уилоби принялся разрабатывать план действий. Он любил говорить, что достиг бы высоких степеней, если бы чувствовал в себе призвание адвоката, дипломата иди военного стратега. И это не было пустым бахвальством: если бы к деятельности на любом названном поприще примешался его личный интерес, он и в самом деле мог бы занять выдающееся место, ибо, как никто, владел искусством интриги.
Он мысленно проредетировал предстоящее объяснение. Начав с того, чтс онвсегда принимал живое участие в судьбе Вернона и что будущее бедняги его весьма тревожит, он затем, если Клара будет по-прежнему упорствовать (а при ее характере рассчитывать, что она сойдет с раз занятой ею позиции, не приходилось), скажет: «Хорошо, поскольку вы настаиваете на разрыве, я готов отказаться от своих претензий и возвратить вам свободу – но с условием». Клара вздрагивает всем телом. Он настаивает, что она заранее обещала принять его условие. Она отказывается. Они возвращаются к исходному положению. Она капризничает, требует, чтобы он назвал условие. Он говорит ей, что хотел бы видеть ее членом своей семьи, в том или ином качестве. Она польщена, она недоумевает, любопытство ее достигает предела. Он пускается в философствование о браке. «Что такое человек? Пешка в жизненной игре! Ему дано лишь прожить свою жизнь, как он может, и стараться по мере сил помогать тем, кто ему дорог. А как хотите, старина Вернон дорог моему сердцу. Разве я не даю вам величайшего доказательства моего к нему расположения?» Она все еще не понимает. И тогда он предъявляет ей ультиматум. Без обиняков. «Возьмите Вернона, и я вас освобождаю». Она отказывается. Начинаются дебаты, во время которых ораторствует в основном он. «Быть может, вас отталкивает мысль о его первом браке? Но ведь вы сами сказали, что уважаете его ничуть не меньше» – и так далее, и так далее. Она заявляет, что его предложение для нее неприемлемо. Он не видит ничего оскорбительного в предложении осчастливить его кузена, коль скоро она отказывается осчастливить его самого. Он отводит душу в иронии и сарказмах, но вместе с тем уверяет ее, что действует из лучших побуждений, желая всем добра. Она смущена, по-девичьи жеманится.
Он снова возвращается к неудачному супружеству Вернона. Ей это неприятно. Под конец он советует ей подумать о его предложении и помнить, что только на таком условии он согласен даровать ей свободу. Затем для беседы с Кларой призывается миссис Маунтстюарт-Дженкинсон, которая к этому времени уже полностью уверилась в его горячем желании быть свободным. Тетушки Изабел и Эленор осаждают ее. Летиция поддерживает его всей душой и тоже не оставляет Клару в покое. Заручаются помощью доктора Мидлтона. И, наконец, Уилоби и миссис Маунтстюарт вместе принимаются за Вернона. Здесь-то, как угодно было думать Уилоби, он и встретит основное сопротивление. Но ведь девушка богата, у нее приятные манеры, она симпатична Вернону, любит эти его «Альпы», разделяет его вкусы. Вернон дружит с ее отцом. В конце концов удается его уломать, и он тоже начинает осаждать Клару. Сдастся ли она? Де Крей удален со сцены. Ей не на кого опереться в своем необъяснимом и упорном нежелании вступить в предлагаемый брак. Она в западне. Ее отец останется гостить в Паттерн-холле столько времени, сколько угодно хозяину. Она начинает колебаться, мало-помалу уступает и, несмотря на отвращение, вызванное предыдущим браком Вернона, наконец, сдается.
Уилоби продолжал мысленно разыгрывать всю эту драму и в присутствии Клары. Это помогало ему сохранить хладнокровие. Подавая ей руку, чтобы повести к столу, он добродушно заговорил о Кросджее. А за столом, довольный своей подспудной работой режиссера, даже воодушевился – отчасти под влиянием вина, отчасти от лицезрения своего друга Горация, которого он всячески подбивал щегольнуть ирландским красноречием. Он позволил себе два-три выпада против него, самого, впрочем, безобидного характера. Впервые за все это время он испытывал к нему такое искреннее расположение. Паттерновский портвейн помог доктору Мидлтону благодушно промолчать, когда Уилоби, в ответ на какую-то реплику де Крея, показавшуюся ему не слишком свежей, со смехом рекомендовал тому, дабы впредь не повторяться, почаще заглядывать в свою записную книжку. Даже когда Уилоби прибег к довольно дешевому каламбуру, де Крей не огрызнулся, а доктор Мидлтон опять не проронил ни слова. Достаточно чуть-чуть навостриться, и при случае всегда можно подставить ножку этим завзятым острякам, а стоит лишь снизойти к этому занятию, как окажется, что мы им ни в чем не уступаем. Так, во всяком случае, приходится рассуждать критику, который позволил себе опуститься до каламбура. Впрочем, судя по улыбкам дам, они разделяли его мнение.
Незадолго до того, как часы показали одиннадцать, доктор Мидлтон стоически отклонил предложение распить третью бутылку знаменитого портвейна и, прикончив вместе со своим гостеприимным хозяином положенные две бутылки, поднялся с ним в гостиную. Дамы, не ожидавшие подобной чести, стояли, склонясь над стеганым шелковым покрывалом для дивана – плодом прилежания и искусства мисс Изабел и мисс Эленор и предметом восторгов мисс Мидлтон и мисс Дейл. Сославшись на желание покурить на свежем воздухе, Вернон с полковником отправились на поиски Кросджея, первый – к коттеджу мистера Дейла, второй – к сторожке лесничего. Уилоби покинул гостиную и вскоре вернулся с ключом от спальни Кросджея в кармане. Он предвидел, что юный проказник может сослужить ему службу.
Летиция и Клара исполнили дуэт. У Летиции лицо разрумянилось. Клара была бледна. Ровно в одиннадцать они подошли к тетушкам Изабел и Эленор и обменялись с ними поцелуями. Уилоби пожелал обеим девушкам покойной ночи, отметив про себя разницу, с какой каждая приняла его прощальный привет: скромно потупленный взгляд Летиции и прямой холодный взор Клары. Он догадывался, что они отправились поговорить на самую для них животрепещущую тему – о Кросджее. Прощаясь с тетушками, он принялся расхваливать их усердие и вкус и, взяв покрывало за уголки, размахивал им перед носом у доктора Мидлтона, как бы приглашая и его выразить свое восхищение мастерицами. Расчет оказался верным – старый ученый пришел в замешательство, пробормотал какой-то витиеватый комплимент и почувствовал острое желание как можно скорее удалиться на покой.
К полуночи гостиная опустела. Но когда, выждав время, Уилоби вернулся в нее, он не нашел в ней Летиции. Разочарованный в своих ожиданиях, он начал ходить из угла в угол и в рассеянности подхватил край вышитого покрывала – зачем оно ему понадобилось, он и сам затруднился бы сказать: вряд ли ему пришло бы в голову восхищаться рукоделием тетушек в их отсутствие. Но прикосновение мягкого теплого шелка было так женственно, так нежно! Он взглянул на каминные часы и убедился, что Летиция запаздывала уже на двадцать минут.
Ее неаккуратность рисковала опрокинуть все его планы, изменить весь последующий ход его жизни. Яркие краски, какими он ее наделил, грозили потускнеть. Его безумный порыв мог пройти. И уж во всяком случае, его готовности принести эту жертву не хватило бы еще на сутки.
Часы пробили половину первого. Бросив шелковое покрывало на стоявшую посреди гостиной оттоманку и погасив лампы, он вышел, мысленно предлагая Летиции пенять на себя за ее несостоявшееся счастье.







