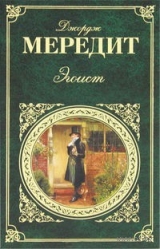
Текст книги "Эгоист"
Автор книги: Джордж Мередит
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 47 страниц)
– Боюсь, что нет.
Полковник де Крей не выдал своего изумления и, подавив в себе чувство, похожее на подлинную боль, галантно произнес:
– Это настоящий удар, но, разумеется, не преднамеренный. Вы нас всех чрезвычайно огорчите.
Сославшись на необходимость тотчас переговорить с миссис Монтегю относительно ванны для Кросджея, мисс Мидлтон покинула полковника. Тот поклонился и, глядя ей вслед, подумал с сочувствием о своем друге Уилоби. Его сочувствие направилось по двум различным траекториям, устремленным, однако, на одну и ту же мишень. Потеряет ли Уилоби эту девицу, или ему удастся ее удержать, в обоих случаях, решил полковник, он достоин сожаления.
Глава двадцатая
Выдержанное вино великолепной марки
Неспешная вечерняя прогулка вдоль газона с дамами и почтительно слушавшими его джентльменами в ожидании призывного звука колокольчика, возвещающего об обеде, составляла одну из отрад доктора Мидлтона. Его походка выдавала человека, который некогда (во дни Аполлона и юного Эрота) был не прочь потанцевать: мышцы его ног и доныне сохранили упругость, и он величаво нес свое высокое, осененное стальной сединою чело. После дневных трудов он с наслаждением предавался освежающему моциону, которому предстояло увенчаться чарами французской кухни, призванной, так же как и вина известных марок, подкрепить его силы. В этот час он охотно дарил собеседников разменной монетой своей мудрости, подобно тому как солнце, склоняясь в погожий вечер к закату, щедро разливает кругом свое тихое великолепие, не опасаясь истощить основной сокровищницы. Ибо поистине блажен тот, кто может сказать себе под вечер, что лучшая часть дня еще впереди и что она скоро наступит. Такой человек выше обыкновенных смертных настолько, насколько парящий в предзакатном небе орел выше воробья, поклевывающего что-то на земле. Подобное состояние – достойная награда человеку, чья юность и зрелые годы были проведены в трудах праведных. Доктор Мидлтон ставил под сомнение не только прошлое, но и будущее человека, который не испытывал восторга – сдерживаемого, разумеется, рамками воспитания – при мысли о предстоящем обеде. Такому человеку, по мнению доктора, нечего делать ни на этом свете, ни на том.
Наглядный пример благотворного влияния воздержности, он имел все основания гордиться своим пищеварением; свою веру в торжество добродетели он переносил также и в область политики, склоняясь к консерваторам: ведь только в устойчивом обществе можно рассчитывать, что добродетель увенчается наградой.
Достопочтенный доктор богословия являл собой великолепный портрет кисти старого мастера, разумеется, английской школы. В своем характере он сочетал благочестие с эпикурейством, ученость с хорошим тоном, и эти свойства прекрасно уживались в его душе, непринужденно общаясь друг с другом, как люди, знакомые домами. Он был крепкого сложения, в юности даже – атлет; прекрасно разбирался в фактах и прескверно – в людях; человек благодушный от природы, неутомимый и прилежный труженик, он тем не менее легко падал духом и выбивался из колеи. Дочь свою он и любил и боялся. Как бы он ни восхищался ею, страх, который ему внушали ее возраст и пол, ни на минуту его не покидал, не давая забыть, что, покуда мисс Клара не замужем, он связан с существом не вполне вменяемым. Покойная матушка ее была прекрасной женщиной, но обладала темпераментом поэтическим, несколько экзальтированным и порывистым, и для степенного ученого была наделена излишней долей воображения. Достойная женщина, но все-таки женщина, иначе говоря – фейерверк. Клара походила на мать. Ну к чему ей, скажите на милость, покидать Паттерн-холл хотя бы на час? Очевидно, затем лишь, что она принадлежит к переменчивому и легковоспламеняющемуся женскому сословию. Муж – вот самый подходящий для нее опекун, ему, по всей справедливости, и следует освободить от этой обязанности отца. В самом деле, когда на свете торжествуют демагоги, а дома у вас на руках дочь, только и спасения что в философии! Сам Цицерон не был застрахован от подобных капризов: казалось бы, свет не знал более примерной дочери, чем его Туллия. И вот, подите же, взяла и умерла! Нет, от этого народа можно ожидать чего угодно!
Доктор Мидлтон прохаживался с мисс Дейл. Клара присоединилась к ним и взяла отца под руку.
– А я только что говорил мисс Дейл, что день твоего закрепощения знаменует для меня свободу, – произнес доктор Мидлтон, комически вздыхая. – Главное – число назначено. А если точно известно, когда должно произойти определенное событие, начинаешь думать о нем уже с уверенностью, как о факте, на который можно полностью рассчитывать.
– Тебе так не терпится со мной расстаться? – пролепетала Клара.
– Да нет же, дитя мое, просто я, по твоей милости, пребываю в состоянии человека, ожидающего трубного гласа, – и только когда я его наконец услышу, я обрету покой.
Клара не знала, к чему придраться в этих словах и как на них ответить. Молчание Летиции ее озадачивало. Подошел сэр Уилоби. Он, казалось, был в духе.
– Можно не спрашивать, как вы себя чувствуете, – сказал он Кларе. Затем, озарив взглядом Летицию, помахал перед доктором Мидлтоном каким-то ключом и сказал: – Я сейчас спущусь во внутренний подвальчик.
– Внутренний подвальчик! – воскликнул доктор.
– Святыня, куда сам дворецкий не имеет доступа. Не хотите ли мне сопутствовать? Мои погреба стоит посмотреть.
– Погреб ведь это не катакомбы. Это, скорее, нечто вроде монастырских келий, но только вместо скорби о грешной плоти отшельницы-бутылки могут сосредоточить свои мысли на радости, коей им предстоит одарить смертного. У вас там есть что-нибудь незаурядное?
– Есть вино, которому девяносто лет.
– Оно, видно, связано с историей вашего рода, коль скоро вы так уверенно объявляете его возраст?
– Мой дед получил его в наследство.
– Вашему деду повезло, сэр Уилоби, не только с предками, но и с потомками. Страшно подумать, что было бы, если бы вино попало в руки наследниц, а не наследников! Я с радостью буду вам сопутствовать. Что же у вас там? Портвейн? Или эрмитаж?
– Портвейн.
– А! Мы поистине в Англии.
– Мы как раз успеем до обеда, – сказал сэр Уилоби, приглашая доктора Мидлтона следовать за собой.
– Рейнские вина тоже достигают подчас порядочного возраста, – защебетал доктор. – Мне доводилось отведывать старинного рейнвейна. Его букет разнообразен, в нем разноголосица горных ручьев, ему нельзя отказать и в глубине. Но портвейн – настоящий сановник среди вин. Сенатор! Этим словом не назовешь ни одно другое вино. Портвейн обладает океанской глубиной. Самый его букет – глубина. В этом его основное отличие. Он, подобно классической трагедии, органичен в самом своем замысле. Старинный эрмитаж озарен светом античности, его заслуга в том, что он сохраняется долгие годы. Заслуга немалая, не спорю. Но ни эрмитаж, ни рейнское не уподобишь живительной крови, что, приобретая с годами мудрость патриарха, сохраняет вместе с тем юношескую силу. Нет, для этого подавай портвейн! Он – наше благороднейшее наследие. Заметьте, я не сравниваю вина между собою. Я лишь определяю их различные свойства. Пусть они живут бок о бок друг с другом, на благо человечества. Они не соперничают, как те трое, на горе Иде{30}. Если бы они соперничали, то нашлось бы и четвертое, чтобы вступить в спор. Разве я умаляю величие бургонского? Оно творит чудеса – но лишь в пределах известного срока. Оно может все, кроме одного: оно не способно на длительное состязание. Увы, оно недолговечно! Многолетнее бургонское стоит не больше, чем безусый портвейн. Я бы сказал, что портвейн изрекает мудрые истины, в то время как бургонское поет вдохновенные оды. Или, если угодно: портвейн – гомеровский гекзаметр, бургонское – дифирамбы Пиндара. Что вы скажете, а?
– Отличное сравнение, сэр.
– Вы хотите сказать, определение. Пиндар нас поражает. Но влага, которую нам предлагает его предшественник, живительнее. Первый – бьющий ввысь фонтан. Второй – пурпурное море, полное волнения и неизведанной глубины.
– Отличное определение.
– На этот раз вы, по всей вероятности, имели намерение похвалить мое сравнение. Оно принадлежит ранним критикам, изучавшим этих поэтов. Приобщитесь к грекам, и вы увидите, что ничего нового после них не возможно. Все сказано: «Graiis… praefer landem, nullius avaris»[9]9
Грекам… кроме славы ни к чему не стремившимся (лат.).
[Закрыть]{31} Гений, когда он посвящает себя Славе, бессмертен. Наш современный гений посвящает себя клоаке и взывает не к богам с их бессмертной памятью, а к желудку толпы.
Сэр Уилоби проявил неистощимое терпение. Его дуэт с доктором Мидлтоном был дуэтом барабана с виолончелью. Всякий раз, как он вступал со своей партией, его поправлял дидактический смычок доктора. Его удары всегда оказывались невпопад: он выбивал «да», когда надо было ударить «нет», и «нет» вместо «да». Впрочем, он и раньше знал, что люди ученые не отличаются изысканными манерами, и утешался тем, что ученость доктора будет впоследствии хорошей темой для застольного разговора.
В погребе роли переменились. Началась сольная партия барабана. Здесь доктору Мидлтону пришлось умолкнуть. Сэр Уилоби преподал ему краткую историю вин по рубрикам: каким образом каждое попало в фамильный погреб Паттернов и как сохранилось до сей поры.
– Любопытно, что дед мой, получивший этот погреб в наследство, сам в рот не брал вина, – заметил сэр Уилоби. – А отец умер молодым.
– Что вы говорите! Какая жалость! – воскликнул доктор, выражая одновременно изумление и скорбь: изумление относилось к причудливости человеческих вкусов, скорбь – к печальному уделу всех смертных.
Он проникся глубоким уважением к роду Паттернов. Этот прохладный подвал со сводами и с центральным квадратным отсеком – таким темным, что фонарь не мог осветить его своим лучом, а, подобно глазу, выхватывал в нем то одну, то другую деталь, – говорил о дальновидной практичности и основательности человека, воздвигнувшего свой дом на столь солидном фундаменте. Дом, где подвалы изобилуют вином, рисуется нашему воображению счастливым домом, пустившим в землю глубокие и крепкие корни. В воображении нашем есть место также и для счастливца, унаследовавшего этот дом. Дед – трезвенник, отец – жертва преждевременной могилы, – как не уверовать в блестящую будущность их потомка, нынешнего владельца Паттерн-холла? Мысли доктора Мидлтона были окрашены радужным видением бокалов, наполненных великолепным вином, и он с удовольствием предался прихотливо сверкающему, празднично-торжественному течению своих мыслей. А в праздничном состоянии духа человек склонен к некоторой игривости ума. Предвкушение, как известно, вызывает благодарность, и тот, кто подпадает под влияние этого чувства, становится мягким как воск. Доктор Мидлтон был из тех джентльменов, что любят потакать своим склонностям.
Ему понравился тон, каким сэр Уилоби приказал лакею, следовавшему за ним по пятам, взять «вот те две бутылки». Это был тон в меру бережливого хозяина, да и число «два» было вполне утешительно.
Не в силах оторвать взгляда от бутылок, которые держал слуга, доктор сказал:
– Одна беда с предметами столь высокого качества: лишь один человек из двадцати способен оценить их превосходство.
– Верно, сэр, – ответил сэр Уилоби. – И поэтому остальных девятнадцать можно будет обнести!
– Женщин, например. Да и большую часть мужчин.
– Да, для них это вино – книга за семью печатями.
– Боюсь, что так. Не следует разбазаривать драгоценную влагу попусту.
– Вернон, тот привык к кларету. Гораций де Крей тоже. Ни тот, ни другой не достойны такого вина. Они сразу же после обеда присоединятся к дамам. А вы, сэр, быть может, составите мне компанию.
– С превеликим удовольствием!
– Мне хочется знать ваше мнение.
– Я его непременно вам сообщу. Не думаю, чтобы оно оказалось в разладе с хором голосов моих предшественников. Прохладно, но не холодно, – прибавил доктор Мидлтон, подытоживая все достоинства погреба, перед тем как его покинуть. – Стены выходят и на север и на юг. Ни сырости, ни плесени. Чистый, сухой воздух! Все необходимое. Тут и человека положи – он сохранит свою свежесть.
Никто – ни адвокат, ни врач, ни помещик, ни розовощекий адмирал, ни даже негоциант из Сити – ни один из этих почтенных британцев, населяющих оба острова, как бы громко ни заявляли они о своей любви к выдержанному портвейну, – никто из них не может равняться с ученым филологом в страсти к бутылке, опутанной паутиной. Происходит это, должно быть, оттого, что голова его начинена древними поэтами. Он проникся их духом и поэтому воспевает вино; а дух их за все века, отделяющие древних поэтов от филолога нашего времени, не только не выветрился, но и укрепился. Быть может, его прельщает сходство между вином и собственным мозгом, который, вопреки общим законам тления, очищается с годами от кислот и осадков и достигает к старости сверкающей ясности кристалла. Портвейн – это гимн консерватизму филолога-классика. Он обладает магическим свойством: одного глотка его довольно, чтобы поплыть по пурпурным водам вечно юной античности.
Наслаждение, которое вкушают прочие смертные, – всего лишь животные радости по сравнению с тем душевным трепетом, что ощущает филолог. Он, и он один, достоин этого превосходного вина, подобно тому как Красоты достойны одни лишь поэты. Собственно, следовало бы все вино мира отдать ученым, а всю красоту – поэтам. Да будет так!
Сэр Уилоби, едва удалились дамы, пододвинул Вернону и Горацию графин.
– Вы, я знаю, пьете кларет, – сказал он, обращаясь к ним нарочито бесцеремонным и фамильярным тоном. – А вам, доктор Мидлтон, как будто портвейн? Пусть это вино послужит вам предисловием. Ваше будет доставлено через пять минут.
Когда графин с кларетом был выпит, сэр Уилоби предложил послать за следующим. Де Крей, однако, не изъявил большой радости, а Вернон встал из-за стола.
– Куда же вы? – сказал сэр Уилоби, обращаясь к Вернону. – Сейчас принесут портвейн доктора Мидлтона.
– Мой портвейн?! – вскричал доктор.
– Это королевское вино, его нельзя делить с недостойными, – сказал Вернон.
– Мы скоро к вам присоединимся, Вернон, – вы будете в бильярдной?
– Что касается меня, то нет такого человека, ради которого я поспешил бы разлучиться с бутылкой хорошего вина, – объявил достопочтенный доктор.
– А вы, Гораций?
– О, я его не достоин, Уилоби. Я недостаточно серьезен для такого вина. Я лучше присоединюсь к дамам.
Итак, вино прибыло. Вернон и де Крей ретировались, а доктор Мидлтон сделал первый глоток. Глотнул и посмотрел на своего радушного хозяина.
– Дюжин тридцать? – спросил он.
– Пятьдесят.
Доктор смиренно склонил голову.
– Считайте меня сторожем погреба, где хранится ваше вино, сэр, – обратился к нему хозяин. – Всякий раз, что вы почтите меня своим присутствием, оно будет подано к столу.
Достопочтенный доктор поставил свой бокал.
– Вы занимаете в некотором смысле завидный пост, сэр. К тому же ответственный. Ведь на вас лежит священная обязанность задержать день, когда наступит очередь последней дюжины.
– Итак, сэр, вы одобряете это вино?
– Вот что, сэр: предоставим заниматься славословием мелким душонкам. Я же скажу только то, что этот единый бокал вашего фамильного вина мирит меня с тем, что я не родился на девяносто лет раньше или в еще более отдаленную эпоху.
– Я обращаюсь с ним бережно, – скромно заметил сэр Уилоби. – Но, конечно же, его прямое назначение достаться тому, кто способен оценить его по достоинству. В вас, сэр, я вижу такого ценителя.
– И все-таки, мой друг, и все-таки! На вас большая ответственность: спору нет, это ваша собственность, но это также и вверенная вам драгоценность. И долг повелевает вам вручить этот клад вашим наследникам не слишком ощипанным.
– Надеюсь, сэр, вы не откажетесь выпить немного этого портвейна за здоровье ваших будущих внуков! И дай вам бог отпраздновать их свадьбу этим же вином!
– Как соблазнительно звучит в ваших устах долголетие! От такого вина сам дряхлый Титон поспешил бы в объятия розоперстой зари{32}.
– Я готов просидеть с вами за этой бутылкой до самой зари, – простодушно ответил сэр Уилоби, не слишком осведомленный в любовных интригах древних небожителей.
Доктор Мидлтон взглянул на графин. Всякая радость таит в себе печаль, как напоминание о бренности всего земного. С тем количеством вина, которое содержалось в графине, нельзя было надеяться проводить звезды и встретить зарю.
– Увы, мой друг, бутылка старого вина никогда не бывает полной!
– За ней последует другая.
– Не может быть!
– Она уже заказана.
– Нет, я не могу этого допустить.
– Она уже раскупорена.
– Умоляю вас!
– Вино уже перелито в графин.
– В таком случае сдаюсь. Смотрите же, я настаиваю на вашем честном сотрудничестве. Только с этим условием соглашусь я воспользоваться вашей щедростью. Однако вот наглядное доказательство превосходства Бахуса над Афродитой. Насколько первый великодушнее! Поклоняясь ему, мы не ведаем ревности – пусть, кто хочет, делит с нами наслаждение. Но пробки, пробки, Уилоби! Это поразительно!
– Их состояние время от времени проверяется. Я помню такую проверку еще при отце. А однажды, уже после его смерти, я сам за этим проследил.
– Это, должно быть, не менее рискованная операция, чем трахеотомия. Я полагаю, здесь требуется не меньше хирургического искусства и такая же твердая рука. Да и пациенты, я думаю, в обоих случаях вздыхают одинаковым образом.
Перед носом у гостя снова возник полный графин. Доктор совершенно растаял.
– Дочь – вот все, что я могу вам предложить, – сказал он.
– И я принимаю ее, как самое большое сокровище, какое можно найти на этом свете.
– Мне удалось заронить в ее головку немного латыни и начатки древнегреческого. Так что она имеет некоторое представление о классиках. Одно время я строил кое-какие надежды… впрочем, она всего лишь девушка. В ней есть что-то от лесной нимфы. И все же вы найдете в чашечке этого цветка капли священной влаги Иппокрены{33}. Она обладает аристократизмом духа – единственным видом аристократизма, который чего-то стоит. Она хороша – иные, те, кто не придает значения правильности черт, называют ее даже красавицей. Для меня, Уилоби, она прекрасна. Она – мое небо! Ее руки домогались многие. Но просители – это было в Италии – обращались всегда ко мне. У нее нет собственной истории. Вами начинается первая глава ее книги. И с вами она напишет эту свою единственную повесть. Так тому и следует быть. Mulier tum bene olet, – помните? «Отсутствие аромата у женщины – вот лучший аромат»{34}. Она переходит к вам от меня, от одного меня, от отца к мужу. Ut flos in septis secretus nascitur hortis, – пробормотал он, доведя цитату до слов: Sic virgo, dum…[10]10
Как цветок, затаившийся в обнесенном стеною саду… так и невинная дева, пока… (лат.)
[Закрыть]{35} – Мне нелегко с нею расстаться. Но она попадает к тому, кто будет гордиться ею, как я, и даже больше: ему будут завидовать. Надо, чтобы мистер Уитфорд написал для вас свой Carmen Nuptiale.[11]11
Свадебный гимн (лат.).
[Закрыть]
Бедный жених слушал излияния доктора Мидлтона, и сердце его то замирало, то стучало вовсю. Забыв свою досаду, он снова увидел Клару такой, какой она появилась утром, рядом с де Креем. Она была нестерпимо хороша! Обаяние английского летнего дня, пронизанного солнцем и ветром, сочеталось в ней с острой прелестью наливающейся соком молодой веточки. Ее глаза, рот, ее платье, с материнской нежностью обнимающее грудь и с материнской гордостью на короткий миг показывающее сквозь кисею своих близнецов, ее смех, ее стройный стан, бесподобная осанка – все ее несказанное очарование полоснуло его, словно ножом по открытой ране.
Ее желание расстаться с ним было для него сущей пыткой. Острая боль вынуждала его быть искренним с самим собой. Но стоило боли этой отпустить на минуту, как он начинал, точно в плащ, кутаться в собственную выдумку о Клариной ревности к Летиции Дейл и уверять себя, что ее желание порвать с ним не больше как блажь. И тем не менее такое желание было ею высказано. Вот эту-то рану он и пытался залечить, придумывая наказание для Клары. Его мечты несли двойную службу: во-первых, наказав ее должным образом, он мог позволить себе полюбить ее сильнее прежнего, и во-вторых, сосредоточившись на мысли о наказании, отодвигал от себя страх ее потерять. Страх этот разверзся перед ним бездной, Клара подвела его к самому ее краю и, несмотря на его высокоразвитый инстинкт самосохранения, заставила туда заглянуть.
– Что я буду делать завтра? – воскликнул он. – Мне не хочется выбрасывать бутылку полковнику де Крею и Вернону. Я не могу выпить целую бутылку один. Сидеть с дамами в гостиной – занятие для меня не столь увлекательное. Когда вы привезете мне обратно мою невесту, сэр?
– Дражайший Уилоби!
Достопочтенный доктор с шумом выдохнул воздух, затем, отпив глоток вина, несколько успокоился и продолжал:
– Вся эта поездка – сущий вздор. Я не вижу в ней никакого смысла. У Клары была мигрень, приступ ипохондрии. Теперь все это прошло, и она, верно, уже образумилась. Я всегда держался того мнения, что не следует потакать девицам в их капризах. Я могу запретить, и все. Я настроился погостить у вас еще десять дней, согласно вашему любезному приглашению. И посему я остаюсь.
– Похвальная решимость, сэр. Вы будете тверды до конца?
– Сэр Уилоби, я человек слова.
– А если будет оказано давление?
– Никакого давления!
– Я хотел сказать, уговоры…
– Нет, нет и нет! Всякий, кто поддается давлению или уговорам, проявляет слабость. В первом случае нас пытаются подавить своим весом, во втором – воспользоваться нашей легковесностью.
– Вы доставляете мне большую радость, доктор Мидлтон. Радость и облегчение.
– Мне ненавистно всяческое нарушение хороших привычек, Уилоби. Однако я, помнится, – или это мне показалось? – извещал Клару о том, что вы без особого сожаления восприняли наше намерение прервать визит; признаться, я даже был несколько огорчен этим.
– Ну что вы, дорогой доктор, просто всякое ваше желание тотчас же становится моим. Но если вы захотите сделать мои желания вашими, то оставайтесь с вашим зятем, и мы с вами разопьем еще не одну бутылочку.
– Прекрасно выраженная мысль. Вы говорите как придворный вельможа, Уилоби. Представляю себе, как вы держитесь во время любовной ссоры, – должно быть, с вежливостью профессора, готовящегося прочитать лекцию благовоспитанным барышням. Что, не угадал?
– Ах, я предпочел бы обойтись без этих ненужных ссор!
– Ну а теперь все хорошо?
– Клара, – ответил сэр Уилоби, по-театральному отчеканивая каждый слог, – совершенство.
– И прекрасно, – сказал достопочтенный доктор, которому таким образом дали понять, что ссора между его дочерью и их гостеприимным хозяином пришла к концу.
Доктор Мидлтон встал из-за стола в двенадцатом часу. Последовал короткий диалог о дамах. Они, верно, уже отправились спать? Ну, конечно же. Им следует рано ложиться, чтобы радовать нас своим цветом лица. Спору нет, женщина – венец творения. Но после часа, посвященного старому, выдержанному вину, ее общество совершенно некстати. Некстати, неуместно и не гармонирует с душевным состоянием человека. В такую минуту дамы вызывают в нашей душе раскаяние, желание загладить свою вину, они как мороз, охватывающий бурые почки, которые вот-вот готовы раскрыться во всей своей зелени. Разве способны они оценить чуткость дегустатора, трезвый разгул чувств, сдержанную экзальтацию – словом, опьянение в том смысле, в каком его понимали древние? И способны ли они, наши очаровательные, наши милые дамы, зажечь в нашем мозгу те многочисленные люстры, что озаряют для нас историю человечества и помогают проникнуть в таинственное предназначение человека? Разумеется, нет. Они даже не способны понять тех, кто на это способен. И посему, хоть мы и не носим тюрбанов и не запираем их в гаремах, нам приходится часть нашего послеобеденного досуга проводить раздельно. Нет, нет, мы не мусульмане. Взгляните на графинчик на столе, и вы в этом убедитесь.
– А раз так, – заключил доктор Мидлтон, – я отправляюсь спать.
– Я провожу вас до дверей спальни, сэр, – сказал любезный хозяин.
Послышались звуки рояля. Доктор Мидлтон, положив одну руку на перила лестницы, пролепетал:
– Я думал, что дамы отправились спать.
Из двери в библиотеку вышел Вернон.
– Коллега! – приветствовал его доктор.
Вернон жестом ответил на приветствие и обратился к Уилоби.
– Дамы в гостиной, – сказал он.
– Я иду наверх, – послышалось в ответ.
– Одиночество и сон после такого вина, и да хранят нас боги от общества смертных! – вскричал доктор. – Э-э, Уилоби, послушайте!
– Да, сэр?
– Завтра только одну!
– Вы распоряжаетесь погребом, сэр.
– Лучше бы мне доверили править солнечной колесницей! Я решительно настаиваю на том, чтобы была одна, не больше! Мы уже раскупорили одну из пятидесяти дюжин. Если распивать по бутылке в день, мы не так катастрофически быстро доберемся до остальных сорока. Две бутылки per diem[12]12
В день (лат.)
[Закрыть] сулят полнейший распад и безответственность. Что касается моего собственного организма, да будет вам известно, я легко переношу три бутылки зараз. Однако я блюду интересы грядущих поколений.
Во время монолога доктора Мидлтона дамы одна за другой выплыли из гостиной. Услышав голос отца, Клара вышла первой – ей не терпелось справиться у него относительно предстоящего отъезда.
– Папа, во сколько мы завтра уезжаем? – крикнула она и, взбежав на лестницу, чтобы его поцеловать на ночь, повторила вопрос: – Когда ты будешь завтра готов?
Доктор Мидлтон несколько раз звонко откашлялся в знак своей неуклонной решимости. Затем он вздумал пуститься в ученые разглагольствования. Но полное нетерпеливого ожидания лицо Клары взывало к краткости; осунувшееся и как-то вдруг потускневшее, оно так не вязалось с теснившимися в голове доктора видениями гурий, ожидавших в своем заветном подвале отважных рыцарей, что он почувствовал прилив досады. Брови его соединились над переносицей, и он произнес:
– Завтра утром я ехать не могу.
– А днем?
– И днем не могу.
– Когда же?
– Дорогая моя, единственное, на что я сейчас способен, – это лечь в постель. Все остальное выше моих возможностей. Любезные дамы, – поклонился он группе, стоявшей внизу, в холле, – да будут сладостны ваши сновидения!
Сэр Уилоби поспешно спустился, пожал руки дамам, направил де Крея в лабораторию курить и снова присоединился к доктору Мидлтону. Он был раздосадован происшедшей сценой и не хотел оставаться с Кларой в том душевном расположении, в каком пребывал сейчас, предпочитая, чтобы она узнала об ожидавшем ее разочаровании на следующий день, когда его не будет дома.
– Покойной ночи, покойной ночи, – сказал он ей с подобающей нежностью и на мгновение склонился над ее безжизненной рукой. Затем подставил доктору свою.
– Хорошо, сынок Уилоби, я принимаю вашу дружескую поддержку, хоть и в состоянии справиться сам, – произнес отец ошеломленной девушки. – Свечи, насколько я помню, на первой площадке. Покойной ночи, Клара, покойной ночи, дружок!
– Папа!
– Покойной ночи!
– Ах! – Кларина грудь высоко вздымалась. Ей было стыдно всей этой закулисной интриги, стыдно жалкой роли, которую ей приходилось играть. – Покойной ночи.
Отец ее стал подниматься по лестнице. Она спустилась вниз, к дамам.
– Мы с отцом собирались завтра с утра поехать в Лондон, – сказала она. В голосе ее не слышно было ни малейшей дрожи, но выражение лица не оставляло места для сомнений. Де Крея оно огорчило весьма и весьма.







