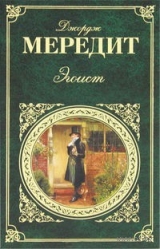
Текст книги "Эгоист"
Автор книги: Джордж Мередит
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 47 страниц)
Эгоист: Комедия для чтения
Перевод с английского Т.Литвиновой.
Редактор перевода Р.Гальперина.
Послесловие В.Захарова.
Комментарии Т.Литвиновой.

Прелюдия
Глава, в которой важна только последняя страница
Комедия – игра, назначение которой пролить свет на жизнь общества. Предмет ее – человеческая природа в той мере, в какой она проявляется в благовоспитанных гостиных, куда не проникает извне пыль житейских дрязг, где нет ни грязи, ни резких столкновений, которые так облегчают задачу художника, сообщая его картине убедительность. Чтобы завоевать доверие публики, Комедия не прибегает к прямому воздействию на ее чувства; чтобы развеять ее недоверие, не показывает бесконечно малые крупицы улик, которые можно увидеть лишь через увеличительное стеклышко часовщика. Определенная ситуация и группа лиц, в ней действующая, – вот чем занят Гений Комедии; отвергая аксессуары, он сосредоточивает внимание на этих лицах и на словах, которые эти лица произносят. Ибо, будучи духом, он в каждом человеке выискивает его духовную сущность. Острота проникновения, стремительность – вот единственные преимущества нашего духа: убедить вас, заставить вас поверить – не его печаль. Следуйте за ним, и он вам все покажет. А уж стоит ли игра свеч – решайте сами.
Есть на свете некая большая книга, самая большая книга на земле: Книга Эгоизма. Ее с успехом можно было бы назвать Книгой Земли, ибо в ней представлена вся земная мудрость. Но мудрости этой так много и размеры Книги так велики (ведь с той самой минуты, как человек впервые взялся за перо, поколение за поколением вписывало в нее все новые страницы), что пользоваться ею практически невозможно: ее необходимо прежде сильно уплотнить.
Кто же, вопрошает известный юморист, кто способен проштудировать нашу Книгу, всю, листок за листком. Ведь если ее страницы разложить по земле, они покроют пространство от мыса Ящерицы{1} до тех чахоточных клочков земли, расположенных чуть ли не на Северном полюсе, которые, по словам путешественников, приплясывают от холода и жадно ловят ртом ледяной воздух, как ловят собаки падающую со стола кость. Эта беспредельная, однообразная протяженность убивает душу. Одного взгляда на нее довольно, чтобы состарить сердце. А что, как в конце концов удастся напечатать еще страничку-другую на макушке этого величественного отшельника? Ведь при некотором усилии можно залучить в нашу Книгу и самый Северный полюс! Но даже и в этом случае мы будем знать не больше, чем знали, когда последние главы Книги свешивались с небезызвестных меловых скал Дувра, на которых восседает Его Величество Эгоист, в собственной душе созерцающий отражение бушующего кругом океана!
Иными словами – если перевести витиеватые рассуждения нашего юмориста (а на то он и юморист, чтобы нас морочить) на язык общедоступный – назначение Комедии, этого внутреннего зеркала, этого всеобъемлющего духа, заключается в том, чтобы, извлекая из упомянутых бесконечных – простирающихся чуть ли не до Северного полюса – миль премудрости самую суть, представлять ее в избранных отрывках, и притом в удобоваримой форме. Далее, он, должно быть, хотел сказать, что считает плоский реализм, метод добросовестного описательства и воспроизведения всего видимого и слышимого без разбора, главным поставщиком той мякины, коей мы вынуждены пробавляться, и главным виновником болезни века – этого необъятного, трескучего однообразия, словно неосушенное болото отравляющего воздух своими миазмами. Впрочем, каково бы ни было происхождение болезни и каковы бы ни были средства для ее излечения, она существует, и это несомненно. На днях, уподобившись усталым пешеходам, пытающимся вскочить в поезд на полном ходу, мы целой компанией отправились на поклон к Науке, в надежде, что та предложит нам какое-нибудь лекарство. Наука представила нам наших древнейших предков – из тех, что любят восседать в азиатской позе, – и тогда мы подняли такой первобытный гам, что девственные леса на берегах Амазонки могли бы нам позавидовать. Прошумев до ночи, мы легли спать, полагая, что окончательно излечились. Но при первых лучах утренней зари обнаружилось, что болезнь наша осталась при нас и мы вдобавок оказались еще и хвостаты. Мы ушли с тем, с чем и пришли, разве только обогатились сознанием, что принадлежим к животному царству. Вот и все, что могла нам предложить Наука.
Итак, наша панацея – Искусство. Обезьяны нас мало чему научат. Оставим их и лучше решим, какой вид искусства избрать для изучения Книги всеобщей мудрости, дабы, воспрянув духом, с ясной головой, покинуть страну туманов и выйти к солнцу – туда, где льется песнь. Нам предстоит решить, как читать Книгу – прибегнув ли к лупе часовщика, в освещенном кружке показывающей бесконечно малое или – с альпийских высот, куда нас возносит порожденный усилиями общественной мысли Гений Комедии, обозревать одно лишь типическое, представленное в ярких образах? Люди умные настаивают на последнем. По их мнению, Книга страдает от избытка материала, который к тому же неуклонно возрастает, и это обилие, затуманивая поверхность зеркала, в которое человечеству предлагается взглянуть на себя, мешает нам узнать наши собственные черты и тем ставит под угрозу дальнейшее наше развитие. Они, эти умные люди, настоятельно советуют нам обратиться к Гению Комедии – в конце концов это ведь наша плоть и кровь, наше родное детище. Он, и только он в состоянии сделать Великую Книгу удобочитаемой. Только Комедия, говорят они, позволит вам отдохнуть душой, только в ней ищите ключ к Великой Книге, к ее музыке. По их словам, Комедия способна в одной фразе выразить то, что в Книге занимает целые разделы, в одном образе уместить содержание объемистого тома, и следовательно, позволяет за один присест охватить огромнейшую его часть, в развернутом виде простирающуюся на тысячи миль.
Ибо истинно говорим мы вам, заверяют нас мудрецы, только тот достоин называться человеком, кто как следует окунется в Книгу, и уж всякий обязан прочитать ту страницу, что лежит перед ним открытой. Вот один из мудрецов, держа указующий перст на Книге, восклицает с пылкостью, извинительной для человека, обуреваемого энтузиазмом: здесь, и только здесь, в реторте Комедии, а не в Науке и не в Скорости, которая есть лишь синоним Жадности, ищите избавления от вашего страшного недуга! Если вы хотите жить, сохранить душу живую, не давайте крови застаиваться в жилах; пусть самый пульс ваш отражает все многообразие жизни. Прислушайтесь к нему: он либо ковыляет колченогой клячей, либо стучит, как палка горничной, выбивающей пыль из ковра, либо мерно пощелкивает, как маятник часов, отсчитывающий в глухую полночь минуту за минутой. Сам Бахус не в силах нарушить его однообразия. Но пусть даже пульс ваш мчится галопом, пусть, оседланный нетерпеливым богом, он несется вскачь – к Гименею ли или в Преисподнюю, все равно, – он будет все так же ужасающе монотонен. Чудовищная монотонность подхватила нас в свои объятия, обширные, как объятия Амфитриты{2}. И когда мы слышим грозный клич войны, мы радуемся ему, как избавлению.
Комедия, продолжает вещать мудрец, поможет нам быстро читать и усваивать прочитанное. Это она излечит нас от претенциозности, спеси, тупоумия, от грубости и дикарства, от которых мы все еще так до конца и не избавились. Она несет нам цивилизованность, завершенность, она – шеф-повар, придающий блюду его окончательный вкус. С березовой розгой в руках преследует она сентиментальность, но это не значит, что она враг романтики. Любите, увлекайтесь, говорит она, пожалуйста, но только будьте искренни! Не оскорбляйте здравый смысл. Если влюбленный, говоря о своей любви, сделает хотя бы шаг в сторону преувеличения, он тотчас попадет в капкан, расставленный ему Комедией. Только под воздействием Комедии презрение к ближнему преображается в жалость к нему, ибо благородный смех ее подобен прикосновению волшебного жезла Просперо, освобождающего Ариеля от заклятия гнусной Сикораксы{3}. Освежающий смех здравого смысла благодатен, как великолепная весенняя гроза, предвестница лета, он как легкий взмах крыла освобожденного Ариеля.
А теперь прислушайтесь к шуму, что доносится из общества, лишенного подобных дрожжей: ведь это мычание коровы, которую забыли подоить! Где найти епископа, который бы предал анафеме эту нечисть, лишенную юмора? Однако, скажете вы, не слишком ли далеко зашел наш мудрец в своем увлечении? Пусть. А все же к нему не мешает прислушаться.
Ну, а как быть с чувствительностью, с этой странной кладью непонятного назначения, без которой, однако, ни одно судно не пускается нынче в плавание? Не обойдемся без нее и мы. Быть может, она несет функцию балласта, который неким хитроумным методом научились при случае обращать в воду – разумеется, не в питьевую. Ценным грузом ее не назовешь, однако замечено, что груженное ею судно успешнее бороздит моря и океаны. Итак, мы запаслись чувствительностью. В самом деле, есть ли более печальное зрелище, нежели Эгоист, человек, пожелавший облачиться в пышные одежды за чужой счет и в результате оставшийся совершенно нагим, без единого покрова? Да ведь это ходячая патетика! Однако не бойтесь: наш пафос не обрушится на вас ураганом, не подомнет вас, не закрутит, не заставит вас захлебнуться в соленой влаге жалости. В этом и заключается наше новаторство.
Скажем без обиняков: герой – наш соотечественник и современник; состоятельный джентльмен, с положением в обществе; фигура, как мы над ней ни бились, весьма негибкая. Комичность этого персонажа не бросается в глаза – это легкая зыбь на водяной глади; и только когда очень проницательные, очень озорные бесенята, учуяв эту комичность по каким-то едва уловимым приметам, подняли у себя внизу невообразимый шум и гам, только тогда опомнились наши господа сочинители, в ангельской своей простоте готовившиеся было со спасительной лапидарностью представить нашего героя состоятельным джентльменом из хорошей семьи. Только тогда и признали кое-какие смешные черточки в этом кумире благословенного острова, где приличия почитаются выше всего, где видимость ставят выше сущности. Пакостливая натура бесенят делает их проницательными. С особым смаком разоблачают они смешное, когда оно прикрывается напыщенностью. Стоит им почуять Эгоиста, как они уже тут как тут, располагаются вокруг него бивуаком и, поправив фитили в своих фонариках, садятся на корточки в ожидании предстоящего зрелища. Хватка у них мертвая, они нипочем не выпустят джентльмена, попавшего к ним на подозрение, покуда тот, сам того не ведая, не начнет кривляться, и выплясывать, и всячески проявлять свою подлинную сущность. Тут-то и начинается потеха! Бесенята способны веками выслеживать какой-нибудь знатный род: присутствуя при появлении на свет каждого нового отпрыска, они будут прилежно сверять все данные, а когда наступит час, возьмутся за руки и начнут кружить веселым хороводом вокруг покачнувшегося фамильного столпа и распевать свои песенки. Можно подумать (а впрочем, так оно, верно, и есть), будто они издавна угадали в нерожденном и даже незачатом еще носителе фамильных свойств обреченного колосса Эгоизма. Покуда Эгоизм переживает пору расцвета и держится в рамках благоразумия, служит оплотом государства и приносит пользу обществу, бесенята и пикнуть не смеют. Они выжидают.
Когда-то, во время оно, жил-был некий достославный Эгоист, основоположник рода. Казалось бы, потребные для поддержания рода дозы фамильного эгоизма должны были бы со временем уменьшаться. Во всяком случае, полный возврат к исконному пращуру – пусть даже под личиной современной утонченности – невозможен. Такой анахронизм был бы подобен землетрясению, и дом, где завелся бы столь чудовищный призрак, должен бы неминуемо рухнуть. Уж коли на то пошло, лучше бы Эгоист упорствовал в традициях предков и вовсе не поддавался прогрессу! Зато у бесенят ушки на макушке, глазки сверкают, они так и подскакивают в радостном предвкушении комической драмы самоубийства.
«И, возлюбив себя, себя же он убил».
Если в отечественной поэзии этой строки еще нет, пусть она будет в нее внесена – в качестве эпитафии нашему герою.
Глава первая
Незначительное происшествие, свидетельствующее об унаследованной склонности к хирургии
Зловеще настороженные глаза, видимые и невидимые, следили за младенческими годами Уилоби, представителя пятого колена Паттернов. Основатель рода, адвокат Саймон Паттерн из Паттерн-холла, человек незаурядных способностей и непоколебимого честолюбия, обладал мужественным искусством говорить «нет» роковым силам разрушения, олицетворяемым толпой родственников, осаждающих удачника. Слово это отзывалось погребальным звоном в ушах младших сыновей, возвещая смерть их упованиям, – с такой твердостью он его произносил. Ведь дубу, чтобы вырасти, нужен простор, нужно, чтобы вокруг него не толпилась всякая древесная мелюзга. Точно так же не достичь ему могучего расцвета, если соком его корней будут питаться боковые отпрыски. Умение орудовать ножом – вот основа, на которой зиждется величественное здание знатного рода. Клочок земли раздобыть нетрудно, кирпич – тоже, жена и дети – дело наживное, а вот умение энергично пользоваться ножом – дар врожденный, и в нем залог дальнейшего роста. Во времена Паттерна Пятого, этой надежды отечества, по свету бродило великое множество его нищих однофамильцев. Один такой Паттерн служил в морской пехоте.
О существовании лейтенанта Кросджея Паттерна отечество и нынешний глава рода узнали одновременно, после того как этот скромный молодой офицер отличился при штурме какой-то крепости на какой-то китайской реке, явив пример столь милой британскому сердцу спокойной, некрикливой отваги. Собственно, заключение о возрасте офицера было сделано на основании его чина, а быть может, также и скромности лейтенанта, который, по его словам, «лишь выполнил свой долг».
Наш Уилоби на ту пору обретался в колледже и жаждал предаться благородным порывам, свойственным юности. Подвиг его родственника и, главное, то обстоятельство, что имя Паттернов попало в газеты, произвели на него огромное впечатление. Впечатление это не утратило своей свежести и несколько месяцев спустя, когда Уилоби достиг совершеннолетия и вступил в права наследства. Он послал лейтенанту Кросджею Паттерну чек на сумму, равную годичному жалованию этого доблестного воина. «Родная кровь – не вода», – сказал он домашним, тем самым подтвердив первейший, – так сказать, химический, – закон щедрости. Пусть лейтенант и служит в морской пехоте, рассуждал Уилоби, а все-таки он Паттерн. Вопрос же о том, как случилось, что человек с именем Паттернов попал в морскую пехоту, принадлежит к разряду тех бессмысленных вопросов, какими докучают верховному судье, ведающему раздачей благ и невзгод. Свой чек Уилоби сопроводил любезным письмом, в котором приглашал лейтенанта посетить родовое имение, когда тот найдет удобным, и заверял своего родственника и друга, что и сам благодаря ему почувствовал вкус к солдатской жизни. Юный сэр Уилоби не пропускал случая упомянуть в разговоре о «своем воинственном однофамильце и дальнем родственнике, молодом Паттерне… из морской пехоты». Получалось очень смешно. Еще большим успехом пользовался рассказ о подвиге этого однофамильца: лейтенант, оказывается, вызволил из плена подвыпившего матроса Ее Величества и поволок трех рыцарей черного дракона на желтом фоне в плен; чтобы осуществить эту последнюю операцию, он поставил их спиной друг к другу и связал косичками.
Такие подвиги хладнокровной отваги приятно щекочут чувство юмора у джентльменов, подвизающихся в тылу. Мы жители маленького островка, а ведь вот какие номера откалываем! Правда, дамской половине Большого дома – матушке сэра Уилоби и его двум теткам, леди Эленор и леди Изабел, – было несколько труднее смириться с мыслью, что один из Паттернов служит в морской пехоте. Но что же тут такого? У нас в Англии зачастую и герцоги не брезгуют финансами, а если верить ученым исследователям генеалогии, в жилах многих наших ремесленников и лавочников течет королевская кровь. При всей нашей спеси, мы народ своеобразный, и никогда нельзя поручиться, что мясник, поставляющий мясо к нашему столу, не является отдаленным потомком Тюдоров, а плетеное кресло, в котором мы сидим, – не изделие рук какого-нибудь Плантагенета. А там, глядишь, окажется, что… Впрочем, лучше не задумываться! Уилоби представлял себе своего доблестного кузена этаким нечесаным малым, героем футбольного поля; время от времени он, однако, недоумевал вслух, не понимая, отчего тот так и не захотел вкусить гостеприимства Большого дома, а в ответ на письмо и приложенный чек ограничился пространными изъявлениями благодарности.
Как-то под вечер, в промежутке между двумя ливнями, сэр Уилоби, сопровождаемый вереницей любителей предобеденного моциона, прогуливался по величественной террасе Большого дома со своей невестой, прекрасной и блистательной Констанцией Дарэм, которой он на правах влюбленного изливался в своих чувствах. Дойдя до конца террасы и собираясь уже повернуть назад, сэр Уилоби, как всегда покровительствуемый случаем (ведь все, что ниспосылает нам невидимый даятель благ и невзгод, именуется у нас случаем), кинул взгляд в сторону липовой аллеи и, будучи наделен тонкой нервной организацией, испытал нечто вроде предчувствия, ибо взгляд его упал на какого-то коренастого, приземистого человека, пересекавшего усыпанную гравием площадку перед парадным крыльцом. Ничто не выдавало в нем джентльмена – «ни шляпа его, ни пальто его, ни обувь его, и ничего, что было у него»; так, в библейском стиле, столь излюбленном истинными джентльменами, рассказывал впоследствии Уилоби о своем посетителе. Несколькими беглыми штрихами он обрисовал наружность этого субъекта, надо сказать, достаточно непривлекательную: с баулом в руке, подняв ворот под меланхолически обвисающими полями шляпы, без зонта и без перчаток, он походил на обанкротившегося лавочника, скрывающегося от кредиторов.
Впрочем, инцидент, который мы взялись описать, сам по себе довольно тривиален; сэру Уилоби была подана визитная карточка лейтенанта Паттерна, и сэр Уилоби, бросив ее обратно на поднос, сказал лакею: «Дома нет».
Он был глубоко разочарован и чувствовал себя обманутым: возраст и, главное, внешность человека, который так некстати пришел заявить свои родственные притязания, были совершенно неприемлемы. Сэр Уилоби, со свойственным ему тактом, мгновенно осознал всю невозможность представить знакомым этого малорослого невзрачного увальня в качестве доблестного лейтенанта морской пехоты, который доводится ему кузеном. Слишком много, слишком горячо говорил он об этом человеке. Будь это молоденький лейтенантик с более или менее вульгарной наружностью, его еще можно было бы с грехом пополам протащить в свой круг, рассказав в шутливом гиперболическом тоне историю его подвига и тем самым искупив неприглядность его фигуры. Но плотный морской пехотинец, достигший солидного возраста и чина младшего офицера, был решительно невозможен. Элементарная деликатность повелевала избавиться от него без лишних разговоров. Джентльмен, совершивший эту операцию, проявил необычайное для своих лет умение орудовать ножом.
В ответ на удивленный взгляд мисс Дарэм юному сэру Уилоби пришлось рассказать, кто этот отвергнутый посетитель.
– Я подкину ему еще один чек, – заключил он, подметив краски боли и стыда на лице своей спутницы.
И с той самой поры, как смиренная фигура лейтенанта Кросджея Паттерна повернула назад и под сгустившейся дождевой тучей вновь зашагала вдоль липовой аллеи, хоровод бесенят плотным кольцом сомкнулся вокруг сэра Уилоби и никто из них уже ни на минуту не покидал своего поста; с пристальным вниманием следили они каждый его шаг. Мартышки, алчным взором караулящие руку, что готовится кинуть им в клетку лакомый кусочек, – вот с кем можно было бы сравнить наших бесенят. Они углядели в своем подопечном новый штришок: едва уловимое проявление исконной фамильной черты.
Глава вторая
Юный сэр Уилоби
Озорные бесенята, состоящие при Гении Комедии в почтенной должности комнатных собачек, навострили ушки еще три года назад, задолго до обручения сэра Уилоби с прекрасной мисс Дарэм. Это было в день его совершеннолетия, когда миссис Маунтстюарт-Дженкинсон изрекла о нем свое знаменитое слово. Словечки миссис Маунтстюарт, пусть не всегда уместные, обладали свойством врезаться в память. Они попадали не в бровь, а в глаз, и ни одно семейное торжество – будь то день рождения иди брачное пиршество – не обходилось без нового свидетельства этого ее умения. И всякий раз словцо ее отправлялось путешествовать по всему графству, где она могла бы царить безраздельно с помощью розги карикатуриста, если бы в придачу к верному глазу обладала еще и озлобленным умом. Но богатая и доброжелательная миссис Маунтстюарт в своей инстинктивной нелюбви к тому, что и в самом деле не заслуживает сочувствия, и в пристрастии ко всему, что произрастает на солнечной стороне бытия, походила на матушку природу. Ей было достаточно взглянуть на человека, и меткое словцо как-то само собой вылетало из ее уст. А уж раз вылетев, оно приставало с такой силой, с какой не пристанет ни одно вымученное литературное определение. Обмолвившись однажды о Летиции Дейл, что та «несет целый роман на кончиках ресниц», она, можно сказать, нарисовала ее портрет. А ее определение Вернона Уитфорда как «Феба-Аполлона, записавшегося в монахи» как нельзя лучше передавало тускловатое обаяние этого тощего длинноногого студиозуса.
Афоризм миссис Маунтстюарт, посвященный юному Уилоби, был еще лаконичнее, и это достоинство особенно выделялось в день, когда виновник торжества от зари и до зари только и слышал что дифирамбы, славословия и панегирики в традициях Цицеронова красноречия. Один вид этого богатого, красивого, любезного и щедрого джентльмена, казалось, вдохновлял гостей обоего пола на оргию лести. И вот, когда все кругом торжественно и пространно превозносили до небес его достоинства, миссис Маунтстюарт сказала просто: «Сразу видно человека с ногой».
Казалось бы, здесь не было ничего нового. Однако в словах миссис Маунтстюарт все увидели нечто гораздо большее. Она произнесла их без всякого нажима, словно один из тех светских пустячков, какими обмениваются леди и джентльмены в гостиных. Но они были сразу подхвачены, и не прошло минуты, как в противоположном конце длинного зала уже чувствовалось, что новое крылатое выражение миссис Маунтстюарт отправилось в полет. И сейчас же оттуда, из дальнего конца зала, леди Паттерн снарядила на разведку некую юную Гебу; обойдя с фланга танцующие пары, та возвратилась к ней с точным докладом. Даже в немудреных отроческих устах крылатое слово не утратило своей силы. Оно было совершенно! Пеаны красоте и уму молодого сэра Уилоби, его аристократической осанке, благородству манер и нравственному совершенству – все это было привычно. Приятно, разумеется, как всякая дань верноподданнических чувств, но привычно и чуть ли не пошло по сравнению с живым и непринужденным определением миссис Маунтстюарт. Ведь миссис Маунтстюарт, как заметила мисс Изабел своей приятельнице леди Буш, сумела в нескольких словах выразить все, что говорилось до нее, и этим показала, как нелепо разглагольствовать о том, что и без того ясно каждому.
То была отповедь аристократки ограниченным провинциалам. «Вы правы, достопочтенные леди и джентльмены, – словно говорила миссис Маунтстюарт, – Уилоби наделен всеми превосходными качествами, какие вы так любезно в нем подметили: он отличный собеседник, он танцует, как бог, и держится в седле, как фельдмаршал, его позы величавы и непринужденны, и вместе с тем вы ни на минуту не забываете, что перед вами воплощенный идеал молодого английского джентльмена. Алкивиад{4} в парике вельможи при дворе Людовика Четырнадцатого не превзошел бы его изяществом. Он – все, что хотите, и если бы я задалась целью осыпать его изысканными комплиментами, я справилась бы с этой задачей не хуже вашего. Вместо этого я только спрашиваю: а заметили ли вы в нем человека с ногой?»
Вот как можно было бы истолковать ее изречение! Заключить в двух-трех словах такое богатство смысла значит провозгласить торжество духа, а заодно показать, что общество, в котором умеют ценить такое остроумие, достигло высочайшей степени утонченности. Как пояснила мисс Эленор Паттерн своей приятельнице леди Калмер, нашему взору отнюдь не предлагается скользить вдоль фигуры Уилоби вниз, к его ноге; напротив, миссис Маунтстюарт приглашает нас восхищаться им снизу вверх, начиная с ноги. Все это, впрочем, проза. Вдумайтесь в слова миссис Маунтстюарт. Куда только, в какие поэтические сферы они не увлекут наш дух! И с каким упоением парим мы в этих эмпиреях! В самом деле, кто из нас, хранящих меланхолическую преданность памяти Карла Мученика{5}, не питает одновременно игривой нежности ко двору его весельчака сына{6}, к той поре, когда любовь украшала ногу кокетливыми бантиками и нога была верховным владыкою во дворце? Грешный двор, грешная пора! А все же мы грезим об этой поре, когда – не то что ныне! – шум и возня неотесанной черни, копошащейся где-то внизу, не оскорбляли слух английского кавалера, этого воплощения благородного изящества. Какие великолепные манеры, и в каждом жесте – какая неизъяснимая сладость! И даже если дамы бывали чересчур… но нет, будем считать, что на них возвели напраслину! Впрочем, если они и бывали подчас чересчур нежны, – что ж! – в ту пору джентльмены были джентльменами и стоили того, чтобы из-за них погибнуть! Таков английский миф, и своему распространению в обществе он обязан тоске по сладкозвучной гармонии джентльменства, которая, как полагают, некогда царила на нашем островке. Ведь точно так же и поэты наши тешат свое воображение преданиями о рыцарях Круглого стола.
Миссис Маунтстюарт задела трепетную струну. «Несмотря на отвратительный костюм, который вынужден носить современный мужчина, видно, что Уилоби – обладатель Ноги с большой буквы».
Иначе говоря, перед вами нога прирожденного кавалера: как бы вы ее ни прятали, в какие бы нелепые одежды ни облекали, все равно она существует – для дам, у которых есть глаза. Вы видите эту ногу или, во всяком случае, видите, что она у него есть. А что нога у Уилоби была и в самом деле на удивление стройной – это дамы знали точно: недаром в его гардеробе хранился костюм придворного кавалера.
Миссис Маунтстюарт как бы утверждала, что ногу его видно при всех условиях, ибо контуры ее выжжены огнем – они так и просвечивают! Подобно ноге Рочестера, Бэкингема, Дорсета и Саклинга{7}, она улыбалась, лукаво подмигивала или выражала покорную мольбу, не теряя при том своей уверенной красоты; то властная, то нежная, то дерзкая, то скромная, она как бы говорила: «Вы будете меня боготворить», затем лишь, чтобы тут же сказать: «Я вам предан до гроба». Нога, которая является одновременно вашим господином и рабом. Нога приливов, отливов и легкой зыби. Нога, которая, стоит ей отбросить притворную робость, шагнет в самое сердце женщины. Роковая нога!
Без самодовольства ей никак нельзя. Смирением не покоришь ни женщину, ни народы. Без гордости нет блеска! Довольство собою – неизбежный спутник осознанного совершенства. Прислушайтесь к любой мелодии, что вас пленяет, прислушайтесь внимательно, и вы непременно различите в ней этот внутренний голосок самомнения, – право же, очень потешный!
Нечего и говорить, что у самого Уилоби, хоть он и обладал ногой кавалера той безмятежной поры, не наблюдалось ничего от ее грешных нравов. Он был как бы воплощением самых заветных наших чаяний, когда ради очищения нравов нам пришлось пожертвовать Ногой. Достигли ли мы желанной цели – вопрос спорный. Зато Ногу потеряли несомненно.
Лакеи и придворные, скажете вы, а также шотландские горцы сохранили ногу и поныне; ее еще можно увидеть в кордебалете – стройную на заглядение; сохранилась она и у ломовых извозчиков. Но разве это нога? Разве ее имели мы в виду, говоря об этом тончайшем инструменте? Это просто ноги, выполняющие ножную работу, бессловесные, как скот. Мы же говорим о ноге кавалера, об этом чуде поэзии и доблести. Кавалер владеет ею, как Цицерон – языком. Это лютня, на которой он воспевает свою возлюбленную, или, если она к нему жестока, – рапира, которою разит ее в самое сердце. Словом, это нога, одаренная душой и разумом.
Вот по ней пробежала тень – берегитесь, то ловушка! Но вот она засияла – и вы застигнуты врасплох. Она умеет стыдливо зардеться, побледнеть, умеет и нежно нашептывать и разразиться громким восклицанием. Она приоткрывает завесу, позволяя взглянуть (но только на мгновение, иначе бы вы ослепли!) на олимпийского бога, на Зевса, принявшего обличье паркетного рыцаря.
Словцо миссис Маунтстюарт – в глазах родни юного сэра Уилоби, а также в глазах его вдумчивых поклонников и поклонниц – придало его вступлению в наследные права торжественный оттенок, озарив этот вечер отблеском той отдаленной эпохи нашей истории. Юный сэр Уилоби олицетворял собою веселый двор Карла Второго, сделавшийся вдруг добродетельным, но не утративший притом своего блеска. Он танцевал в лучах этого сияния, и можно представить себе, как великолепен он был в глазах собравшегося общества.
Образование сэр Уилоби получил домашнее, княжеское. В странах, где накоплены огромные богатства, водятся в большом изобилии маленькие князьки. Свободные от воинской службы, эти феодалы в молодости проявляют известную склонность к капризам и даже своеволию. Свободный от каких-либо обязательств по отношению к верховному властителю и к государству, такой молодой князек принадлежит одному себе и верой-правдой служит этому единственному своему хозяину – благо у него вполне хватает времени в настоящем и предвидится роскошный его избыток в будущем. Все это, казалось бы, должно было изнежить князька, и, насколько известно, во всех других странах Европы так оно и получилось. Но благородная кровь, текущая в жилах наших князьков, в сочетании с нашим климатом, способствует страсти к охоте, а затравив лису, они приносят пользу одновременно отечеству и собственному здоровью. Таким образом, у нас создалось мужественное и славное племя князьков, среди которых Уилоби был отнюдь не из последних. Не желая ни в чем уступать себе подобным, он усердно развивал свои способности. Если бы общественный вкус склонялся к философии и нашими национальными героями были философы, Уилоби занялся бы книгами. Правда, он интересовался наукой, у него даже была собственная лаборатория.







