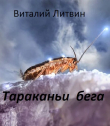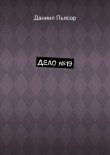Текст книги "Дело Локвудов"
Автор книги: Джон О'Хара
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 31 страниц)
– Нет, сэр.
– Не упоминали. Уильям Л.Локвуд был одним из основателей моей студенческой общины «Сигма Эта».
– Вот как?
– Томас С.Белл, Джеймс П.Колдуэлл, Дэниел У.Купер, Бенджамин П.Ренкл, Франклин Г.Скоби, Айзек М.Джорддан и Уильям Л.Локвуд. Они учреждали «Сигма Эта» в университете Майами в тысяча восемьсот пятьдесят пятом году. Все они, кроме Локвуда, были членами клуба «Дека». Когда меня посвящали, я должен был выучить все это наизусть.
– Неужели?
– Хорошо бы тебе выяснить, нет ли у тебя родственной связи с Уильямом Л.Локвудом. Тогда мы с тобой оказались бы в некотором роде братьями по общине. Жаль, что в Принстоне нет «Сигма Эта». Раньше она была, но потом Принстон упразднил общины. А я бы хотел, чтобы Дэвид состоял в «Сигма Эта». У тебя отец масон, Джордж?
– Нет, сэр. Он в «Зета Пси».
– Так одно с другим не связано.
– О! А я думал, это вы связываете «Сигма Эта» с масонами.
– Не совсем. Тебе, наверно, показалось, что я связываю, это моя вина. Но масоны не имеют отношения ни к тому, ни к другому клубу. А вот твой дед Хоффнер – масон, это я точно знаю.
– Неужели?
– Ты разве не знал, Джордж? Да, у тебя очень прочная связь с масонами – по материнской линии. Как-нибудь мы еще поговорим с тобой об этом. Меня сейчас немного беспокоит положение Дэвида в Принстоне. У вас в Принстоне клубы, а не общины, поэтому я не могу к ним обращаться, как обратился бы в «Сигма Эта». Дэвид же сказал мне, что он едва ли вступит в клуб. Так вот, Джордж: раз уж ты становишься членом нашей семьи, хорошо бы тебе поговорить с ним и объяснить, насколько важны контакты с людьми.
– Очень щекотливое это дело, господин судья.
– Щекотливое дело? Это почему же?
– Я состою в клубе…
– Знаю. Говорят, в одном из лучших.
– Благодарю вас. Но если я стану убеждать Дэвида в необходимости вступить в какой-то клуб, он может подумать, что я пытаюсь вовлечь его в свой собственный.
– Ну и что, если подумает? Было бы совсем неплохо, если бы мой сын состоял в одном клубе с моим зятем. Если вы не можете быть членами «Сигма Эта».
– Но я не решаю за свой клуб, господин судья. Не в моей власти сделать кого-то членом клуба. Опустить черный шар я могу, а сделать человека членом клуба – нет. Вы же знаете эту систему.
– Конечно, знаю. Но организация, в которой ты состоишь, – всего лишь клуб, это не тайное общество вроде «Сигма Эта» или масонской ложи. Обычный клуб.
– У нас есть свои тайны.
– Значит, я верно понял слова Дэвида: ты не намерен предлагать его кандидатуру в свой клуб. Дело, значит, вовсе не в его нежелании вступить в клуб. Понимаешь ли ты, что травмируешь мальчика? Понимаешь ли, что это значит, если трем товарищам по Мерсерсбергу наверняка предложат вступить в клуб, а ему нет?
– Пусть его товарищи не будут так уверены. Они не узнают о решении до последней минуты.
Судья Фенстермахер постучал каблуком по ковру, провел пальцем под воротничком, поднялся со стула и подошел к окну; потом вернулся и встал перед Джорджем Локвудом.
– Давай говорить прямо: ты просишь согласия на брак с моей дочерью, не желая ничем помочь ее младшему брату.
– Господин судья, я сделаю все, что в моих силах, чтобы помочь ему.
– Все, что в твоих силах? А что ты сделал? Сидел сложа руки и смотрел, как эти ублюдки не пускают его в твой собственный клуб? И ты считаешь, что после этого кто-либо из моей семьи может переступить порог этого заведения? Думаешь, Элали пойдет с тобой в этот клуб? Или я? Или миссис Фенстермахер?
– Извините, господин судья. Я не знаю. Знаю только, что вот уже почти год я пытаюсь добиться приглашения Дэвида в наш клуб. Но не я это решаю. У нас комитет.
– Будь он проклят, этот ваш комитет!
– Ему могут предложить стать членом другого клуба.
– А мне не нужен другой клуб. Я хочу знать, пользуется ли мой будущий зять каким-нибудь авторитетом у своих друзей. Если нет, то мне такой зять не нужен.
– Что ж, видно, так тому и быть. Придется сказать Лали, что вы отказали мне.
Разговор этот длился дольше, чем предполагали Лали и ее мать, сидевшие в это время в гостиной. Когда Джордж вышел из кабинета судьи, нервные выжидательные улыбки сошли у них с лиц.
– Что случилось? – спросила Лали.
– То есть как это – «так тому и быть»?
– Наверно, просил дать время подумать, – предположила миссис Фенстермахер. – Да?
– Он считает, что я должен добиться принятия Дэвида в мой клуб.
– О господи. Я-то надеялась, что этот вопрос не всплывет. Дэвид понимает, но судья, я знала, не поймет. О господи.
Лали подошла к Джорджу, и тот обнял ее.
– Не плачь, – сказал он и повернулся к ее матери. – Мне уже больше двадцати одного года, миссис Фенстермахер. И Лали скоро исполнится столько же.
– Это так, но только не будьте опрометчивы.
– При чем тут опрометчивость? – возразил Джордж Локвуд. – Я хорошо обеспечен и могу содержать ее.
– Не в этом дело, Джордж. Я сама поговорю с судьей.
Это было в воскресенье. Все уже вернулись из церкви, но праздничный обед, всегда следовавший за службой в церкви, еще не начинался.
Из кабинета донесся низкий голос судьи:
– Бесси, иди сюда.
– А вы побудьте здесь, – шепнула Бесси Фенстермахер, вставая.
Джордж Локвуд не знал, о чем говорили судья и его жена. С четверть часа просидели они с Лали в гостиной у закрытой двери, которая обычно оставалась открытой, утешая друг друга словами любви и поцелуями и выражая сквозь слезы свой гнев и возмущение. Но вот из кабинета в дверь постучали, она открылась, и Беге и Фенстермахер, слегка улыбаясь, сказала:
– Все уладилось. Вы только помалкивайте. Сделайте вид, что ничего не произошло. Давайте обедать.
– Мама, что ты ему сказала? – спросила Дали.
– Ну, сказала и сказала. Не спрашивай меня больше об этом. Обед готов. – Она коснулась пальцем руки Джорджа. – А ты будь благоразумен, Джордж.
– Хорошо, миссис Фенстермахер.
– Помни, что он судья и привык считать себя во всем правым. Так что не ставь его в положение виноватого. Будь вежлив, как будто ничего не случилось.
– Постараюсь.
Обедали они вчетвером. Судья встал и начал резать жареную курицу. Это занятие избавляло его от необходимости говорить.
– Тебе белого мяса или темного, Джордж?
– Я люблю белое.
– Я вижу, у тебя в начинке много сладкого майорана, Бесси, – сказал судья. – Может, Джордж этого не любит?
– Нет, сэр, я люблю майоран.
– Это хорошо. Лали, передай Джорджу тарелку. Бери картофельное пюре и фрукты, Джордж. Подливка рядом с тобой. Лали, дать тебе еще крылышко?
Вначале разговор касался еды, этой надежной и неисчерпаемой темы пенсильванских немцев. Обед состоял из весьма внушительного основного блюда и сладкого пирога с мороженым. Джордж и судья запивали еду кофе, а женщины – водой. Но хотя блюд было только два, еды на столе лежала целая гора: мясо, сладкий картофель, картофельное пюре, красная свекла, вареная кукуруза, пюре из репы, луковый соус, петрушка в оливковом масле, клюква и капустный салат. Пока оба мужчины и обе женщины ели, ни о чем другом они не думали и не говорили. У пенсильванских немцев не принято заниматься за столом посторонними разговорами, и молчание никого не смущало. (Расшумевшихся детей спрашивают: «Вы что, есть пришли или языком молоть?» Бывает, что у слишком разговорившегося ребенка отнимают сладкое и отдают более молчаливому соседу. «В другой раз не будешь болтать», – говорят ему родители.)
После обеда мужчины прошли в кабинет судьи выкурить по сигаре.
– Когда тебе возвращаться в Принстон? – спросил судья.
– Поезд уходит в три десять.
– Пересадка в Рединге, потом в Филадельфии? Во сколько ты там будешь? К ужину?
– Нет, после.
– Тогда мы должны дать тебе чего-нибудь на дорогу.
– Что вы, спасибо. Не надо.
– В воскресные дни с едой плохо, но, конечно, как знаешь. К своим не заедешь повидаться? Правда, все воскресенье мотаться с поезда на поезд – тяжеловато.
– Сегодня дело того стоило.
– Надеюсь. Погорячились мы, но теперь – все.
– Тем не менее мне хотелось бы кое-что сказать вам, господин судья.
– Все о том же? О моем сыне?
– Да, сэр.
– Не надо. Считаю вопрос закрытым и возвращаться к нему не хочу. Никогда. Дал слово.
– Как вам угодно, сэр.
– Когда-нибудь и у тебя будет сын… Нет, больше ничего не скажу. Пусть Лали будет счастлива с тобой – мне этого достаточно… Ну, Джордж, кажется, едет коляска. Она отвезет тебя на вокзал. Да, она. Чемодан твой уложен? Ах да, ты же без вещей. Весь день в поезде.
– С семи утра. Ну, спасибо вам, господин судья.
– Значит, никаких взаимных обид.
– Никаких, сэр.
Но, возвратившись в Принстон, где он уже не видел перед собой прелестного заплаканного личика Лали, Джордж почувствовал первые уколы сомнения, которые каким-то странным, непонятным образом были связаны с Бесси Фенстермахер, До этого переполненного событиями дня он считал ее тихой, кроткой женщиной, которая во всем послушна мужу, ведет его дом, если и имеет какую-то власть, то лишь над детьми, да и то – кратковременную. Но в этот день, за какие-то четверть часа, она показала себя в ином свете. Джордж вспомнил, что именно Бесси Фенстермахер предложила уговор, а не помолвку. В памяти его жила сцена в гостиной и Лали со слезами досады на глазах. Да, это были слезы досады, но чьей досады? Теперь он понимал, почему Лали быстро перевела тогда взгляд на мать и потом не отводила его: она была раздосадована лишь постольку, поскольку была раздосадована мать. В его ушах как бы вновь прозвучали слова Бесси Фенстермахер: «Я-то надеялась, что этот вопрос не всплывет. Дэвид понимает, но судья, я знала, не поймет… Я сама поговорю с судьей». Тихая, кроткая женщина предвидела размолвку. Вероятно, она уже говорила с Дэвидом о его затруднениях со вступлением в клуб и была уверена, что сумеет утихомирить мужа. Тихая, кроткая маленькая женщина, так часто напоминавшая Джорджу Локвуду Лали, верховодит в семье.
Но ведь это же естественно, что мать напоминает дочь, а дочь напоминает мать.
Джордж Локвуд решил пойти прогуляться, однако, выйдя из общежития, понял, что идет не гулять, а проверить, не горит ли в окне Неда О'Берна свет. Как он и ожидал, свет горел.
О'Берн, живший в своей комнате один, сидел в поношенном шерстяном халате в кресле, положив ноги, обутые в домашние ковровые туфли, на подушечку. Он держал перед собой книгу и курил кальян.
– А я тебя вспоминал.
– Что читаешь?
– «Путешествие миссионера по Южной Африке» Дэвида Ливингстона.
– Что же заставило тебя вспомнить обо мне?
– А то, что я был занят своим делом, готовясь к отъезду в Южную Африку, а ты был занят своим – в Лебаноне. Итак, ты вернулся. Садись, рассказывай. В верхнем ящике есть сигара. Я приберегал ее себе на утро, но ты бери, кури. Это вынудит меня курить трубку, от которой я тщетно пытаюсь отучить себя.
– Сигара – это хорошо, только спичку дай.
– Коробок справа от тебя, на столе. Что-нибудь не так, старина? По лицу вижу, что не так.
Джордж Локвуд рассказал, как было дело, но о сомнениях, возникших потом, умолчал.
– Ну и хорошо.
– Это все, что ты можешь сказать? – спросил Джордж.
– О нет.
Увы! Я никогда еще не слышал
И не читал – в истории ли, в сказке ль, —
Чтоб гладким был путь истинной любви.
Но – или разница в происхожденье…
Или различье в летах…
Иль выбор близких и друзей…
А если выбор всем хорош – война,
Болезнь иль смерть всегда грозят любви
И делают ее, как звук, мгновенной,
Как тень, летучей и, как сон, короткой.
– Ну и ладно.
– Помолчи…
– Вот теперь я кончил. Прочел тебе весь монолог, а не только процитировал строку насчет истинной любви.
– Весьма тебе благодарен. Очень трогательно.
– Мне кажется, Джордж, что ее мать пользуется в семье большим влиянием. На твоем месте я держался бы ближе к ней. Она может пригодиться. Ясно как день, что она целиком на твоей стороне. Но есть человек, на месте которого я не хотел бы сегодня быть.
– Кто? Судья?
– Девушка. Лали.
– Почему?
– Не знаю, как тебе объяснить.
– Может, у Шекспира и на этот счет что-нибудь сказано?
– Уверен, что сказано, но я не хочу рисоваться. Я просто сочувствую девушке, на чью долю выпал сегодня довольно скверный день. Возможно, тебе захочется дать мне по зубам, Джордж, но, по-моему, ты ее не любишь.
– У меня нет желания бить тебя по зубам.
– Тогда что же ты ей прямо не скажешь, черт побери? Впрочем, нет, не надо.
– Что сказать?
– Это охлаждение, которое ты сегодня испытал, – оно пройдет. Может, тебе лучше переждать день-другой? Ты разговариваешь так, как не разговаривают влюбленные. Будет честнее, если ты положишь этому конец, пока не наделал больших бед. Не надо тебе было приходить ко мне сегодня, право. В таких случаях я почти всегда на стороне женщин, хотя знаю, что они умеют позаботиться сами о себе. Но на этот раз попробую принять твою сторону.
– А ты не становись ни на чью.
– Нет, я все же встану на твою сторону. Душой я с этой девушкой, но женщины в таких вещах мудрее и хитрее нас. Так вот, взгляни на это дело нашими глазами. Предположим, ты порвешь с ней. Если ты ее не любишь, то разрыв будет для нее благом. А если любишь, в чем я сомневаюсь, то сам же в первую очередь и останешься в проигрыше. Почему ты мне не возражаешь, почему не стараешься убедить, что любишь ее? Ты знаешь почему, Джордж. Не можешь заставить себя лгать самому себе.
– Я не знаю, что думать и что предпринять.
– Напиши ей сегодня письмо и положи на ночь себе под подушку. Выскажи все, что думаешь, а утром проверь, сколько в сказанном правды. Знаешь, у нас, католиков, есть способ, от которого я не хотел бы отказываться: исповедь. Сам я после приезда сюда перестал исповедоваться, но знаю, что многим несчастным это помогает жить. Раз в месяц человек выкладывает все священнику и, выйдя из исповедальни, чувствует себя так, словно начал жизнь заново. «Absolve te»[23]23
«Отпускаю тебе грехи твои» (лат.)
[Закрыть], – повторяет этот человек и пятнадцать минут живет в другом мире. До тех пор, пока не наткнется где-нибудь в трамвае на смазливую девчонку. Но теперь уже все его нечистые мысли и желания записываются на новой доске, а не на старой. Очень удобно. И этого мне как раз не хватает.
– Все вы лицемеры.
– Ни секунды в этом не сомневаюсь. Но на пятнадцать минут мы – самые чистые ангелы. Ни страха, ни забот. Так напишешь письмо, Джордж? Оно поможет тебе узнать кое-что о себе.
– Что именно?
– Не знаю. Сам разберешься. Может оказаться, что твое чувство к этой девушке гораздо глубже, чем ты предполагал. Я считаю себя достаточно умным человеком, но больше всего меня пленяет мой собственный пупок. Между прочим, у Чэтсуорта неприятности. Он тебя искал. Я сказал, что ты уехал на весь день.
– Женщина?
– Девица. В Нью-Брансуике. Он сказал ей, что живет в Рутжерсе, а ее отец выследил его и нашел здесь. Она забеременела. Они требуют тысячу долларов, а Чэт достал лишь около четырехсот. До завтрашнего вечера ему надо собрать всю сумму.
– Так идем к нему. Я могу одолжить ему денег.
– Я дал ему двести – все, что у меня было. Потом отыграю. Сейчас пойдем?
– Конечно.
– Он хотел бы избежать огласки, поэтому решил обратиться к узкому кругу людей. Можешь ты выписать чек на шестьсот – семьсот долларов, чтобы банк выдал по нему наличными?
– Да. Могу и больше, если понадобится.
– Тогда пойдем к Чэту. Холодно на улице?
– Похолодало. Надень пальто. Давно он крутит с этой девицей?
– Говорит, что с осени.
– Я могу сходить в банк утром. И Чэт берет на себя всю ответственность? Откуда он знает, что ребенок от него?
– Мы с ним об этом уже толковали. По его словам, отец не хочет поднимать шума. Девица – не воплощение целомудрия, но она забеременела, а отец ее беден и требует, чтобы Чэт дал денег на воспитание ребенка. Уверяет, что не станет шантажировать.
– Это он говорит, а сам что делает?
– Он знает, что Чэт в июне заканчивает, и боится, что потом только его и видели. Ну, а Чэт берет всю вину на себя. Он ничего не отрицает. Но в Чикаго будет скандал, а если еще и деканат узнает, то ему вообще несдобровать.
– Да. Ну, пошевеливайся.
– Я готов.
В комнате Чэтсуорта горел свет. Они поднялись на второй этаж и постучали. Никто не отозвался.
– Заснул, – предположил О'Берн и осторожно приоткрыл дверь. – Никого нет.
– Погоди, – сказал Джордж Локвуд. – Гардероб.
Дверцы гардероба были настежь открыты, все костюмы и пальто вынуты и кучей лежали на стульях и на кровати. Нед и Джордж вошли и сразу увидели Энсона Чэтсуорта. Шею его перехватывала петля из грязной бельевой веревки, привязанной другим концом к толстой рейке гардероба. На Чэтсуорте были брюки и рубашка без воротничка.
– Матерь божья! – прошептал Нед О'Берн.
– О господи! – воскликнул Джордж. – Как он это сделал?
– Перережь веревку, Джордж, – попросил О'Берн, а сам склонился над корзиной для мусора. Его рвало.
– У меня ножа нет. Он мертв?
– Да, мертв. В этом можно не сомневаться. – О'Берн вытер губы носовым платком. – Не можем же мы вот так его оставить.
– А разве можно его трогать до прихода полиции?
– Э, к черту полицию. Нашел о чем говорить в присутствии… Хочется мне отвязать его, да не могу. – Его снова начало рвать. – Джордж, я пойду за полицией. Ты можешь побыть тут один?
– Иди. Я подожду в холле.
– Ты правда не возражаешь? Если я не выйду сейчас на свежий воздух, у меня опять начнется.
– Иди, Нед. Я побуду в холле. Ты уверен, что он мертв?
– Да, уверен. Мне уже приходилось однажды видеть мертвеца.
О'Берн ушел. Джордж остался ждать в холле и тихо заплакал – уперся локтем в стену, уткнулся лицом в рукав и дал волю слезам.
– Эй, Локвуд! Ты пьян?
Джордж Локвуд стоял в прежней позе.
– Джордж! Что случилось?
Джордж покачал головой. Студент подошел ближе и тронул его за плечо.
– Джордж! Тебе помочь? Что случилось, старина? Ну, не плачь, Джордж. Скажи, что с тобой.
– Чэт, – выговорил наконец Джордж Локвуд.
– Чэтсуорт умер? Ты хочешь сказать, что он лежит там мертвый?
Джордж Локвуд перестал плакать.
– Здравствуй, Бендер. Ты видел О'Берна?
– Видел. Внизу. Он куда-то спешил.
– Да. Чэт повесился. Он уже мертв. Мы его обнаружили.
– Чэтсуорт? Я же видел его после ужина. И он мертв? Он что, покончил с собой?
– Да. Не ходи туда, Бенсон. То есть Бендер. Я всегда путаю тебя с Бенсоном. Извини.
– Ладно, Джордж. Иди ко мне в комнату и подожди там. Или, если хочешь, я принесу тебе стакан воды. Хочешь?
– Нет, благодарю. Впрочем, хочу. Принеси, а? Пожалуйста. Я и сам не знал, что хочу пить. Стакан воды. А виски не найдется?
– Нет. Я не пью. А я было подумал, что ты пьян.
– Я знаю.
– Пойду принесу воды. Может, тебе станет легче.
– Большое спасибо, Бендер.
Вскоре Бендер вернулся со стаканом воды. С ним вместе пришли О'Берн и полицейский.
– Ну, как ты тут, Джордж? – спросил О'Берн. – Мы еще и врача вызвали, только я уверен, что это бесполезно.
Между тем в холле начали собираться студенты – кто в пижамах, кто в халатах. Полицейский сказал:
– Он безусловно мертв. Где эти двое ребят, что обнаружили его?
– Он хочет с тобой поговорить, Джордж, – сказал Бендер. – С тобой и с О'Берном.
Полицейский был тоже взволнован, но старался не подавать вида.
– Вы оба из этого колледжа, верно? Я встречал вас. Как ваша фамилия?
– О'Берн.
– Локвуд.
– Локвуд и О'Берн. Старший курс?
– Да, сэр, – подтвердил Джордж Локвуд. – Мы оба – с последнего курса.
– А этого беднягу, вы сказали, зовут Чэтсуорт?
– Чэтсуорт. Энсон Чэтсуорт. Он из Чикаго, – сказал Джордж Локвуд.
– Значит, вы оба вошли и увидели, как он тут висит. В котором приблизительно это было часу?
– Меньше часа назад, – ответил Джордж Локвуд.
– Меньше часа назад, – повторил полицейский, не зная, о чем еще спросить. – Вы его соседи по комнате? Хотя нет, здесь только одна кровать. Вы его друзья?
– Да, сэр, – ответил О'Берн.
– Гм. Когда вы его увидели, он не подавал признаков жизни?
– Вот болван. Если бы подавал, так разве оставили бы его висеть? – донесся из толпы чей-то голос.
– Кто это сказал? В участок захотел? – пригрозил полицейский.
– Можем мы вынуть его из петли? – спросил О'Берн. – Или надо, чтобы он продолжал оставаться в таком положении?
Это уже был призыв к действию, и полицейский оживился.
– Я думаю, можно вынуть. Ты, О'Берн! Помоги мне.
– Я не могу!
– Так ведь ты же сам предложил, – сказал полицейский.
– Я не хочу прикасаться к нему.
– Прошу вас, дайте пройти! – потребовал решительным тоном мужчина средних лет, профессор Реймонд Риверкомб с кафедры английского языка. – Идите по своим комнатам, мальчики. Разойдитесь. Вы только мешаете. – Но, произнеся эти слова, он не стал больше настаивать, так что никто не ушел.
– О'Берн, Локвуд. Это вы его обнаружили?
– Да, сэр.
Риверкомб вошел в комнату.
– Боже мой! Давайте вынем его из петли, так же нельзя. Хотя бы приличия ради. Надо же. Какой ужас! Констебль, можете вы перерезать веревку?
– Я это и собирался сделать, но надо, чтобы кто-нибудь подхватил труп.
– Я помогу, – сказал Риверкомб. – Локвуд, вы станьте слева, я – справа. Констебль, режьте веревку, а мы с Локвудом отнесем его на кровать. Боже мой, боже мой!
Джордж Локвуд содрогнулся, прикоснувшись к телу своего друга, но овладел собой, и они вдвоем с профессором положили Чэтсуорта на кровать.
– Прикройте его, – распорядился Риверкомб. – Кого-то здесь тошнило.
– Меня, – сказал О'Берн.
– Ничего удивительного, однако давайте откроем окно. Что нам делать теперь, констебль? Что требуется по закону?
– Я послал за доктором Перри.
– Он может не торопиться, – сказал Риверкомб. – Пользы от него – никакой, как, впрочем, и от любого другого врача.
– Пожалуй, я запишу несколько фамилий свидетелей, а потом извещу морг.
– Запишите О'Берна, меня и Бендера, – сказал Джордж Локвуд. – Мы пришли сюда первыми.
– Насколько вам известно, – сказал полицейский.
– Вы только послушайте, что он говорит, – раздалось в толпе. – «Насколько вам известно»!
– Я уже предупреждал, – огрызнулся полицейский. – На арест напрашиваетесь.
– Замолчите там, – потребовал Риверкомб. – Будьте элементарно вежливы. А вы, констебль, не забывайте, что находитесь на территории университета.
– Так же, как вы. Не забывайте, профессор, что я нахожусь здесь при исполнении.
– Ну ладно, ладно, – сказал Риверкомб. – Что нам делать? Запереть комнату до приезда кареты? Вы, ребята, не нашли никакой записки или письма?
– Мне не пришло в голову посмотреть, – ответил Джордж Локвуд.
– И мне тоже, – сказал О'Берн.
– Письмо должно быть, – сказал полицейский. – Обычно оставляют. Хотя не всегда. У женщин это больше принято – у тех, кто умеет читать и писать. Если кто найдет письмо, дайте сразу мне.
– Сейчас искать? – спросил Джордж Локвуд.
– Конечно, сейчас. Я обыщу карманы его брюк, а вы, профессор, осмотрите ящики стола.
Искали вчетвером, но никакого письма не оказалось.
– Локвуд, О'Берн, нет смысла вам здесь околачиваться. Идите к себе и попытайтесь заснуть. Власти известят, если захотят вас видеть. Для дознания, я полагаю. Я побуду здесь до прибытия кареты. Это, кажется, все, что мы можем сегодня сделать.
– Как быть с его семьей, профессор? – спросил О'Берн.
– Об этом я позабочусь. Мы позаботимся. Пошлем телеграмму, как только что-нибудь выясним. Доброй ночи, ребята.
– Доброй ночи, сэр.
Выйдя на холод, друзья Энсона Чэтсуорта побродили бесцельно среди голых вязов, потом О'Берн спросил:
– Хочешь, пойдем ко мне?
– Пойдем, – ответил Джордж Локвуд. Он жил вместе с двумя студентами, Льюисом и Лумисом, но те не были его друзьями: хотя они делили общую комнату, близости между ними не создалось. – Вряд ли мне удастся заснуть сегодня, а тебе?
– Можешь устроиться в кресле с откидной спинкой. Ты должен поспать, Джордж. Чертовски трудный день выпал тебе сегодня.
Войдя к О'Берну в комнату, Джордж спросил:
– Ты, Нед, когда-нибудь пошел бы на это?
– На то, что сделал Чэт? Я думал об этом. Вешаться не стал бы. Потому, наверное, что Иуда Искариот удавился.
– У меня был друг в школе святого Варфоломея. Его отец дружил с моим отцом. Он покончил с собой выстрелом в голову. Думаю, если я буду кончать с собой, то выстрелом в сердце или приму яд. Вешаться тоже не стану. Особенно после этого вечера. Вид у него был ужасный. Нельзя так выглядеть.
– Он же не думал о том, какой у него будет вид.
– А я буду думать. А ты? Говорят, что, когда пуля попадает в мозг…
– Знаю, знаю…
– Нет, мне не безразлично, как я буду выглядеть. Надо, чтобы люди потом не шарахались от меня.
– Наверно, ты прав. Поэтому я и полагаю, что ни ты, ни я этого не сделаем. Да, Чэт оказался слаб.
– Но он был не глуп.
– Конечно. Только он не привык волноваться, не умел относиться к жизни так, как относимся мы с тобой. Не привык к невзгодам, поэтому попал в беду – и сразу сломался.
– Наверно, ты прав.
– Слышишь? Часы бьют полночь.
– Ага. Сутки кончились. Наступил понедельник. Начало недели. Но не для Чэта.
– Да, не для Чэта. Для него все кончилось.
– Ну и устал же я, черт возьми.
– Спи. Не борись со сном. Спи, Джордж.
– Попробую.
Когда О'Берн накрывал его одеялом, он уже спал.
На дознании их долго не продержали и вообще обошлись с ними вежливо, поэтому Джордж удивился, когда О'Берн, выходя из муниципалитета, сказал:
– Черт! Как я рад, что мы оттуда выбрались.
– Это было легче, чем я ожидал.
О'Берн осмотрелся вокруг и сказал:
– Вот что я получил по почте во вторник, уже после смерти Чэта. В конверт были вложены и те двести долларов, что я одолжил ему в субботу. Читай.
«Нед! Все ни к чему. Даже если я и достану денег, на этом мои беды не кончатся. После позора, который я навлек на своих близких, я не смогу смотреть им в глаза. Спасибо тебе за то, что ты был настоящим и верным другом. Прощай. – Э.Ч.».
Они стояли под уличным фонарем. Прочтя записку, Джордж Локвуд вернул ее О'Берну.
– Не знаю, хранить ее или сжечь. В некотором роде это – документ, – сказал О'Берн.
– Да, но они вынесли заключение, единственно возможное по этому делу. Чэт повесился в состоянии умопомрачения – так, кажется, они это сформулировали. Ты поступил правильно, Нед. Если бы ты показал им записку, они засыпали бы тебя вопросами. Лучше дать этому делу заглохнуть.
– Да, если отец девушки будет молчать.
– Теперь уже нет смысла поднимать шум.
– А родные Чэта?
– Чикаго далеко от Нью-Брансуика. Не думаю, что он будет скандалить. Какой смысл? Если даже он приедет в Чикаго, родные Чэта ему не поверят. И в судах такие дела не разбирают.
– Жаль, что я не знаю фамилии этой девицы.
– А что бы ты сделал?
– Может, ничего бы не сделал, а все же нехорошо получилось. Представь себе: мы с тобой – единственные, кто знает, почему Чэт пошел на такой шаг.
– И слава богу. Пусть так и останется.
– Хорошо. Поклянемся? Торжественно клянусь, что я никогда не разглашу того, что знаю о смерти Энсона Чэтсуорта.
– Торжественно клянусь в том же, – сказал Джордж Локвуд.
Их верность клятве подверглась испытанию на следующий же день: обоих вызвали к профессору Риверкомбу.
– Локвуд, через несколько дней здесь будет мистер Чэтсуорт. Он потребует сведений. Считаете ли вы нужным что-либо мне сообщить?
– Нет, сэр.
– Совсем ничего? Я уверен, что вы знаете больше того, что показали на дознании.
– Почему вы так уверены, сэр?
– Не отвечайте мне вопросом на вопрос. Вы же знаете, почему Энсон покончил с собой.
– Мне нечего сказать, сэр.
– Что ж, угрожать я не собираюсь. Но на дознании вы принесли присягу.
– Они просили меня рассказать лишь то, что я видел.
– И говорить всю правду, только правду и так далее. Вы уклоняетесь от ответа, Локвуд.
– Вы можете иметь свое мнение, сэр. Но меня не было здесь все воскресенье. Я уезжал в Лебанон, штат Пенсильвания. Последний раз я видел Чэтсуорта в пятницу.
– Не начинайте доказывать свое алиби, Локвуд. Я ведь хочу лишь знать, можете ли вы сообщить семье Чэтсуорта что-либо утешительное.
– Нет, сэр, не могу.
– Из этого следует, что нечто неутешительное вы могли бы сказать. Ну, ладно. Можете идти.
– Благодарю вас, профессор. – Джордж Локвуд встал и направился к выходу.
– Локвуд, – остановил его Риверкомб.
– Сэр?
– На прошлой неделе у меня был один посетитель. Из Нью-Брансуика.
– Да, сэр? Из Рутжерса?
– Вы же знаете, что не из Рутжерса. Очень приличный человек. Рабочий. И приезжал он сюда на свои деньги. Он сказал, что хотел видеть Чэтсуорта. И даже сообщил мне зачем.
– Сообщил?
– Да. Я хочу, чтобы вы и О'Берн знали, что, когда сюда приедет мистер Чэтсуорт, я расскажу ему об этом посетителе; все дальнейшее будет зависеть от мистера Чэтсуорта. Никакой официальной позиции мы в этом деле занимать не намерены. Чэтсуорта нет в живых. Но я хочу сказать вам с О'Берном, что лично я – в данном случае я говорю неофициально, от своего имени – не могу не восхищаться вашей верностью другу. Желаю вам оставаться такими и впредь, когда покинете Принстон.
– Попытаюсь, сэр. Благодарю вас.
Джордж Локвуд и Нед О'Берн сопоставили сказанное профессором Риверкомбом. Выяснилось, что обе беседы были почти одинаковы.
– Я спросил у него фамилию того человека из Нью-Брансуика, – сказал О'Берн.
– И что?
– Он ответил, что это не мое дело. По-моему, он прав.
– У меня нет желания ее знать.
– Да и у меня теперь нет.
Смерть Энсона Чэтсуорта отвлекла молодых влюбленных от неприятных воспоминаний о размолвке Джорджа с судьей. Лали была исполнена сочувствия и выражала его горячо, даже, пожалуй, чрезмерно: в письмах, которые она присылала ему по три раза в неделю в течение двух недель после самоубийства Чэта, она не упоминала ни об отце, ни о брате, ни о своих переживаниях, вызванных вспышкой отца. Вместо этого она писала о грустных чувствах, навеваемых смертью, о мистике самоубийства, о приближении весны, новой жизни и новых надежд. Первое такое письмо его обрадовало, но остальные показались надуманными, неискренними, продиктованными расчетом, и Джордж целых пять дней не мог заставить себя ответить ей. Встревоженная его молчанием, она решилась послать ему телеграмму:
ОБЕСПОКОЕНА ОТСУТСТВИЕМ ПИСЕМ НАДЕЮСЬ ВСЕ ХОРОШО ЦЕЛУЮ.
Он показал телеграмму О'Берну и объяснил ситуацию. О'Берн покрутил головой.
– Извини, Джордж. Я не хочу ничего говорить.
– Я не прошу совета, – сказал Джордж Локвуд.
– Нет, просишь. А я не хочу советовать.
– Я просто поговорить хотел.
– Ты хочешь заставить меня высказаться. Лучше не надо. Что бы я ни сказал, все будет не то. Это – твоя проблема. Напиши письмо, несколько писем. Полдюжины. И не показывай мне. Выбери то, которое выражает твои мысли и чувства, и отправь заказной почтой. Несколько лишних пенни не разорят тебя.
– Ты заключаешь, что я скуп?
– Не я заключаю, а из этого следует, как должно быть тебе известно из уроков логики, которой тебя обучали в школе святого Варфоломея.