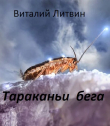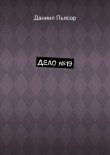Текст книги "Дело Локвудов"
Автор книги: Джон О'Хара
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 31 страниц)
Сначала они жили в собственном доме напротив красной кирпичной коробки, огороженной стеной. То, что Дафна Локвуд находилась в сумасшедшем доме, называвшемся также домом для душевнобольных, нельзя было скрыть от семейства Хоффнеров, но ухудшившееся состояние Роды еще хранилось в тайне. Люди со странностями встречались в каждой семье; одна из дочерей Хоффнера, например, долго не могла поправиться после первых родов. Но относительно истинной болезни Роды Локвуд Леви Хоффнера держали в неведении, так что Аврааму Локвуду пришлось самому сказать своей молодой жене о том, что Рода «не появляется в обществе». Тот, кто страдал какой-нибудь хронической болезнью вроде чахотки, считался «несчастным»; тот, у кого была не в порядке голова, – «не появлялся в обществе».
– Она вроде Дафны? – спросила Аделаида.
– Хуже. Может броситься на тебя с ножницами.
– Почему же тогда ее не отправят в больницу?
– Отправим еще.
– А что вам мешает, если она опасная?
– Моя мать. Не хочет, чтобы Рода уезжала.
– Сколько лет твоей матери?
– Пятьдесят пять или пятьдесят шесть.
– Боится одиночества?
– Думаю, да. Но Рода ненавидит ее. Она всех женщин ненавидит.
– Но не всех мужчин?
– В том-то и беда.
– Я знала одну такую в Рихтервилле. Когда у нее это началось?
– Кажется, лет десять назад.
– То же самое и у той, рихтервиллской. Примерно в том же возрасте. Пятнадцати – шестнадцати лет?
– Да.
– Таким девушкам ничем не поможешь, кроме как отправить в больницу. Но дело в том, что они и мужчин не любят. Та, о которой я говорила, сделала одному мужчине ужасную вещь.
– Какую?
– Не скажу.
– Ты так много знаешь и так мало рассказываешь.
– В этом-то все дело, Авраам. Тебе велят вести себя как леди, а насмотришься и наслушаешься такого… А спросить кого-нибудь, скажут – замолчи. Однажды мы с Сарой сидим во дворе на качелях и вдруг слышим чьи-то голоса в переулке за сараем. Пошли узнать, кто там разговаривает, и увидели мужчину, сидящего на бревне. С ним было еще двое мужчин. А девушка, о которой я тебе говорила, что-то делала этому мужчине. Средь бела дня. Я запретила Саре смотреть, но она все равно увидела. Средь бела дня. Я едва в обморок не упала.
– А констебля они не боялись?
– А чего им было бояться, когда один из них и был констебль. Это же не мальчишки. Все трое – взрослые. Тут нет ничего смешного, Авраам.
– Ты права, но как же не смеяться? Отец шести дочерей старательно оберегает их от внешнего мира, а что творится в его собственном переулке? При свете дня. В присутствии констебля.
– Это правда, что твой отец убил двух человек?
– Правда. А почему ты вдруг спрашиваешь?
– Не знаю. Думаю о нас, девчонках, и о том, что мы видели в переулке. О тебе; ты такой элегантный, изящный, а твой отец убил двух человек. Я часто обо всем этом задумываюсь. Порок существует не только в Нью-Йорке или в Европе. Он есть везде, хотя нас стараются убедить, что это не так. По-моему, его не меньше и в Шведской Гавани и в Гиббсвилле… да, и в Гиббсвилле. О Рейлроуд-стрит в Гиббсвилле мне такое рассказывали, что противно слушать. Когда у нас будут дети, мы не должны внушать им, что порок существует где угодно, только не рядом с нами. Я хочу, чтобы наши дети смотрели правде в лицо. Если наши отцы богатые, то это не значит, что мы намного лучше других. Девушка, о которой я говорила, – моя родственница. Ее мать принадлежала к роду Хоффнеров. Но они – не Ближние Хоффнеры. Так мои родители зовут близких родственников. Но все равно – Хоффнеры.
– Приятно было узнать, что у вас тоже есть семейные тайны.
– Не дразни меня, Авраам. Мой дед разбогател потому, что грамотный был. Он обманывал людей. Я это знаю, потому что отец хвастает. При тебе он не будет хвастать, а в домашнем кругу – да. Знаешь, почему нас венчали в реформатской церкви? Потому что деда моего отлучили от лютеранской церкви. Один неграмотный человек пришел к лютеранскому проповеднику с какой-то бумагой – вроде договора с моим дедом. Когда проповедник прочитал ее, то разразился скандал. Нечестная сделка. За это моего деда, Джейкоба Хоффнера, отлучили от лютеранской церкви. Разве в Шведской Гавани об этой истории не слыхали?
– Наверно, слишком были заняты разговорами о моем отце.
Авраам считал, что говорил искренне, признаваясь ей в любви. Он начинал привыкать к ее монотонной речи, к неправильному произношению («ф» вместо «в», «т» вместо «д», «ш» вместо «ж», «с» вместо «з») и к ошибкам в употреблении слов и конструкций, от которых ее не сумели отучить в школе мисс Холбрук. Он вырос в среде людей, говоривших на местном немецком диалекте, вошедшем и в его разговорную речь и повлиявшем на произношение тех, кто говорил по-английски; но на выговоре его отца влияние этого диалекта не сказалось совсем, на выговоре матери – лишь самую малость, сам же он избавился от немецкого акцента в университетские годы и в годы пребывания на военной службе.
Ее манера говорить в немалой степени, хотя и помимо его сознания, способствовала укреплению его любовного чувства. У нее был тихий, не очень сильный голос, а выговор, под влиянием местного немецкого произношения, отличался певучестью. Она выражала свои мысли спокойно, с расстановками и нежными интонациями, заставлявшими его приноравливать свой слух к ее замедленной речи. В результате все, что она хотела донести до сознания собеседника – даже если это были банальности, – казалось значительным, обдуманным и глубоко прочувствованным. Этот непринужденный мелодичный, приятный выговор не вязался с наивным неистовством ее любовных ласк, так что, слушая ее, он часто задумывался над этим несовпадением – оно интриговало его не меньше, чем то, что она хотела ему сказать. Словно эта ее манера высказывать простые, обыденные истины подразумевала известную лишь им одним тайну и наводила на мысль о еще более глубокой тайне, которую они раскрывали друг перед другом (особенно она – перед ним) во время любовных забав.
Ее чувство к нему было достаточно искренним; его чувство к ней росло постепенно. Он пробудил ее чувство с самого начала, тем более радостным открытием явилось для нее то, что это был человек, отвечавший первому требованию, которое она предъявляла к жениху, а именно – жениться на пей не ради ее денег. Потом, когда она стала видеться с ним чаще и когда он начал ухаживать за ней, это требование отошло на задний план и не казалось ей таким уж важным. Конечно, к ее любви примешивалось и чувство признательности; она была благодарна судьбе, пославшей ей жениха, внешность которого делала его достаточно привлекательной партией, и это давало ей основание считать, что она вступает в брачный союз по любви, а не потому, что он богат. После первой недели супружеской жизни Аделаида Локвуд обрела чувство женской гордости от сознания того, что, хотя инициатива в любовных делах оставалась за мужем, она вызывала у него желание.
Как это ни парадоксально, но опыт Авраама Локвуда по женской части, заключавшийся исключительно в умении удовлетворять половое чувство, и послужил той основой, на которой родилась и начала крепнуть его любовь. От проституток в доме Фиби Адамсон на Джунипер-стрит он переключился на проституток Вашингтона; потом, вернувшись в Шведскую Гавань, он воспользовался услугами одной гиббсвиллской портнихи. О свиданиях с ней надо было договариваться заранее по почте. Дом Энабеллы Кроу находился на Второй улице, всего в одном квартале от торгового центра. На первом этаже у нее были: комната, где заказчицы выбирали ткани: комната, где с них снимали мерку и где они примеряли сшитые вещи; комната, где работали швеи; комната – она же кухня, – служившая ей столовой. Жилая часть дома – более чем достаточная для одинокой хозяйки – размещалась на втором этаже. Энабелла Кроу была женщина тридцати лет с небольшим. После того как ее бросил муж, она некоторое время тайно сожительствовала с окружным судьей, который, перед тем как прекратить с ней связь, помог ей открыть мастерскую по пошиву дамской одежды. Неподалеку от станции железной дороги и от пристани на канале существовали на протяжении нескольких десятилетий публичные дома, но они действовали настолько открыто, что Авраам Локвуд, вернувшись с военной службы, стеснялся их посещать. Вот тогда-то один гиббсвиллский адвокат и свел его с Энабеллой Кроу.
– Что вы делаете, когда желаете поразвлечься? – спросил Авраам Локвуд.
Адвокат ответил уклончиво, но обнадеживающе и вскоре после этого разговора дал Локвуду имя и адрес Энабеллы Кроу.
– Приходите к ней во вторник в десять часов вечера, – сказал он.
В назначенное время он постучал в дверь, которая немедленно открылась и, впустив его, быстро закрылась. Женщина, которую он не мог разглядеть в темноте, сказала:
– Идите наверх, на свет.
Он поднялся по лестнице. Женщина, шедшая за ним следом, сказала:
– Налево.
Он шагнул в одну из трех комнат второго этажа, где горел свет. В комнате с одним окном, занавешенным тяжелыми плотными шторами, стояли большая двуспальная кровать, украшенная витиеватой резьбой, гардероб, комод и несколько стульев.
– Меня зовут миссис Кроу; как зовут вас, мне известно, но знаю я про вас мало. Вы холостяк?
– Да.
– Ухаживаете за кем-нибудь?
– Нет.
– Пьете?
– Иногда. Немного.
– Я не люблю водить дружбу с людьми, которые напиваются и потом выбалтывают все, что знают.
– Я вас понимаю.
– И никогда не разрешаю своим друзьям приходить сюда, если они не договорились со мной заблаговременно. Я не открою дверь тому, кого не жду. Неважно, если он был когда-то моим другом. Он не войдет. Вы поняли?
– Да.
– Кроме того, если мы станем дружить, вы должны обещать: без моего разрешения никому не говорите, что вы – мой друг.
– Понимаю.
– И еще: никогда не приходите сюда в нетрезвом виде, даже если я назначила вам свидание. Не приходите пьяным. Наш общий знакомый сказал вам, сколько я беру за визит?
– Нет.
– Двадцать долларов за визит.
– Двадцать долларов?
– И чтобы деньги были всегда при вас. Я не предоставляю кредита. Учтите, что это – не заведение. У меня очень избранный круг друзей. Вы согласны с этими условиями?
– Да.
– В таком случае вешайте вашу одежду в гардеробе, а я сейчас приду. Ах, едва не забыла. Никаких сигар. Во время визитов никогда не закуривайте сигару.
Она вышла, а он разделся, повесил одежду в гардеробе и присел на край кровати. Она вернулась в купальном халате, который быстро сняла и повесила на спинку стула.
– Вот это да! – воскликнул он, окинув ее восхищенным взглядом.
Она улыбнулась – впервые за вечер.
– Ну как? – Она повернулась кругом.
– Почти совершенство.
– Один мой друг хотел высечь мою фигуру в мраморе. Сказал, что меня надо высечь в мраморе.
– Он прав.
– Женщины любят комплименты. Ты ждал меня, чтобы вместе лечь?
– Да.
– Дай я посмотрю на тебя сначала. Ого! Об этом наш общий знакомый ничего мне не сказал. Ты молодой, верно? Двадцать шесть? Двадцать семь?
– Почти двадцать семь.
– Мои друзья в большинстве своем старше. По-моему, ты самый молодой. Ну, ложись, милый, познакомимся. Хочешь познакомиться? Нам надо привыкнуть друг к другу. Первые несколько раз будем узнавать, кто что любит.
В 1871 году она объявила ему:
– Ну что ж, Эйб. Видно, дружбе нашей конец. Мои заказчицы говорят, что ты ухаживаешь за одной молодой леди из Рихтервилла. Это верно?
– Да.
– Скажи, когда будет наша последняя ночь, и я подарю ее тебе. Это будет мой свадебный подарок.
– Я хочу тебе сделать подарок.
– Хорошо, только пусть это будут наличные деньги. Ты ведь знаешь меня, я беру подарки только в виде наличных денег.
– Да, это будут наличные.
– Молодой парень женится. Дал бы ты мне пятьсот долларов, я согласилась бы дружить с тобой еще год, если у тебя не очень получится с молодой женой. Так бывает. У меня был друг, который хотел возобновить визиты, только я не могла.
– Хорошо, я дам тебе пятьсот долларов.
– Мое дело внизу разрастается, поэтому я предпочла бы отказать кое-кому из своих друзей, но пока что не могу себе это позволить. Когда накоплю достаточно денег, то уеду отсюда. Продам мастерскую и переселюсь в Нью-Йорк. Хочу, чтобы какой-нибудь миллионер взял меня на содержание, пока я не начала стареть. Но главное, что я хочу, это – уехать отсюда с незапятнанной репутацией, – чтоб не было никаких сплетен. Если не найду миллионера, то, может быть, открою первоклассное заведение, а это стоит денег. Лучшее заведение в конечном счете выгоднее, ведь ему надо посвятить всю жизнь. Но на это нужны деньги и связи. Не могу же я просто взять и открыть где-нибудь заведение. Нет, надо постараться найти миллионера, который знает нужных людей, и чтобы он подбросил достаточную сумму для начала. Заведение, которое могли бы посещать и дамы. Я знаю дам в этом самом городе, которые пошли бы в заведение, если бы оно было. Одна моя заказчица постоянно мне намекает, что хотела бы посмотреть мои комнаты наверху. Я знаю, чего она хочет. Хочет убедиться, что может довериться мне, а потом попросить разрешения воспользоваться этими комнатами. Но женщины не умеют держать язык за зубами. Мужчины – тоже, но среди моих друзей болтунов пока что не встречалось. Я не хочу, чтобы сюда, наверх, приходили какие-нибудь женщины, кроме меня. У меня ежедневно уходит по часу времени на то, чтобы навести в этих комнатах порядок и чистоту, чтобы мне не пришлось держать горничную… Значит, скоро оставишь меня, Эйб? Ну что ж, если невеста твоя – та самая, о которой мне говорили, то пятьсот долларов – не такая уж потеря, тем более что ты, возможно, захочешь я в дальнейшем навещать меня. Этим я не хочу сказать, что не желаю тебе счастья. Но навестить меня ты сможешь, когда, например, она будет в положении. Со мной тебе будет гораздо лучше, чем с той, которую ты не знаешь.
– Благодарю, Энабелла.
– Повторяю, пятьсот долларов для тебя – не такая уж потеря.
– Я принесу их тебе в следующий раз.
– Где она шьет себе подвенечное платье, эта твоя невеста? Знаешь?
– Не знаю. По-моему, в Форт-Пенне. А что?
– Будет комично, если она придет ко мне. Тогда я, может, разгляжу ее хорошенько, пока ты не разглядел. И расскажу ей кое-что, а, Эйб? Если бы она узнала то, что я знаю, то убежала бы от тебя, как ошпаренная.
– Ну, ну, Энабелла.
– Не бойся. Я только дразню тебя.
Не чувствуя себя обязанным Энабелле Кроу, он, тем не менее, оставался верен ей без малого пять лет. Все эти годы он знал, что миссис Кроу спала, насколько он мог судить, еще с тремя или четырьмя мужчинами. Но этот факт был известен Аврааму с самого начала, так что он не испытывал ревности и не требовал исключительного права на ее услуги. Система, с помощью которой она регулировала и удовлетворяла его потребности, не вызывала устойчивого чувства благодарности, не льстила мужскому самолюбию и вообще исключала все то, что входит в понятие любви. Разумеется, ни о каком стихийном проявлении чувств не могло быть речи, поскольку свидания тщательно планировались. Энабелла Кроу торговала своим прекрасным телом настолько откровенно, что не допускала никаких романтических эмоций. Проведя положенный час с мужчиной в постели, она спокойно садилась в своем халате и, держа в руке полученные от него банкноты (иногда обмахиваясь ими, как веером), болтая с ним дружески, ждала, когда гость оденется, чтобы потом проводить его до парадного и запереть на ночь дверь.
Близость с Аделаидой была совершенно непохожа на кратковременные, строго регламентированные свидания с Энабеллой Кроу – эта близость была чувством, отношением, а не актом. Не было случая, чтобы Аделаида, испытывая какой-либо вариант чувственной любви, заставляла Авраама заподозрить ее в том, что она почерпнула этот вариант из опыта другого мужчины. Все ее «эксперименты» казались ему новыми и уникальными, а от этого сознания зарождалась любовь. Авраам Локвуд привык считать себя человеком опытным, но за тридцать с лишним лет жизни он впервые жил с женщиной, а не «ходил на свидания» к ней. Если он и «обольстил» ее, то с помощью законного брака, и потому жизнь с ней все-таки была содержательней, богаче. Брак, как обязательное установление, окреп и в конце концов перерос в любовь. Аделаида заметила эту перемену, но о своем открытии умолчала. Она лишь стала сильнее любить.
Мать Авраама умерла через несколько недель после того, как отправили в больницу Роду. Сказались усталость, тяжелый труд, угрызения совести, сознание собственной ненужности и безрадостного будущего, тяжелые воспоминания о прошлом и, как значилось в свидетельстве о смерти, флегмонозная ангина. Смерть была нелегкой, мать угасала медленно, она по глазам мужа и сына видела, что те ждут, когда, наконец, прекратится ее прерывистое дыхание. Через неделю после похорон Мозес Локвуд уговорил Аделаиду и Авраама переехать в красную кирпичную коробку, где в 1873 году у него родился внук. Его назвали Джордж Бингхем Локвуд – в честь губернатора штата, который был близким другом Леви Хоффнера.
Джорджу Локвуду было около пяти лет, а его брат Пенроуз еще не вышел из младенческого возраста, когда здоровье их деда, Мозеса Локвуда, сильно пошатнулось. Он настолько ослаб, что уже почти не решался ходить в свою контору на Док-стрит, всего в нескольких кварталах от дома, поэтому все бумаги, требовавшие его внимания, носили ему в домашний кабинет.
Все дни дед проводил дома или во дворе. Просыпался он рано, так что прислугам, нанятым вскоре после смерти жены, приходилось вставать по очереди в пять часов утра, чтобы приготовить ему чай. В погожие дни он выходил во двор – подтянутый, одетый так, будто шел на службу, и потихоньку прохаживался среди розовых кустов и вязов – то трогал пальцами цветы, то останавливался у какого-нибудь дерева и рассматривал его от корней до самой макушки: время от времени он садился отдохнуть в дубовые кресла и на скамьи грубой работы, специально расставленные в разных местах усадьбы. Если дождь, снег или сильный холод мешали ему выйти из дому, он бродил по комнатам, останавливаясь перед статуэтками, фарфоровыми вазами и часто натыкаясь на прислугу, занятую уборкой. В доме стало многолюдно. У его сына Авраама было теперь двое маленьких детей, появились две прислуги, няня и кучер. В кухне и в других помещениях всегда суетились люди; но где бы Мозес Локвуд ни появлялся, он приносил с собой тишину. С его приходом все тотчас почтительно умолкали, ожидая, что он скажет. Но он в большинстве случаев ничего не говорил и, поскольку они продолжали молчать, чувствовал себя лишним. Он и действительно был лишним среди них.
Кучера Рафферти Мозес Локвуд не любил за то, что тот косо смотрел на его визиты в конюшню (как будто старик ходил туда шпионить). Из-за этого Мозес лишился возможности навещать лошадей. Не то чтобы он очень любил лошадей, но все же – это живые существа, которые умеют слушать и которым можно что-то сказать. Его сын Авраам, единственный оставшийся в живых из тех четверых, с кем Мозес провел большую часть свой жизни, по утрам спешил и часто исчезал на целый день, а то и на несколько дней, если этого требовали его новые дела в Филадельфии. Аделаида, жена Авраама, была приятной молодой женщиной, но все ее время занимали заботы о детях и хозяйстве, и у нее почти никогда не было ни одной свободной минуты, чтобы присесть и поболтать со стариком. Прислуги были сестрами-негритянками из Рихтервилла, и если Мозес – белый человек – завязывал с ними разговор, то они глядели на него так, что он сразу понимал, какие подозрения бродят у них в голове, хотя ему было уже шестьдесят пять лет и ноги у него подгибались в коленях. Только у одного человека всегда хватало времени на Мозеса Локвуда – у его внука Джорджа. Появление в семье нового младенца, требовавшего внимания матери, и постоянная занятость отца способствовали тому, что между мальчиком и дедом возникла та взаимная заинтересованность в общении, которая сближает людей. Старик рассказывал наполовину выдуманные истории из своего давнего прошлого: некоторые из них особенно полюбились мальчику, и если Мозес, пересказывая их, допускал отклонения от первоначального варианта, то Джордж поправлял его («Дедушка, ты сказал, что у индейца было ружье, а в тот раз говорил, что томагавк. И что ты его застрелил»). Эти разночтения и поправки мальчика забавляли старика, и он стал нарочно вкрапливать в свои рассказы новые элементы, упражняя смекалку ребенка. Мама была мамой, папа был папой, а дедушка – рассказчиком, у которого смешное ухо, удивительное искусство плеваться и интересный шрам на левом виске («Тебе пробили ухо пулей, да? А потом отрезали мочку? А может – просто отстрелили?»). Иногда они вместе ходили в туалет; старик садился на высокий стульчак, а мальчик – на низкий, который поменьше. Мальчик быстро кончал свое дело и наблюдал, как тужится и кряхтит его дед.
– Выйди пока, малыш, я еще не скоро.
Во время прогулок по саду Джордж набирал в чашку вишен и угощал деда. Яблоки старик кусать не мог. Он доставал из кармана ножик и, сняв с плода длинную вьющуюся ленту кожуры, разрезал его на маленькие ломтики и вдвоем с внуком ел. Они никогда не скучали, ибо всегда находили тему для разговора («Почему ты не даешь мне дотронуться до шрама? Тебе больно? Это тоже от пули, дедушка? Дедушка, покажи мне свои зубы. А когда ты был маленький, тебе тоже покупали зубы?»). Старик рассказывал мальчику о деньгах («Это пенни: один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Эти монетки, взятые вместе, стоят столько же, сколько вот эта одна. На нее можно купить столько же конфеток, сколько на все эти пенни»), немного о цветах («Никогда не ломай их, а отрезай ножницами, иначе они не будут расти») и об американской истории («Линкольна застрелили за то, что он заставил Джона Уилкса Бута отпустить своих рабов»).
Однажды во время семейной ссоры (самой неприятной из всех, когда-либо происходивших на глазах у Джорджа) мальчик из чувства товарищества сразу принял сторону деда. Ссору начала его мать.
– Мистер Локвуд, когда вы намерены сдержать слово и сломать стену? – спросила мать.
– Пока жив хоть один Бэнди…
– Последний Бэнди умер два года назад, а стена все еще стоит, – сказала Аделаида.
– А ты не торопи меня, сударыня.
– Два года – срок немалый. Вы же обещали сломать.
– Про обещание что-то не помню. Я сказал: поговорим.
– Мистер Локвуд, это обман. Вы виляете.
– Сказала бы уж, что вру, – и дело с концом.
– И сказала бы, если бы не ребенок… Джордж, иди поиграй.
Приученный повиноваться, мальчик вышел из комнаты, но остался за дверью в холле.
– Так вот, мистер Локвуд, – продолжала мать. – Либо стена будет убрана в ближайшие полгода, либо мы отсюда уедем. – При этом ее акцент прозвучал явственнее – «мы отсюта уетем».
– Мой сын никуда не поедет.
– Вот и ошибаетесь, мистер Локвуд. Авраам тоже хочет убрать стену. Я не желаю, чтобы мои дети росли за тюремной оградой. Так помните, мистер Локвуд: полгода.
– А кто будет платить за слом и за уборку кирпичей?
– Я заплачу, вам это ничего не будет стоить.
– Могла бы вложить свои деньги в более полезное дело.
– А мне никто не указ – на что тратить собственные деньги, мистер Локвуд. Могу и новый дом себе построить. Увезу с собой детей и мужа, а вы тут сидите за своей стеной.
– Ладно, ломай, черт с тобой.
– А вы с подрядчиком договоритесь?
– Договорюсь. И расходы оплачу.
– Мистер Локвуд, я не вредная, но я не хочу, чтобы мои сыновья росли как в тюрьме. И так уже люди смеются над Джорджем, а потом и над младшим будут смеяться.
– Никогда не слыхал, чтобы над моим внуком смеялись.
– Так вы же ни с кем не встречаетесь. А я слышала. Говорят, что он у нас вроде придурковатый.
– Говоришь, что не вредная, а позволяешь себе такие слова.
– Так это же люди, зачем мне-то наговаривать на ребенка.
Джордж мало что понял в этом разговоре, но несколько дней спустя на территории дома появились рабочие и приступили к длительной, шумной и увлекательной работе по разборке стены и укладке кирпичей в штабеля которые потом грузили на повозки. Мальчик не смог уговорить деда выйти во двор: старик не желал ни выходить из дому, ни смотреть в окно на двор, который теперь – без стены – выглядел так странно, ни даже понаблюдать за рабочими, строившими на месте стены железную ограду, которая была ненамного выше его внука. Большую часть времени старик проводил теперь в своей комнате, куда ему приносили даже еду. Никаких историй он уже мальчику не рассказывал – на это, как он говорил, у него не было времени. Так продолжалось около месяца. Потом дед вдруг изменил своим привычкам. Каждое утро он выходил из дому и отправлялся сначала в парикмахерскую, а оттуда в бар при Биржевой гостинице, где оставался до конца дня. Вечером за ним заезжал Рафферти, отвозил домой и помогал добраться до его комнаты.
Через год Мозес умер, так и не рассказав больше внуку ни одной истории. Но к этому времени Джордж уже поступил в первый класс и попал в общество ровесников и ровесниц. На похоронах было много солдат. Дед лежал в гробу, накрытом американским флагом. Гроб стоял не на катафалке, а на каких-то дрогах, запряженных четверкой лошадей. На двух лошадях сидели верхом солдаты. На кладбище солдаты стреляли из винтовок в воздух, а один играл на трубе. Отец Джорджа был в солдатской форме – так же, как многие другие мужчины, хотя они и не были военными. Когда похороны закончились, Джордж увидел немало настоящих солдат, приехавших из-за города. Многие из них были пьяны. За ужином возле отца и матери сидел какой-то старик, которого звали мистер Болц. Он не говорил ни слова, но жал руки всем подходившим. Джордж Локвуд еще никогда не был свидетелем такого количества рукопожатий.
Второй его дед, живший в Рихтервилле, не был рассказчиком, но все равно у него бывало интересно. Неподалеку от Рихтервилла находились две фермы, где разводили пони, и гроссфатер[12]12
дедушка (нем.)
[Закрыть] Хоффнер (он хотел, чтоб его называли именно так) часто брал Джорджа туда, чтобы показать лошадок и покатать в блестящей коляске, запряженной четверкой пони. И всегда обещал: вот подрастешь, и у тебя будет свой пони. Иногда Джордж встречал в доме гроссфатера Хоффнера своего двоюродного брата Дэйви Стоукса (он был на год старше), который тоже приезжал навестить деда.
– Тебе гроссфатер собирается подарить пони? – спросил его однажды Джордж.
– Обещал, но я ему не верю, – ответил Дэйви и рассказал Джорджу, что такие же обещания получили еще несколько двоюродных братьев, из которых одному уже одиннадцать лет. Но гроссфатер все тянет с покупкой. Их одиннадцатилетнего двоюродного брата Лероя Хоффнера все еще водят кататься на пони – верхом и в тележке, но собственного пони ему не дарят, а скоро он уже вообще станет слишком велик для пони. Джордж возненавидел Дэйви за эти слова и продолжал верить гроссфатеру. Он рассказал об этом матери и ко дню своего рождения получил пони вместе со сбруей, рессорной двуколкой и санками. Через несколько недель Дэвид Стоукс, а также Лерой тоже получили пони.
– Кто мне подарил пони? Гроссфатер? – спросил Джордж у матери.
– Можно сказать, что да.
– Но это правда?
– Пожалуй, да. А почему тебе так важно это знать? Получил пони, и ладно.
– Потому что я хочу сказать об этом Дэйви.
– Тогда – нет. Пони подарили тебе мы с папой. Но гроссфатер оплатил мою долю расходов. Так что можно сказать, что он тоже участвовал в покупке.
– А должен я благодарить гроссфатера?
– Нет, не должен.
– Значит, он не дарил, раз ты не велишь мне его благодарить.
– Ты – как папа. Замучаешь вопросами. Не говори со мной больше на эту тему.
Дэйви Стоукс, получив пони, сказал Джорджу, что это – подарок родителей, а не гроссфатера, и что Лерою пони тоже подарили родители.
– Гроссфатер – большой врун, – сказал Дэйви Стоукс. – Глупый немец и большой врун. Это мой отец сказал. Он говорит, что все немцы сквалыги.
– Твоя мать тоже ведь немка.
– Уже нет.
– А говорит по-немецки.
– Не может быть, – возразил Дэйви. – Ей отец не разрешает.
– А она все равно говорит. С моей матерью. Они же сестры.
– Все знают, что сестры.
– Все, да не все. Твоя мать разговаривает с моей по-немецки, а ты и не знаешь. Значит, ты не все знаешь.
– Зато мои дед не убивал людей, а твой убивал.
– Мой дедушка был на войне солдатом.
– Это все, что ты знаешь. Ха-ха-ха. Твой дед убил двух человек.
– Потому что он был солдатом. И отец был солдатом.
– Ха-ха-ха. Твой дед убил двух человек до того, как стал солдатом. И его арестовали.
– Неправда. Он убил индейца.
– Как бы не так. Он убил человека, который был должен ему деньги. Ха-ха-ха.
В тоне Дэйви было столько насмешки и столько уверенности, что Джордж Локвуд решил проверить у отца.
– Папа, а правда, что дедушка убил человека? Двух человек?
– Кто тебе сказал?
– Дэйви. Он говорит, что дедушку арестовали тогда.
– Это твой дядя, наверно, болтает. Ну что ж, рано или поздно ты все равно узнал бы, – сказал Авраам Локвуд. – Да, дедушка убил двух человек.
– Индейцев?
– Нет, не индейцев. Белых. Задолго до моего рождения один человек попытался ограбить дедушку. Прокрался с ножом к нему в номер гостиницы, а дедушка, чтобы спастись, застрелил его. Это было давно, до того, как я родился. Тогда было небезопасно ходить ночью по улице, а твой дедушка был констеблем, полицейским.
– Но его же не могли арестовать, если он был полицейским, правда?
– И полицейского можно арестовать. Любого человека арестовать можно. Даже если его зовут Стоукс.
– А дядю Сэма арестовывали?
– Нет. Но это не значит, что не могли бы арестовать или что никого из Стоуксов никогда не арестовывали. Арестовать можно кого угодно.
– И дедушку арестовали?
– Да. Он застрелил человека. Думал, что тот хочет в него стрелять, и выстрелил первым. Ты еще не знаешь, что такое суд.
– Суд?
– В суде судья решает, виновен человек или нет. Судья и присяжные. Двенадцать присяжных и судья. Они решают, виновен человек или нет. И они решили, что дедушка не виновен.
– А человек, в которого стрелял дедушка, умер?
– Да, умер. Но дедушка не виноват. Когда ты будешь старше, я объясню тебе. Сейчас ты еще мал и не поймешь.
– Дэйви понимает.
– Нет, не понимает.
– Но он сказал, что дедушка застрелил двух человек, и ты сказал то же.
– Он все-таки не понимает, что такое закон, суд. Его отец не потрудился ему объяснить. Очень плохо, что его отец вообще рассказывает о таких вещах.
– Ты зол на дядю Сэма?
– Н-нет. Конечно, нет, сынок. Но Дэйви не должен был слушать, о чем говорят взрослые. Маленьким нельзя подслушивать, а он слушает то, что не положено слушать.
– Ты поссоришься с дядей Сэмом?
– Конечно, нет.
– Папа, а индейцев дедушка убивал?
– Нет. Мятежников убивал, а индейцев – нет.