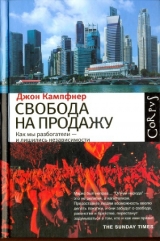
Текст книги "Свобода на продажу: как мы разбогатели - и лишились независимости"
Автор книги: Джон Кампфнер
Жанры:
Политика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 21 страниц)
Похожие калькуляции сделали и прежние политические оппоненты. Сравнительно недавно, на парламентских выборах в декабре 2003 года, общая доля голосов, отданных за либералов, составила почти 20%. Как случилось, что они и их сторонники так легко сошли со сцены? Устояли лишь немногие. Наиболее известной фигурой долго был Григорий Явлинский. В 90–е годы я совершил с ним ряд поездок по стране: он создавал тогда оппозиционную партию «Яблоко». В ельцинскую эпоху «Яблоко» было силой, с которой оппонентам приходилось считаться в парламенте. Явлинский дважды выдвигался в президенты, но в начале путинского правления пожаловался, что оппозиционная политическая деятельность стала невозможной.
Многие замолчали, ушли в бизнес или примкнули к правящему лагерю. Одним из них был Петр Авен, министр в одном из первых постсоветских либеральных правительств. Он продолжил карьеру в качестве состоятельного банкира, призвал Путина стать российским Пиночетом и предположил, что только диктатура способна провести рыночные реформы. Несмотря на неудачи, Явлинский и другие продолжали свою деятельность и критиковали Кремль на западных телеканалах, придавая видимость правдоподобия утверждению, что Россия строит нечто вроде демократии. На парламентских выборах 2007 года ни одна из либеральных партий не смогла приблизиться к барьеру, отделявшему их от получения мест в парламенте. Вскоре после этого Явлинский решил сойти со сцены. Журналист Аркадий Островский заметил, что российские либералы активнее противостояли вторжению в Чехословакию в 1968 году, чем войне в Грузии.
Для многих либералов проблема состоит в том, что при Ельцине они позволили идентифицировать себя с бездушным капитализмом и политикой «шоковой терапии». Поступив так, они невольно нарушили собственные либеральные принципы. Лилия Шевцова, ведущий летописец эпохи, так подвела итоги:
Ельцинский период дал России довольно много свобод. Никогда Россия не была так свободна. Но свобода – в отсутствие привычки к порядку, в стране со слабой правовой культурой и эгоистическими элитами – привела к хаосу и беззаконию, нарушению всех табу и запретов. Россияне, испуганные незнакомыми свободами и не знающие, что с ними делать, в 1999 году качнули маятник назад, к порядку.
Сидя в своем кабинете в здании на углу Тверской улицы и Пушкинской площади, неподалеку от старой редакции «Московских новостей», она сказала: «Простым людям опостылела беспрецедентная свобода критиковать правительство, поскольку лучше от этого не становится». В своей последней книге «Путинская Россия» Шевцова пишет о том времени, когда он пришел к власти:
Путин получил массовую поддержку основных сил российского общества. Накопившиеся страхи, замешательство, ощущение опасности и вполне реальный российский «Веймарский синдром» – все это вызывало у людей стремление к порядку и желание видеть в Кремле нового человека.
Она напомнила о том, что социолог Юрий Левада писал в 1999 году в «Московских новостях», когда оценивал Россию в ожидании путинского руководства:
Ситуация глубокого общественного перелома, которую переживает общество, ранее именовавшееся советским, не столько формирует новые, не существовавшие ранее ориентиры и рамки общественного сознания, сколько обнаруживает, выводит на поверхность его скрытые структуры и механизмы.
Шевцова напомнила мне еще об одном высказывании, принадлежащем бывшему премьер–министру Сергею Кириенко. Он говорил о либерализме как о стиле жизни. Этот взгляд подменил либерализм как мировоззрение, который, по его словам, устарел. Это был апрель 2000 года – еще до того, как путинская эпоха вступила в свои права.
Шевцова уподобила российский новый средний класс рантье, людям, которые извлекали пользу из государственной щедрости по отношению к разбухшему бюрократическому аппарату. Это напоминало латиноамериканские политические и деловые элиты в странах, управляемых в 70–е и 8о–е годы хунтами: они жили вполне хорошо, пока не начинали слишком активно интересоваться деятельностью правительства. Российская элита вышла из одной цивилизации, но не достигла другой. «Мы потерялись в переходном периоде. Возможно, мы сколько‑то здесь пробудем», – по обыкновению точно отметила Шевцова. Это показалось мне хорошим определением ситуации, в которой оказались многие россияне. Они не могли разделить путинский взгляд на мир, но и создавать проблемы они также не видели смысла. Годами они неплохо уживались с ним. Дела шли хорошо, его правление было отмечено ростом их доходов. Меньше жестокости и больше законности – вот все, чего они хотели.
В сентябре 2008 года я вернулся в Россию, чтобы впервые за четыре года встретиться с Путиным. В этот раз на Валдайской конференции нам продали два товара по цене одного: премьер–министра Путина и его протеже, нового президента Дмитрия Медведева. Нам было интересно, как этот симбиоз будет работать. Ни в России, ни за рубежом ни на минуту не возникало сомнений в том, кто в этой паре главный. Перед встречей с Путиным и Медведевым мы приняли участие в «круглом столе» в Ростове–на–Дону. Этому приятному южному городу потребительская культура подарила по меньшей мере три ресторана суси и ряд магазинов дизайнерской одежды. Тем не менее все разговоры на конференции были о возвращении холодной войны.
Несколькими неделями раньше Грузия предприняла военное вторжение в Южную Осетию, которая была давним союзником России. Дату нападения, 8 августа, россияне стали считать аналогом американского 11 сентября. Кремль ответил нанесением непропорционального удара по самой Грузии. Победа была достигнута быстро – правда, ценой резкого ухудшения отношений с Западом. В ходе дискуссии нам понадобилось немного времени, чтобы осознать масштаб ярости. Вячеслав Никонов, внук сталинского министра иностранных дел Вячеслава Молотова, стал еще одним из любимых путинских «интеллектуалов». Никонов сообщил нашей группе, что Россия своим жестким ответом Грузии продемонстрировала, что «никогда не была такой сильной со времен падения СССР… Мы все платим цену за десять лет неуважения Запада к России». Несколько более мягкий вариант высказывания по этой теме принадлежит молодому телекомментатору Сергею Брилеву: «Запад добился консолидации российского политического класса».
Наконец мы прилетели в Сочи, курортный город на Черном море, который прихорашивается, готовясь принять в 2014 году зимнюю Олимпиаду. Путин был в хорошей форме, расслаблен, саркастичен, находчив и временами зол. Он угощал нас прекрасной едой и вином на вилле, по словам местных жителей, принадлежащей его другу, олигарху Дерипаске. Со времен «революции роз» и «оранжевой революции» россияне с растущей озабоченностью следили за событиями в Грузии и на Украине. Из‑за политических неурядиц и коррупции ни одна из этих стран не стала маяком демократии, на что так надеялись США. Однако с точки зрения Кремля они превратились в американский геополитический плацдарм прямо в сердце бывшего Советского Союза. Путин представил Россию страной, которая отовсюду – особенно со стороны США и Великобритании – подвергается враждебным нападкам. «Вы что, думали, мы рогатками будем защищаться? – гаркнул он. – Если агрессор приходит на вашу территорию, вы должны дать ему по морде – и будете совершенно правы. Мы что, должны были утереть кровавые сопли и склонить голову?». Три часа он потчевал нас обычной смесью угроз и примирительной лексики. Он сказал, что обращался с Бушем «лучше, чем некоторые американцы», но предупредил Америку и в более широком смысле слова Запад, что время игры в одни ворота прошло. Хотя римляне разрушили Карфаген, «Римская империя была разрушена варварами. Мы должны беречься варваров». Он настаивал: «Россия не угрожает США или Европе. У нас больше нет имперских притязаний».
Наблюдая с замиранием сердца за происходящим, я не мог не прийти к выводу, что типично российская политика обиды нашла в этом человеке свое наиболее полное выражение. Он больше не просил понять его, как это было в 2004 году, на встрече с нами во время бесланской бойни. Возможно, он больше не чувствовал в этом необходимости, поскольку за последующие годы Россия с помощью денег и грубой силы снова проложила себе дорогу к месту во главе стола.
В отличие от Путина, который продержал нас полтора часа в ожидании, Медведев прибыл на следующий день точно вовремя, чтобы встретиться с нами в экстравагантной обстановке банкетного зала на верхнем этаже ГУМа напротив Кремля. Поприветствовав всех по очереди, он рассказал, что хотел посвятить август борьбе с коррупцией, укреплению законности и реформированию экономики. Но война есть война:
Защита жизни и достоинства российских граждан вне зависимости от того, где они находятся, является самой важной задачей российского государства. США получили серьезный урок 11 сентября. События 8 августа послужили уроком для нас.
Медведев ясно дал понять, что должен быть готов защищать российских граждан силой оружия, где бы они ни находились, и что любая попытка со стороны Грузии или Украины добиваться членства в НАТО усилит напряженность в отношениях с Западом. Роль администрации США в подстрекательстве Грузии к выступлению против России была очевидна.
Медведев сказал, что он несколько раз пытался обсудить ситуацию с американцами, но это ни к чему не привело. Буш спросил его: «Вы – молодой человек с либеральным бэкграундом. Зачем вы это делаете?» Медведев ответил: «Я действительно этого не хотел. Но бывают моменты, когда имидж – ничто, а поступки – все». Затем российский президент добавил: «Я не хочу, чтобы Россия была милитаризованным государством, живущим за железным занавесом. Я жил в такой стране, это было скучно и неинтересно». Он признал, что Россия не смогла убедить большую часть мира, что она отличается от Советского Союза: «Многие думают, что мы не только правопреемники СССР, но и его идеологические наследники. Это просто неправда. У нас совершенно иной набор ценностей». После этого он угостил нас превосходным красным вином (французским; грузинское в России давно запрещено) и позировал для групповой фотографии.
На следующее утро была назначена последняя встреча. Время (8 часов утра) и место проведения (невзрачный «Холидей инн» за МКАД, где мы остановились) красноречиво свидетельствовали о состоянии российской оппозиции. Чтобы доказать свою приверженность свободе выражения, организаторы пригласили на встречу с нашей группой Гарри Каспарова, бывшего чемпиона мира по шахматам и наиболее заметного лидера оппозиции. Каспаров сказал, что ему все труднее проводить встречи в международных отелях в центре города. Их управляющие (часто это граждане западных стран) решили, что сердить Кремль было бы экономически нецелесообразным. Каспаров рассказал, что ему позволили с нами увидеться только после того, как он устроил сцену на международном медиафоруме несколькими месяцами ранее.
Каждая наша встреча в ту неделю освещалась в вечерних выпусках новостей в прайм–тайм, но в отсутствии камер здесь ничего удивительного не было. Каспаров много времени уделил анализу того, почему Кремль переиграл оппозиционных деятелей и организации. По его мнению, большинство из них ошибочно решило, что сможет влиять на отношение к свободе выражения, правам человека и к демократии изнутри. Он заявил, что «все возможности либерализации и демократизации 'сверху' исчерпаны. С этим все». Пришло время работы «параллельно» с большой политикой. Каспаров был абсолютно уверен, что эра Путина приближается к концу и что требования перемен нарастают. Он заявил, что недавние протесты по поводу высоких цен на горючее приобрели политическую окраску: «Режим в агонии». Большинство участников дискуссии не согласилось с ним, предположив, что он принимает Желаемое за действительное.
В первые месяцы после начала мирового экономического кризиса правительство, по всей видимости, было уверено, что благодаря большому стабилизационному фонду Россия сможет выйти из него относительно невредимой. Некоторые развивали эту аргументацию. Политолог Сергей Караганов так прокомментировал ситуацию:
Огромное убыстрение экономического развития мира с середины 8о–х годов двадцать лет интерпретировалось как результат исключительно применения рецептов «Вашингтонского консенсуса»… Попутно выявилось, что, как казалось, победившая навсегда модель зрелого либерально–демократического капитализма старого Запада не является больше единственным идеологическим ориентиром для остального мира. Государства нового капитализма, естественно, более авторитарные, что соответствовало их стадии экономического и социального развития, стали предлагать гораздо более привлекательную и достижимую модель политического развития для отстающих государств.
Путин выступил с аналогичным заявлением перед мировой элитой в Давосе. Как быстро выяснилось, он оказался не прав. Наклон плоскости, по которой покатилась Россия, оказался одним из самых крутых. Немедленная реакция Кремля была относительно адекватной. Она предотвратила лавину обращений в банки с целью возврата средств (важное достижение, учитывая хрупкость данного сектора), чему помогли накопленные в «тучные годы» золотовалютные резервы. Тем не менее рубль и фондовый рынок «просели». Стоимость акций упала на миллиарды долларов. Многие утратили свои сбережения. Миллионы людей стали безработными. Что до олигархов, то они, как говорят, потеряли огромную сумму – 250 миллиардов долларов. У многих из них не было иного выбора, кроме как с протянутой рукой отправиться в Кремль и умолять о кредитах для спасения своих империй.
Уличные протесты изредка случались даже во время пребывания Путина у власти. Власти обычно не вмешивались, поскольку демонстранты стремились привлечь их внимание к конкретным проблемам, например пенсиям или ценам на электроэнергию. Явно политическими по характеру они становились редко. Постепенно ситуация начала меняться. В начале 2009 года митинг во Владивостоке против пошлин на ввоз иностранных автомобилей превратился в антипутинский. Кремль так обеспокоился, что послал туда через всю страну, за тысячи километров элитные подразделения МВД. Политическая оппозиция начала объединяться под знаменем новой организации – «Солидарности», названной в честь польского профсоюза 8о–х годов, который помог ускорить крушение коммунизма. В лице Бориса Немцова, бывшего заместителя премьер–министра России, эта организация получила харизматического лидера. Группы вроде этой вызывали все большее раздражение Кремля, но были еще далеки от того, чтобы представлять собой прямую политическую угрозу.
Во время встречи Валдайского клуба меня поразило одно высказывание Тимоти Колтона, американского ученого, официального биографа Ельцина. Он отметил, что Россия не предложила модели «мягкой власти» и что она не обладает «привлекательной глобальной идеологией». Во многом это было правдой, но такие модель и идеология для внутреннего потребления имелись. Россия в путинские годы консолидировалась на почве обогащения, национализма и обиды. Путин черпал легитимность не из абстракций вроде верховенства права, неподкупности и транспарентности, а из способности режима обеспечивать политическую стабильность и экономический рост. Обязан ли Путин своим успехом своему уму – или ему просто повезло? Был он творцом роста во времена нефтяного бума – или его бенефициаром и сторожем? Неважно. Путин прошел тест на эффективность – вариант того, что применялся в Сингапуре и Китае. По крайней мере людей убедили в этом перед тем, как большая часть богатства испарилась. Путин руководил экономикой, которая все заметнее зависела от нефти и газа. Он призывал к диверсификации, но не выказывал никаких серьезных намерений в этом отношении. Он думал, что это и не нужно.
Проблемы Путина не создали серьезного окна возможностей для Медведева. Он использовал растущий интерес к себе в мире, чтобы предъявить собственный бренд, то, что он называет «политикой по правилам», чтобы сгладить некоторые наиболее острые углы путинского варианта авторитаризма. Было заманчиво поверить в то, что он, как он дал понять при встрече, – настоящий реформатор, но его планы были нарушены войной в Грузии. Медведев излагал аналогичные соображения перед западной аудиторией и проинструктировал своих доверенных лиц, чтобы они в ходе своих поездок следовали его примеру. Они старались доказать, что можно многого ждать от вновь заявленной приверженности борьбе с коррупцией, от обсуждения с Михаилом Горбачевым гражданских свобод, от нового созыва непонятного Совета по правам человека, созданного Путиным в 2004 году. Медведев и его команда возмущались всякий раз, когда звучали сравнения с Китаем: давний спор о том, является Россия европейской или азиатской страной, давно окончен.
Опросы общественного мнения в России демонстрируют, что сограждане Медведева не так уж в этом уверены. Результаты отразили стойкое неприятие западных политических (но не западных потребительских!) ценностей, которое зародилось до грузинского кризиса, но после него обострилось. Российская экономическая школа опубликовала данные об отношении к демократии, собранные в 2003– 2008 годах. Недоверие или враждебность к США выказали и молодые люди, и их бабушки и дедушки. Этот показатель слегка ниже в возрастной группе 35–45 лет. На вопрос, является ли западное общество хорошей моделью для России, 6о% опрошенных ответили отрицательно и только 7% – положительно. Авторы опроса сообщили, что такое отношение ужесточается с каждым годом. Неодобрение среди богатых выражено так же, как и среди бедных. Исследование показало, что россияне относятся к наименее увлеченным людям в мире: энтузиазма гораздо больше даже в Беларуси, этой «последней диктатуре Европы».
В любом случае вопрос о месте России в мире – это неправильно заданный вопрос. То, что произошло в путинскую эпоху, произошло с людьми, которых я знал, могло быть драматическим и более жестоким, чем в других странах, но смысл сделки не изменился. Всем дали возможность заработать – и россиянам, и иностранцам. Пакт начал трещать по швам, поскольку начала отходить потребительская «анестезия», а ничего другого, чем могло бы успокоиться сердце, у россиян не осталось.
Глава 4
Объединенные Арабские Эмираты: легкие деньги
Демократия – это система, с помощью которой обеспечивается по возможности наилучшая жизнь для народа. Это – не самоцель.
АЙМАН САФАДИ
Приехали все: Голливуд и Болливуд вперемешку с членами царствующих домов, персонажами из Галереи славы бейсбола и другими знаменитостями. Дубай приветствовал самую яркую тусовку изо всех когда‑либо виденных здесь. «Атлантис», колоссальный розовый отель–чудовище, открылся в ноябре 2008 года. Примерно 2 тысячи второсортных и третьесортных знаменитостей слетелись со всего мира, чтобы насладиться омарами и фейерверком (сообщалось, что он в семь раз мощнее того, которым сопровождалось открытие Олимпиады в Пекине). Напоказ был выставлен весьма специфический вариант пакта. В аравийской пустыне традиционное бедуинское государство устроило праздник в честь дворца алчности, принадлежащего еврею из Южной Африки. Ключевым событием вечера стало шоу Кайли Миноуг, всемирной гей–иконы.
В основу бизнес–модели было положено соучастие во имя потребления. Объединенные Арабские Эмираты стали идеальным местом для тех, кто хотел быстро разбогатеть, не задавая при этом много вопросов. Можно было удовлетворять свои самые безумные фантазии – за закрытыми дверями. Правящим семьям ОАЭ понадобилось только щелкнуть пальцами, чтобы к ним тут же слетелись политики, предприниматели и люди искусства. Всех, кто собирался обогатиться, принимали радушно, вне зависимости от цвета их кожи и паспорта. В этой связи все смотрели сквозь пальцы на то, что делали остальные. Всеобщая мечта стала реальностью: на десять лет или даже больше все стали победителями.
Затем все рухнуло. Как раз после открытия «Атлантиса» экономическая система развалилась. Цена барреля нефти упала до 50 долларов, то есть до трети от пиковой стоимости. Цены на недвижимость рухнули, фондовые рынки – также. Десятки тысяч иностранцев – британцы, индийцы, русские и все остальные – запаниковали. Из‑за кризиса ликвидности стало невозможно провести рекапитализацию или избавиться от имущества – все равно по какой цене. Распродажа проблемных активов еще сильнее понизила цены. Из‑за «эффекта домино» половина всех строительных проектов в регионе на сумму примерно 600 миллиардов долларов была приостановлена или свернута. На окраинах города, у кромки пустыни, остались недостроенные высотки.
Тысячи иностранцев, отправившихся в Дубай в надежде быстро разбогатеть, внезапно обнаружили, что их пассивы превышают активы (цена недвижимости оказалась ниже суммы ипотечного кредита). Безработные лишились рабочих виз и должны были покинуть страну в течение месяца. Многие решили сделать это добровольно. Просрочив платежи по кредитам, за что в ОАЭ можно сесть в тюрьму, тысячи людей буквально бежали. Парковки в аэропорте оказались заполнены машинами, брошенными владельцами с ключами в замке зажигания, с записками–извинениями на лобовых стеклах. Владельцы «Атлантиса», как и все их предшественники, не предполагали, что бизнес может заглохнуть: маркетинговые исследования подтверждали, что в людях, желающих заплатить 25 тысяч долларов в сутки за номер и поглазеть на акул и скатов в громадном застекленном аквариуме в холле, недостатка не будет. Тем не менее буквально за несколько месяцев дело дошло до размещения рекламы с предложением скидок на групповые туры.
Дубай был главным центром притяжения в Эмиратах. Когда мечта истаяла, он пострадал сильнее всего. Абу–Даби был более серьезным игроком, причем ему почти ничего для этого не требовалось: благосостояние гарантировалось нефтью. Абу–Даби обеспечивает 95% нефтедобычи ОАЭ и более половины ВВП страны. У эмирата больше денег, чем он способен потратить, и годами он искал все более изобретательные способы их разбрасывать. Один бизнесмен как‑то сказал мне, что «у них больше нефти, чем у бога – долларов». Сделка и правила игры в этом случае были сложнее. И эта модель оказалась более устойчивой.
«Если эта доктрина окажется успешной, то родится новый мир», – Ашраф Маккар пил со мной чай в одном из многих роскошных отелей Абу–Даби рядом с усаженной пальмами набережной Эль–Корниш. Некогда корреспондент агентства
«Рейтер», сейчас он служит советником по медиа в «Мубадала девелопмент компани» (МДК): серьезная должность в серьезной компании. МДК – инвестиционное агентство самого большого и богатого из семи эмиратов, образующих ОАЭ. Маккар, дородный, по–боевому настроенный мужчина, который журит меня за выбор темы беседы. Я поинтересовался, могут ли фонды национального благосостояния, созданные государствами Персидского залива, Китаем, Сингапуром и другими странами и скупающие большие доли в международных корпорациях, представлять опасность для остатков либеральной демократии и диктовать условия по всему миру. Маккар целыми фразами повторяет мне давно забытый текст. Я вспоминаю заголовок «Сингапур разделывает под орех британского писателя». На этот раз, впрочем, наставление было личным, устным и очень тактичным. Маккар сказал: «Здесь глобализация работает». Каждый приезжал в Абу–Даби (а позднее – в молодой Дубай) не только за богатством, но и за посланием, которое Эмираты транслировали в качестве глобальной модели мультикультурализма: «Посмотрите на эти огни. Никто не празднует Рождество лучше этих ребят». Он настаивает, что это модель гармонии: «Это единственное место, где индийцы и пакистанцы вместе играют в крикет. Собственность преобразует мир. У людей есть обоснованный интерес к тому, чтобы это место процветало».
Отец нынешнего правителя, шейх Зайд ибн Султан аль-Нахайян, превратил Абу–Даби из нескольких разбросанных в пустыне лачуг, зависящих от добычи жемчуга и скудеющей торговли скотом, в сияющий мегаполис. Шейх Зайд пришел к власти в 1966 году при поддержке уходящих британских колониалистов. В то время как Бахрейн и Катар предпочли независимость, шейх призвал соседей образовать федерацию, Объединенные Арабские Эмираты, и пообещал поделиться огромными природными ресурсами, предоставив при этом значительную автономию другим кланам. Наблюдая за тем, как его эмират богатеет благодаря нефти, шейх Зайд решил в конце 90–х годов, что город–государство следует всесторонне развивать, чтобы превратить в наилучшее место для проведения деловых, спортивных и культурных мероприятий, а также в место паломничества европейских любителей позагорать. Он настаивал на том, что все это должно произойти без посягательств на исконную культуру бедуинов и потворства неконтролируемому развитию вульгарного космополитического сообщества Дубая. Зайд не видел особой нужды открывать страну, не говоря уж о королевской семье, для любопытных взглядов:
Почему нам следует отказываться от системы, которая нравится нашему народу, ради системы, которая, возможно, породит разногласия и конфронтацию? Наша система правления основана на религии, и именно этого хочет наш народ. Если люди захотят альтернативы, мы готовы к ним прислушаться. Мы всегда утверждали, что нашему народу следует открыто выражать свои пожелания. Мы все в одной лодке, где народ – и капитан, и команда.
Унаследовавший в 2004 году трон Халифа ибн Зайд аль-Нахайян продолжил открывать Абу–Даби миру. Каждый шаг, однако, был тщательно выверен. У шейха есть дворцы и роскошные отели, какие только может пожелать любой монарх. Однако сильнее всего он хотел, чтобы королевство принимали всерьез, и был полон решимости добиться этого. Ресурсом, который необходимо было для этого приобрести, оказалась культура. Было выделено примерно 20 миллиардов ф. ст. на то, чтобы пригласить лучших архитекторов мира и приобрести лицензии лучших музейных «брендов» – с тем, чтобы их филиалы появились в Абу–Даби. Для строительства был выделен Саадият, «Остров счастья», один из нескольких искусственных островов, насыпанных для расширения площади Абу–Даби. Здесь архитектор Фрэнк Гери, спроектировавший знаменитый музей Гуггенхайма в Бильбао, строит новейший и самый большой в мире филиал этого музея. Французский модернист Жан Нувель проектирует первое в мире представительство Лувра. Оба музея будут на время предоставлять работы из своих коллекций для экспозиции, и каждый из них получит сотни миллионов долларов за право использования своей «торговой марки». Рядом с этими памятниками гаргантюанским фантазиям вырастет новый Национальный музей им. шейха Зайда, спроектированный Норманом Фостером, и театрально–концертный комплекс на 6 тысяч мест по проекту Захи Хадид. «Культурный хаб» также вберет в себя филиал Сорбонны и кампус Нью–Йоркского университета, который окажется первой американской гуманитарной школой, учредившей представительство за границей. Переговоры велись также с Публичной библиотекой Нью–Йорка (наряду с другими ведущими мировыми библиотеками) и нью–йоркскими же «Метрополитен–опера» и Линкольн–центром.
Имело место серьезное сопротивление – скорее во Франции, чем в Америке, – идее экспорта культуры в пустыню. Взгляд скептиков выразил президент Сорбонны Жан–Робер Питт: «Действительно ли мы можем принести культуру погонщикам верблюдов и продавцам ковров?» Искусствоведы обвиняют шейха в «подкупе» западных музеев с тем, чтобы они одобрили не более чем художественную версию тематического парка развлечений, вроде тех, которые строятся повсюду в странах Персидского залива. Эксперты в области дизайна жалуются на «архитектурную мегаломанию». Сам Гери назвал возведение на острове Саадият такого количества важных зданий близко друг к другу «свальным грехом». Ряд ведущих деятелей культуры Европы и Америки выражает недовольство тем, с какой наглостью происходит покупка культуры… так, словно бы изначально то же самое не происходило у них дома. В начале 2008 года более 4 тысяч французских ученых, историков искусства, археологов и других специалистов подписали петицию против сотрудничества Лувра с властями Дубая, настаивая на том, что культурное попечительство Франции «не является предметом торговли».
Понадобилось более 18 месяцев, чтобы завершить сделку с Лувром. Заниматься этим назначили бывшего французского дипломата высокого ранга Жана Д'Оссонвиля. Он видел свою задачу как часть освященной временем mission civilisatrice[25]25
Цивилизаторской миссии (фр.) – – Прим. пер.
[Закрыть] Франции. Он заявил, что французские избиратели и ценители искусства должны по достоинству оценить идею «сдерживания [исламского] фундаментализма с помощью культуры». За этими словами скрывался реальный мотив: наличные. Абу–Даби заплатил более 500 миллионов долларов только за использование наименования «Лувр». Сумма сделки составила 1,2 миллиарда.
Чтобы смягчить критиков, французское правительство учредило при Лувре наблюдательный совет, перед которым была поставлена задача проследить за тем, чтобы художественные стандарты и художественная свобода не подвергались риску. Критики предсказывали, что после открытия, около 2012 года, музею придется приспосабливаться к своим консервативным хозяевам. «Слава богу, Моне рисовал водяные лилии [а не обнаженную натуру] – отметила газета «Ли берасьон». Д'Оссонвиль признал, что последнее слово останется за местным правительством, а не за наблюдательным советом: «В конце концов это их страна, их музей, поэтому они могут отказываться от любых экспонатов».
Те, кто осуждает культурные компромиссы, присущие таким проектам, как Саадият, возможно, правы, но они выбрали для критики неверные цели. Учитывая бездонную глубину карманов шейха Халифы, не следует осуждать его за стремление тратить деньги на высокое искусство. Куда более спорной представляется моральная позиция продавцов искусства на Западе – но, как мне приходилось видеть, в сделках между западными институтами и иностранными правительствами об этике вспоминают редко, когда речь заходит о деньгах. Вопрос в данном случае таков: приносят ли университеты и музеи интеллектуальную свободу и возможность дискуссий в страну, где свобода выражения ограничивается, а демократии никогда не было.
Когда Джордж У. Буш выбрал Абу–Даби в качестве места для произнесения речи о «демократии и грядущей свободе» в январе 2008 года, смысл этого действия заключался в том, что выбор пал на страну с набором едва ли не наименее развитых политических институтов в регионе. Со времени возникновения страны (почти 40 лет назад) в ОАЭ всего однажды произошла передача власти и всего однажды прошли своего рода общенациональные выборы. В 2006 году коллегия выборщиков, сформированная королевскими семьями, проголосовала за 20 человек, которым предстояло войти в Федеральный национальный совет. Остальные 20 членов были назначены. Этот совет имел только консультативные функции. Политические партии запрещены, а свобода прессы ограничена.








