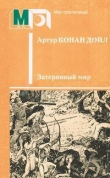Текст книги "Жизнь сэра Артура Конан Дойла. Человек, который был Шерлоком Холмсом"
Автор книги: Джон Карр
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 26 страниц)
И это – пробный камень. Когда Челленджер угрожает судебным преследованием телефонной компании за то, что его телефон звонит в то время, когда он хочет, чтоб его не тревожили, он так же хорош, как и в тот миг, когда с важным видом расхаживает среди женщин-обезьян. Челленджер и его друзья все несут с энергией своего создателя. Они восхищали бы нас, даже если бы только отправились на однодневную экскурсию в Маргит. Конечно, в Маргите что-нибудь произошло бы. Об этом позаботился бы Челленджер. Но само признание нами этого факта, наша ухмылка в ожидании и воображении этого показывают, что он из плоти и крови: нестареющий, как Микобер и Тони Веллер.
В канун Рождества в «Уиндлшеме» в последний раз в Сассексе можно было увидеть обычай многовековой давности. Участники рождественской пантомимы с драконом, в серебряных доспехах исполнили в бильярдной пьесу чудес. От ламп в розовых абажурах падал свет на пляшущих и гримасничавших участников представления. Джин и ее муж поднимали на руки маленьких детей, чтобы им было лучше видно. Тем временем он занялся фиктивными фотографиями, которые он обещал Гринхоу Смиту.
«Что вы думаете об этом?» – с гордостью спрашивал он.
С огромной черной бородой, с приклеенными бровями и в парике, он смотрелся на фотографии, как профессор Челленджер. Была еще одна фотография, где он изображен сидящим среди друзей, олицетворявших Рокстона, Саммерли и Малоуна. Но портрет крупного плана, на котором он был увенчан шелковой шляпой, должен был представлять Челленджера в качестве иллюстрации в «Странде».
«Характерен хмурый взгляд», – написал он Гринхоу Смиту 9 февраля 1912 года. «Сердитый взгляд Конанов» – так называет это сэр Вальтер Скотт в конце одного из своих романов.
Гринхоу Смит был встревожен. Он сказал, что такая маскировка, хотя она и достаточно ужасна, может быть раскрыта, и журнал попадет в беду за обман. «Ну хорошо, – согласился Конан Дойл три дня спустя. – Ни слова о фотографии проф. Ч. Я начинаю осознавать мою собственную дерзость. В конце концов, это не я. Я всего лишь блок, на котором построена воображаемая фигура. Но не отдавайте ее».
В то же время он был так доволен своей маскировкой под Челленджера, что решил ее на ком-нибудь испытать. Милях в тридцати, в поместье брата Вилли сэра Хорнанга, в Вест-Гринстед-Парке, жили Хорнанги с сыном Оскаром. Очевидным шагом, подумал он, было бы попробовать ее на Вилли.
Это привело к неприятностям. Объявив, что он является герром доктором Некто, этот косматый призрак во весь свой рост появился в дверном проходе. Он сказал, что он – друг герра доктора Конан Дойла, и не согласится ли герр Хорнанг принять его?
К счастью или к сожалению, Хорнанг был близорук. Более того, он привык к тому, что другом его зятя мог быть кто угодно – от бродяги до премьер-министра. Он его шумно приветствовал. И посетителю, громко выговаривавшему длинные предложения по-немецки, на протяжении нескольких минут удавалось играть свою роль. А потом Хорнанг рассердился. Указав гостю на дверь, он поклялся, что никогда этого не простит. Герр доктор в его шелковой шляпе с трясущимися от смеха плечами с позором удалился.
Это была одна сторона его жизни. А теперь, с приближением 1912 года, давайте взглянем на другую ее сторону.
Сплошная лихорадка, состоявшая из работы, полемики и активности. Ассоциация за реформы в Конго одержала победу при преемнике короля Леопольда, молодом и резко от него отличавшемся короле Альберте. Конан Дойл уже изменил свои взгляды и высказался в поддержку гомруля для Ирландии. «В 1905 году я говорил, – писал он, – что гомруль может прийти только со временем и что это будет безопасно лишь с изменением экономических условий и прежде всего после того, как местные представительские институты пройдут надлежащее испытание. Мне кажется, что сейчас эти условия в достаточной мере выполнены».
В 1912 году он присоединился к Союзу за реформы бракоразводного процесса, который выступал против церкви и палаты общин за некоторое изменение примитивных английских законов о разводе. В том же году он оказал гостеприимство Совету Британской медицинской ассоциации, которая проводила свою ежегодную конференцию в «Уиндлшеме». По предложению лорда Нортклиффа, который сказал, что он – единственный лидирующий представитель спорта, который сможет это сделать, он взял на себя бремя объединения двух несогласных друг с другом фракций и сбора средств для того, чтобы лучше подготовить британских спортсменов к Олимпийским играм 1916 года. То была сложная дипломатия, вызывавшая раздражение. Это продолжалось целый год, и от этого с отвращением отказался бы кто-нибудь менее упорный. Но самое главное, он опять начал разрешать тайну убийства и добился освобождения невиновного человека. И в этом мы ясно видим то, что Роберт Льюис Стивенсон однажды назвал «белым знаком отличия Конан Дойла».
Вот какими были обстоятельства дела об убийстве, взятые как будто из грез в духе Де Куинси. Все произошло за три с лишним года до этого.
Представьте себе тихую боковую улочку в Глазго; декабрь, семь часов вечера; в тумане дождя мерцает свет газовых фонарей. На некотором удалении справа от вас, когда вы поворачиваете с улицы Куинс-Кресент, расположен дом номер 15 по Куинс-Террас.
Мисс Мэрион Джилкрайст, восьмидесятитрехлетняя зажиточная пожилая леди, до 1908 года жила там уже давно. Все, кто приходил к мисс Джилкрайст, сначала открывали уличную дверь и проходили лестничный пролет к двери ее квартиры, которую она запирала на два замка. Не упакованными в коробки мисс Джилкрайст хранила в незанятой спальне на виду или спрятанными среди одежды в гардеробе драгоценности на сумму в три тысячи фунтов. Она договорилась с господином Артуром Эдамсом, который жил в том же доме в квартире внизу и столовая которого находилась под ее столовой, что она будет стучать ему в потолок, если что-то вызовет ее беспокойство или понадобится его помощь.
«Она никогда не боялась, что кто-нибудь причинит боль ей лично, – показал бывший слуга. – Но она испытывала большой страх оттого, что в квартиру может кто-то проникнуть».
Вечером 21 декабря 1908 года пожилая леди находилась у себя в квартире с одной прислугой, девушкой двадцати одного года по имени Хелен Лэмби.
Теперь смотрите, что произошло.
Большие напольные часы в холле квартиры бьют семь. Хелен Лэмби вышла, чтобы выполнить небольшое поручение. На двери квартиры – два запатентованных замка (запатентованный замок был предшественником пружинного замка; его можно было открыть изнутри). Хелен Лэмби запирает за собой дверь и берет оба ключа. Пожилая леди остается одна в столовой, душной комнате, увешанной картинами в позолоченных рамах. Надев очки, мисс Джилкрайст сидит за столом спиной к камину и читает. Еще одна газовая горелка в синем абажуре горит в холле. За какие-то десять минут происходит убийство.
По соседству, в своей столовой, которая находилась как раз под столовой мисс Джилкрайст, сидел господин Артур Эдамс с сестрами Лаурой и Ровеной. Они услышали глухой удар в потолок, а потом три отчетливых стука. Лаура Эдамс обратила на это внимание брата.
«Она предложила вам подняться и посмотреть, что происходит?» – спрашивали его позднее.
«Она тут же послала меня наверх».
Господин Эдамс, который был музыкантом, выскочил в такой спешке, что забыл очки. На улице было холодно, продолжал идти дождь. Входная дверь дома была приоткрыта. Он пробежал по лестничному пролету к двери квартиры мисс Джилкрайст и три раза сильно потянул за веревку звонка. Никакого ответа, тихо, как в гробу.
Но сквозь длинную стеклянную панель на обеих сторонах двери господин Эдамс мог видеть синий газовый фонарь, который горел в холле. Через несколько мгновений он услышал, как ему показалось, из кухни какие-то неясные шумы и подумал, что дома была девушка-служанка. «Показалось, – говорил он, – что кто-то нарубает щепки – такие несильные удары».
Стук и стук! Несомненно, это Хелен Лэмби рубила дрова для кухонной печки и не позаботилась ответить на звонок в дверь. Господин Эдамс опять спустился вниз.
«Я сказал сестрам, что в доме все освещено и я не думаю, чтобы что-то случилось. Я подумал, что это девушка. Но Лаура думала по-другому. Она опять отправила меня туда».
В квартире опять прозвенел звонок. На этот раз больше не было никакого шума, совсем никакого. Продолжая колебаться, он стоял на слабо освещенной лестничной площадке и все еще держал руку на звонке, когда услышал шаги внизу на лестнице. Это была Хелен Лэмби, которая возвращалась, выполнив поручение купить газету. Он сказал ей, что произошло, должно быть, что-то серьезное, что «потолок чуть не треснул».
«О, – беспечно ответила девушка, – это, наверно, натяжки». Она имела в виду веревки для сушки белья, которые висели на кухне; они иногда падали. Она открыла дверь, которая защищала мисс Джилкрайст. Что произошло дальше, промелькнуло в глазах господина Эдамса одновременно с яркостью и смутностью впечатлений.
Когда Хелен Лэмби проходила через холл в направлении кухни, в холле, вероятно, из незанятой спальни появился человек. Без очков господин Эдамс видел его лицо очень смутно, но он казался человеком «джентльменского вида и хорошо одетым». Этот человек спокойно подошел к двери, после чего «подобно черной молнии исчез внизу». Хелен Лэмби, на которую это, видимо, не произвело впечатления, заглянула в кухню, потом прошла в спальню, где горел свет. Многие из украшений по-прежнему лежали на туалетном столике, но шкатулка с личными бумагами перевернутой лежала на полу, а ее содержимое было разбросано.
Только после этого господин Эдамс обрел дар речи. «Где же ваша хозяйка?»
Хелен Лэмби направилась к столовой и открыла дверь. По прошествии многих лет мы не можем слышать ее интонацию, но слова были такими: «О, идите сюда».
Старушка, которая так боялась грабителей, лежала у камина головой к решетке, а рядом валялись ее зубные протезы. Хотя на ее тело был накинут половик из звериной шкуры, была видна кровь на камине, каминных принадлежностях, ведре для угля. Ее голова и лицо были настолько обезображены побоями, что не будем это описывать.
Таким было убийство Мэрион Джилкрайст вечером 21 декабря 1908 года. Подлинные свидетельства, включая многие из тех, что были получены в ту же ночь, стали известны лишь много лет спустя. Когда Конан Дойл впервые начал изучать это дело, мы лишь внешне проследим за поведением полиции Глазго.
По-видимому, единственным предметом, который был украден из квартиры мисс Джилкрайст (согласно единственной свидетельнице, Хелен Лэмби), была бриллиантовая брошь в форме полумесяца и размером с монету достоинством в пол кроны. Потрясенная, она сообщила об этом инспектору сыска Пайперу в ночь убийства. В день Рождества полиция узнала, что в Слопер-клубе на продажу была предложена ломбардная расписка за бриллиантовую брошь некоей сомнительной личностью по имени (наиболее часто употреблявшемуся) Оскар Слейтер. В рождественскую ночь Слейтер уехал в Ливерпуль с несколькими чемоданами и любовницей, которую звали мадам Джунио. В «день подарков», второй день после Рождества, Слейтер и мадам Джунио отплыли в Нью-Йорк на пароходе «Лузитания».
Заложенная брошь представлялась сильным свидетельством. Но, как тут же обнаружила полиция, это была не та брошь, которая принадлежала мисс Джилкрайст. Оскар Слейтер заложил брошь, которая была его собственностью, за месяц с лишним до убийства.
Полиция потеряла голову. Они предлагали вознаграждение в 200 фунтов и отправили телеграмму в Нью-Йорк с требованием арестовать Слейтера по прибытии. Тем временем четырнадцатилетняя девочка Мэри Барроумэн – она проходила мимо дома мисс Джилкрайст в вечер убийства – дала описание человека, который выскочил из дома, едва не сбив ее с ног, и убежал прочь как раз в то время, когда должен был убегать убийца.
Хотя она лишь мельком видела его в тот темный дождливый вечер на плохо освещенной улице, четырнадцатилетняя Мэри в деталях описала внешность человека и его одежду. Ее описание не совпадало с более расплывчатыми показаниями господина Эдамса и Хелен Лэмби. Не подходило оно и под настоящего Оскара Слейтера. Но после нескольких дней допросов Хелен изменила свои показания и согласилась с Мэри в отношении одежды человека.
Взяв с Мэри и Хелен клятву, что они ни с кем не будут разговаривать об этом деле, их срочно посадили на пароход, на котором у них была одна каюта, и отправили в Нью-Йорк для опознания Слейтера. Им были показаны его фотографии. Когда закованного в наручники Слейтера в сопровождении двух американских полицейских вели по коридору в зал заседаний суда, депутация из Глазго организовала дело таким образом, что в коридоре в это время находились Мэри и Хелен.
Вот что происходило в зале заседаний американского суда.
«Да, я его опознаю» – к такому решению пришли обе девушки после долгих колебаний.
Позднее они горячо клялись в том, что никогда не сомневались в его личности.
Напрасно Слейтер эмоционально выкрикивал, что он никогда не слышал о мисс Мэрион Джилкрайст и ее драгоценностях, что в Глазго он был человеком новым, что он (и это впоследствии было доказано) организовал свою поездку в Нью-Йорк за несколько недель до трагедии. Вопреки совету американского адвоката, он отказался от процедуры выдачи и вернулся для суда в Шотландию.
Оскар Слейтер уже не был героем вымышленного рассказа. То, что он наполовину немец и наполовину еврей, могло или не могло содействовать возникновению против него сильных предубеждений. Но он владел игорными домами в Лондоне и Нью-Йорке, у него были сомнительные доходы, он содержал любовницу, которая к тому же, возможно, была проституткой. Из-за всего этого предубеждения достигли предела, когда 3 мая 1909 года Слейтер появился в Высоком суде Эдинбурга.
Слейтер – широколицый, с могучей грудью, с черными волосами и усами – приятно выглядел, но был презренным чужеземцем, когда он терзался на маленькой скамье подсудимых между двумя полицейскими констеблями. Полные показания на суде, поскольку они были отвратительной подковерной историей, не должны нас отвлекать. Обвинение утверждало, что Слейтер совершил убийство с применением небольшого молотка из набора инструментов, хотя медицинские эксперты выражали в этом сомнение. У Слейтера было алиби, но это не было принято во внимание, поскольку оно основывалось на показаниях его любовницы и девушки-служанки. Мэри Барроумэн и Хелен Лэмби указывали на него. Господин Эдамс, который также ездил в Нью-Йорк, не мог поклясться в том, что Слейтер – это убийца, который был в квартире.
Вот перекрестный допрос, который от имени защиты проводил господин Маклюр:
«И даже после всего того, что вы слышали, вы не можете высказать абсолютную уверенность в том, что это именно тот человек?»
«Нет, – отвечал свидетель. – Это слишком серьезное обвинение, чтобы выдвигать его против человека, которого я видел лишь беглым взглядом».
Королевский адвокат господин Юре произнес потрясающую речь. Как мог убийца проникнуть в запертую на два замка квартиру? Он этого не коснулся. Откуда Слейтер знал, что у мисс Джилкрайст были драгоценности? Он обещал это объяснить, но не сделал этого. Кроме того, господин Юре несколько раз исказил факты в ущерб Слейтеру, а судья не счел нужным его поправить. Жюри большинством голосов, как это разрешено в Шотландии, вынесло вердикт (девять – «виновен», пять – «не доказано», один – «невиновен»), признав Оскара Слейтера виновным в убийстве.
Некоторые выражали недовольство, что Слейтер на своем невнятном и ломаном английском устроил неприятную сцену, прервав заседание, когда судья собирался огласить ему смертный приговор. Ведь люди, которые ведут недостойный образ жизни, не могут испытывать болезненного замешательства или испуга. В своей вспышке Слейтер бубнил одно и то же:
«Я ничего не знаю об этом деле, абсолютно ничего! Я никогда не слышал этого имени! Я ничего не знаю об этом деле! Я не понимаю, как меня могут связывать с этим делом! Я ничего о нем не знаю! Я приехал из Америки на свой собственный страх и риск!» И далее: «Не могу сказать больше ничего».
27 мая его должны были повесить в тюрьме Глазго. Но совесть шотландцев пробудилась после этого морального взрыва, и они направили двадцать тысяч петиций с требованием отсрочки приговора. Слейтеру оставалось жить всего день, когда он узнал, что министр по делам Шотландии лорд Пентлэнд смягчил приговор, заменив его на пожизненную каторгу. После этого приговоренный исчез в Питерхед: там, по всей вероятности, он и должен был оставаться.
К Конан Дойлу, как он сообщал в письме Мадам, обратились «адвокаты», предположительно адвокаты Слейтера. Он с неохотой взялся за это дело. Оно отличалось от дела Эдалжи; он считал Слейтера мерзавцем и объявил об этом в написанной им брошюре. Но дело не в характере человека! Если он невиновен в убийстве, надо сделать все для его освобождения.
«Этот паладин проигранных дел, – пишет господин Уильям Рафхед, – нашел в сомнительных обстоятельствах этого дела нечто близкое его сердцу».
Он уже начал вести кампанию в прессе. В августе 1912 года издательство «Ходдер энд Стоутон» выпустило его брошюру «Дело Оскара Слейтера». Он еще не впал в ту неукротимую ярость, которая охватила его, когда он узнал о некоторых закулисных маневрах.
«Невозможно, – писал Артур, – читать о фактах и взвешивать их… без чувства глубокой неудовлетворенности процессом и моральной уверенности в том, что правосудие не восторжествовало». Шаг за шагом он разрушил все свидетельства. Но какова же альтернативная теория?
Те, кто поддерживал Слейтера, с самого начала примечали некоторые значительные вещи. Почему эта девушка, Хелен Лэмби, не выразила никакого удивления, когда внезапно обнаружила незнакомца в запертой квартире? Может быть, потому, что этот человек не был незнакомцем? Потому что девушка узнала его? То же самое относилось и к самой жертве. Может быть, мисс Джилкрайст ждала его и впустила в свою квартиру?
В брошюре «Дело Оскара Слейтера» Конан Дойл выдвинул новую линию предположений.
«Один вопрос, который следует задать, – писал он, – состоит в том, проникал ли убийца в квартиру именно за драгоценностями».
Давайте рассмотрим поведение убийцы. Нанеся жертве удары по голове каким-то неизвестным предметом, указывал автор, убийца сразу направился в ту самую спальню и зажег газ. Но он не тронул ценные кольца и часы, которые открыто лежали на туалетном столике. Вместо этого он взломал деревянную шкатулку, в которой хранились личные бумаги мисс Джилкрайст, и оставил эти бумаги разбросанными по всему полу.
«Не были ли его целью эти бумаги, – задавал вопрос автор брошюры, – а пропажа одной бриллиантовой броши – лишь отвлекающим маневром?» Возможно, он охотился за документом, например за завещанием. Это сделает все дело намного более понятным.
Была и еще одна теория, основанная на том, что кража драгоценностей была кем-то прервана. Но все теории возвращались к проблеме запертой на два замка двери и неразбитым окнам. Либо мисс Джилкрайст сама впустила убийцу, либо у него были дубликаты ключей. Даже если у него были ключи от патентованных замков, он мог получить шаблоны для них лишь при сознательном или несознательном потворстве кого-то из тех, кто там жил.
Но сейчас мы живем уже в 1912 году. Загадка того, что произошло в те роковые десять минут, чье лицо видела Мэрион Джилкрайст в забрызганной кровью столовой, на время уходит из жизни Конан Дойла. Мы дышим лучшей атмосферой двух встреч, которые произошли в том году. Мы видим вызывающее удовольствие, классическое выражение лица Джорджа Бернарда Шоу.
Глава 18
ТЕНИ: ТЕПЕРЬ ПРИШЛА ОПАСНОСТЬ!
В тот декабрьский вечер в зале «Мемориал-Холл» на Фаррингдон-стрит господин Шоу и Конан Дойл выступали ораторами на таком большом собрании людей, что толпой на улице была вынуждена управлять полиция.
Хотя они были друзьями на протяжении многих лет, с тех пор как Конан Дойл писал свои первые рассказы о Холмсе, а зеленоватое лицо и рыжая борода господина Шоу вызывала такую болезненную реакцию Генри Ирвинга, встречались они нечасто. Но в 1912 году состоялись две встречи: первая, в начале года, была довольно язвительной и произошла на газетных страницах.
Поводом послужила широко известная катастрофа на море. 10 апреля самый большой и роскошный пассажирский лайнер «Титаник» вышел из Саутгемптона в свое первое плавание. Водонепроницаемые отсеки «Титаника», как говорили, были инженерным чудом. На его борту находилось больше спасательных шлюпок, чем того требовало министерство торговли. Лишь впоследствии выяснилось, что предписания министерства торговли, которые не менялись с 1894 года, относились к судам водоизмещением в десять тысяч тонн, почти в пять раз меньше, чем водоизмещение «Титаника».
Поздно вечером 14 апреля «Титаник», шедший со скоростью двадцать один с половиной узлов, не смог вовремя повернуть штурвал. Капитан Э.Дж. Смит, следуя практике других командиров морских судов, выставил дозорные вахты и рискнул пройти сквозь льды. Айсберг распорол борт «Титаника» как консервную банку, хотя после этого он еще оставался на плаву в течение двух с половиной часов. На борту находились 2206 человек. Вместимость спасательных шлюпок, включая четыре разборные и две на случай чрезвычайных обстоятельств, составляла 1178 человек. Даже при самом здравом суждении (а такового не возникло) было ясно, что вместимости шлюпок хватит немногим более, чем на половину человеческого груза лайнера.
Давний друг-противник Конан Дойла У.Т. Стед утонул вместе с «Титаником». Как и многие другие, включая механиков, которые до двух ночи работали по пояс в воде, поддерживая освещение и работу помп. «Мы прожили вместе сорок лет, – сказала госпожа Исидора Штраус, отказавшаяся садиться в шлюпку без мужа. – Мы не расстанемся и сейчас». Лишь 711 человек спаслись.
Сообщения о бедствии – по радио и светящимися сигнальными ракетами в безлунную ночь – поступили в Англию в виде противоречивых и отрывочных слухов. Британская пресса поспешила отрапортовать, что на борту «Титаника» были проявлены храбрость и даже героизм.
Это и вызвало презрение и отвращение господина Джорджа Бернарда Шоу.
Любые утверждения о «романтике» или «сентиментальности» всегда были анафемой для господина Шоу. Он написал в газету «Дейли ньюс энд Лидер» письмо, упрекая британскую прессу за оргию романтической лжи. Он с сарказмом отметил британский «романтический спрос» на героизм во время кораблекрушения, сравнив его с тем, что он назвал «подлинными свидетельствами» того, что поведение командиров, экипажа и пассажиров было каким угодно, но только не героическим.
Это рассердило Конан Дойла, который написал ответ, указав, что подлинные свидетельства господина Шоу не подкреплялись фактами и что не время было подвергать сарказму жертвы «Титаника», будь то оставшиеся в живых или погибшие.
Господин Шоу был скор на свой собственный ответ, в котором балансировал, как балетный танцор.
Он выражал надежду на то, что его друг сэр Артур Конан Дойл после его романтического и участливого протеста прочтет его письмо еще три или четыре раза. Его, господина Шоу, неправильно поняли. Если журналисты пишут слова похвалы, еще не узнав подробностей, они виноваты во лжи. Не важно, отмахивался господин Шоу от деталей, что лишь позднее появились подлинные свидетельства, подтверждавшие сообщения журналистов о тех людях на «Титанике», которые выполнили свой долг. Он, господин Шоу, говорил лишь о первых свидетельствах, и тем самым он как бы исполнял балетный танец вокруг того факта, что сам он использовал как первые, так и последующие свидетельства для того, чтобы высмеять свои источники в первоначальном письме.
«Ну и ладно, – мог бы сказать непредубежденный наблюдатель. – Это было забавно. Теперь можно и остановиться».
Но он, господин Шоу, не хотел допускать никакого сочувствия к капитану Смиту. Капитан Смит потерял свой корабль и был непростительно неэффективен. Никакое оправдание, каким бы убедительным оно ни было, не могло обратить провал в успех. Капитан Смит был мертв, он утонул вместе с лайнером; он, господин Шоу, никогда бы и шепотом не произнес ни слова, которое огорчило бы семью капитана Смита, если бы журналиста не начали его хвалить; в Королевских военно-морских силах такой человек был бы предан военному трибуналу. Что касается «сентиментальных идиотов со срывающимся голосом», то он, господин Шоу, испытывал в их отношении лишь нетерпеливые чувства презрения. Он, как всегда, был логичен.
Именно поэтому интересно проследить за поведением господина Шоу и Конан Дойла в конце того же самого года, когда оба они выступали с речами об Ирландии.
На этом огромном собрании в зале «Мемориал-Холл» на Фаррингдон-стрит музыка ирландских свирелей сопровождала выходивших на сцену ораторов. Сцена была украшена гирляндами из флагов зеленого и оранжевого цвета, которые олицетворяли католическую и протестантскую части Ирландии. Это было собрание английских и ирландских протестантов. Они высказали возражения против позиции, занятой североирландскими протестантами, – позиции, подразумевавшей, что гомруль будет означать преследования протестантского меньшинства католическим большинством.
Это не была трагедия, подобная «Титанику»; можно аплодировать каждому их слову.
Хотя помимо господина Шоу и Конан Дойла были и другие ораторы, именно на них в первую очередь обратила внимание пресса. Оба были союзниками в заявлениях о том, что преследований католиков не будет. Выйдя на сцену, увешанную оранжевыми и зелеными флажками, господин Шоу со всей серьезностью заявил аудитории:
«Я – ирландец. Мой отец был ирландцем. Мать была ирландкой. Мои отец и мать были протестантами, которых, благодаря силе их веры, можно было бы назвать воинствующими протестантами». А потом господин Шоу попытался затронуть души слушателей.
«Но многие из тех забот, которые падали на мою мать, – кричал он, – разделяла служанка-ирландка, которая была католичкой. И она никогда не укладывала меня спать, не окропив святой водой».
Здесь надо с сожалением заметить, что ирландская аудитория не смогла отнестись к этому серьезно. В картине господина Шоу, окропляемого святой водой, для протестантов и католиков не хватало элемента пафоса. Рассерженный и по понятным причинам приведенный в бешенство оратор потребовал объяснить, почему они смеются над такой трогательной сценой. Потом это, возможно, придало ему красноречия.
«Я уже достиг того возраста, когда могу оглянуться на свою жизнь, – заявил он. – Сложилась любопытная и не совсем оправданная ситуация, при которой ни одно из моих достижений благодаря таланту, трудолюбию и рассудительности никогда не вызывало у меня какого-либо чувства гордости. Но то, что я ирландец… всегда наполняло меня неистовой и неукротимой гордостью».
«Что касается собственно чувств ирландцев, – продолжал он с некоторым срывом в голосе, – я не могу описать того, что чувствую. Мне говорят, что надо мной висит опасность подвергнуться преследованиям со стороны ваших римско-католических соотечественников, а Англия меня защитит. Пусть меня лучше заживо сожгут на костре римские католики, чем защищают англичане». Его слова почти потонули в смехе аудитории. Мы видим, конечно, что это было несправедливо в отношении господина Шоу. Такие патриотические высказывания могли бы звучать смешно, если бы он вложил их в уста какого-нибудь англичанина или американца. Бедняга, они не должны были над ним смеяться.
Конан Дойл, один из «сентиментальных идиотов», выступил в другом тоне.
«Я редко бываю на политических собраниях, – сказал он. – Но поехал бы куда угодно, чтобы выразить протест против преследований по религиозным мотивам. У нас есть достаточные основания верить в то, что ирландские католики будут вести честную игру; Римская католическая церковь в Ирландии никогда не была церковью преследований. Такая же проблема была решена в Баварии, в Саксонии, где протестантское меньшинство никогда не подвергалось нападкам.
Важно, чтобы это была процветающая и счастливая страна. Мы, люди ирландской крови, всегда перебираем в уме прошлое, чтобы принять чью-либо сторону. Предки одного человека осаждали Дерри; предки другого дрались в битве при Бойне или были изгнаны в голодный год. Если бы только ирландцы могли оставить своих прадедов в покое, у них появился бы намного более ясный взгляд на то, что им нужно сейчас, и улучшились бы шансы на достижение этого».
Тема религии была на уме Конан Дойла не только на этом собрании, но на протяжении всей осени. В его записной книжке были взяты на заметку несколько предположений. Эта тема нашла отражение и в написанном перед Рождеством рассказе «Отравленный пояс», посвященном еще одному приключению профессора Челленджера.
«Принесите кислород, Челленджер». Это конец света! Пояс смертоносного газа медленно перемещался по земле, уничтожая все живое. Представьте себе одинокую группу из пяти человек, запертую в воздухонепроницаемой комнате (в воображении это был его собственный кабинет в «Уиндлшеме» с окнами, выходившими на площадку для гольфа и на холмы), которые видят, как умирает жизнь, и слышат свист кислородного баллона.
Они подобны пассажирам «Титаника», вгрызающегося в льдины среди кажущейся безопасности. О чем они думают в эти мрачные часы? Что они будут чувствовать, когда наступит последний рассвет и иссякнет последний баллон с кислородом?
Такова была тема «Отравленного пояса», хотя многие читатели лучше запоминают его приключенческие свойства. В газетах появились тревожные сообщения, сумасбродно повели себя лондонцы, и юмористическое начало стало медленно окрашиваться в мрачные цвета. Потом наступило последнее утро, когда угроза смерти для Челленджера, его жены, Малоуна, Рокстона и Саммерли достигла, казалось, апогея.
«Мы опять отдаем себя во власть силы, которая создала нас!» – гремит Челленджер и разбивает окно, бросая в него полевой бинокль.
«Если я буду жить после смерти, – примерно в то же время писал Конан Дойл в своей записной книжке, – я не удивлюсь ничему, что может встать передо мной, когда я буду пронзать тени. Лишь одно сможет изумить меня. Это будет в том случае, если я обнаружу, что православное христианство было дословно право».
В «Отравленном поясе» после того, как было разбито окно, наступает долгая тишина и пятеро ожидают своего конца. А потом врывается струя свежего воздуха, раздается щебетание птиц и приходит сознание того, что отравленный пояс развеялся и, по-видимому, только они остались в живых. Но это еще не кульминация; потом начинается самая сильная часть книги, но психологический смысл именно здесь.