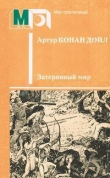Текст книги "Жизнь сэра Артура Конан Дойла. Человек, который был Шерлоком Холмсом"
Автор книги: Джон Карр
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 26 страниц)
Реальность боя заставляла зрителей вскакивать с мест. Он не выглядел фальшивкой. Наставником актеров был инструктор по боксу из Первой стрелковой части Суррея; ему помогал автор, который присутствовал на репетициях и был ярым поборником реальности. Такая же точность в стиле Регентства была и в третьем акте, когда на ринге размером в двадцать четыре фута показывался бой в Кроли-Даун.
Это была сцена с толпой, которую мастерски поставил режиссер Герберт Джарман. Вышибалы в высоких белых цилиндрах клуба «Пюджилистик» с помощью кнутов расчищали ринг. Чемпион злодея Глостер Дик, которого играл Реджинальд Дэвис, швырнул свою шляпу через канаты. («Кто покупает Желтого человека? Это цвета Глостера Дика! Желтый человек за полгинеи!») Но чемпион сэра Чарльза Темперли Джинджер Стаббс был похищен. («Десять против одного на Глостера Дика! Десять против одного!») Напряжение возрастало до того момента, как капитан Темперли, младший брат сэра Чарльза, сам не вступил в бой с Глостером Диком на пари в десять тысяч фунтов.
Как признавала на другой день печать, ничего подобного этому бою на сцене никогда не было. А за боем последовали: сцена в клубе «Уэтьерс», эпизод боя из войны на Полуострове с грохотом пушек и пороховым дымом. Как позднее признавался автор, это было чересчур. Но это поднимало патриотический пыл. Когда в одиннадцать часов занавес наконец опустился, в партере ликовали, а на галерке неистовствовали.
«Сэр Артур, – писала на другой день «Ивнинг ньюс», – был великолепно принят, когда он вышел с поклоном».
Он добился своего. Он поставил бокс на сцене. Публике это нравилось, и он был счастлив. И все-таки после четырех месяцев спектаклей, которые проходили при медленно уменьшавшемся количестве зрителей, «Дом Темперли» пришлось снять.
Критик из журнала «Джон Буль» Клемент Скотт, кажется, был единственным, кто предупреждал его о том, что это случится. Авторы других обозрений предсказывали, что спектакль будет идти во веки веков. Это была пьеса для мужчин. А мужчины редко ходят в театр одни. Они берут с собой женщин, или же женщины ходят сами по себе. И хотя нельзя сказать, что в 1910 году женщинам по-настоящему не нравились бои боксеров-профессионалов, женщины все-таки не поддерживали пьесу, в которой не было никакого женского интереса.
Можно было бы написать что-то о страстной любви или на никогда не подводящую тему о попавшей в беду девушке; но нельзя отказываться и от того, и от другого. Каждую неделю Конан Дойл нес убытки, на нем висел разорительно дорогой театр, и он был готов на все, чтобы спасти «Дом Темперли». И когда Мадам отругала его за то, что он забросил переписку, особенно с тех пор, как Иннес был произведен в майоры, у него не хватило мужества сообщить ей о том, что дела шли очень плохо.
«Моя одноактная пьеса «Баночка икры» (это была инсценировка одного из его лучших рассказов) пошла как прелюдия к «Темперли», и пошла очень хорошо.
В Лондоне все идет очень плохо, – писал он 21 апреля 1910 года, – но надеемся поправить дела».
6 мая умер король Эдуард. Смерть была внезапной; немногие знали даже о том, что он был серьезно болен. Вест-Энд моментально оделся в траур, и людям было не до театра. Из письма, существования которого он не признавал, мы теперь знаем, что задолго до этого Конан Дойл мог сдать «Аделфи» в субаренду труппе музыкальной комедии и тем самым частично компенсировать свои потери. Но он был слишком упрям, он не хотел признавать поражения. Даже до апрельского письма Мадам он работал над новой пьесой, которую написал за неделю, и сразу же начал подбор актеров.
Черт с ними! Он им покажет!
Спектакли «Дома Темперли» прекратились незадолго до похорон короля Эдуарда. Спустя меньше месяца, 4 июня, «Аделфи» вновь зажег огни для премьеры новой пьесы. Это была «Пестрая лента».
«Пестрая лента» принесла больше, чем он потерял. В дополнение к тому, что она долго не сходила со сцены, две труппы до сентября возили ее по стране. Холмс и Ватсон – старые божества – опять стали своего рода лекарством. Хотя они были чуть отодвинуты в тень под воздействием мощных чар дородного доктора Гримсби Райлотта (вместо Ройлотта) с его бородкой клинышком и подергивающимся веком. В плетеной корзине он держал змею и дрессировал ее, а его слуга-индус в это время играл на флейте странную музыку.
Тем не менее – в наши дни, когда точные даты в приключениях Холмса стали столь важны, – любого его приверженца следует предостеречь от чтения сценария «Пестрой ленты». Он обнаружит Холмса и Ватсона в их наилучшей форме, но сойдет с ума, пытаясь разобраться в хронологии.
На хорошо знакомом фоне Бейкер-стрит появляется Ватсон, который только что обручился с Мэри Морстан из «Знака четырех». Одетый в халат Холмс поразил его своим изменившимся внешним видом.
«Боже мой, Холмс! Я никогда бы вас не узнал».
«Мой дорогой Ватсон, когда вы начнете узнавать меня, это действительно станет началом конца. И я уйду на подходящую птицеферму».
Тем временем этот великий человек, пристально глядя на Ватсона, путем дедукции приходит к заключению, что тот недавно был обручен, и говорит с кем.
«Холмс, это чудеса! Это – мисс Морстан, с которой вы встречались и которая вызвала у вас восхищение. Но как же вы?..»
«Путем некоторых наблюдений, мой дорогой Ватсон, которые указывают мне на то, что сегодня утром вы виделись с этой леди. – Он снимает с плеча Ватсона длинный волос, наматывает его на палец и рассматривает в лупу. – Прекрасно, мой дорогой! Ошибки быть не может, в том, что это золотисто-каштановый оттенок».
(Как мы понимаем – рыжий. Но у Мэри Морстан были светлые волосы, и она никогда не снизошла бы до того, чтобы их красить. С кем же был Ватсон на этот раз?)
Более того, мы сердимся, узнав о том, что сам Шерлок Холмс снизошел до такого унижения, что его приемная была полна клиентов, как у дантиста. В этой приемной сидит не кто иной, как Чарльз Огастус Милвертон, шантажист, с которым у него происходит стычка из-за писем герцогини Феррерской. Мальчик-паж Билли, которого Жиллетт ввел в пьесу «Шерлок Холмс», сейчас выполняет в этой приемной роль руководителя. А Билли надо было бы сбросить к входной двери с высоты семнадцати ступенек. Он не только вдребезги разбивает пузырек с кокаином, когда он нужен Холмсу, но и в невыносимо бесцеремонной манере разговаривает с Ватсоном.
«Опять нас беспокоит папа. Он хочет, чтобы мы приехали в Рим по поводу кражи камеи. Мы и так слишком много работаем».
Ничего страшного! Такие вещи их создатель выбросил на сцену столь же беззаботно, как оставил скрипке Холмса всего лишь одну струну. Главное же в том, что Ватсон – друг семьи Стонор – проявляет интерес к ужасной и загадочной смерти в Сток-Плейсе, Сток-Моран, мисс Вайолет (именно так) Стонор, по поводу которой ведется дознание.
«Мой дорогой друг! – говорит Холмс, вынимая изо рта трубку. – Все опять возвращается ко мне. Дознание с вереницей глупых и бесполезных свидетелей, не так ли?»
«Я был одним из них».
«Э… конечно. Были так были. Я рассортировал свидетельства». Игра начинается, джентльмены! Его рука тянется к бесценным альбомам с вырезками. «Давайте посмотрим: Р. Рантер, Романее, Райлотт…»
В театре «Аделфи», среди всех этих зловещих теней, роль доктора Райлотта играл Лин Хардинг, который однажды сказал своему молодому протеже, что любой знающий свое дело актер может читать таблицу умножения, но тем не менее завораживать зрителей. Мисс Кристина Силвер играла Энид (не Хелен) Стонор, девушку, попавшую в беду. Х.А. Сэйнтсбери выступал в роли Шерлока Холмса, а Клод Кинг – доктора Ватсона.
Все действия вели к кульминации в третьем акте, когда в тускло освещенной спальне свет потайного фонаря упал на змею, находившуюся наверху веревочки звонка. Змею, которая поначалу была настоящей, они заменили искусственной, настолько искусно сделанной и управляемой невидимыми ниточками, что она с ужасающим реализмом могла ползать даже на удалении от веревки звонка.
Когда Холмс дернул за веревку, зрители услышали крик из соседней комнаты, а змея нацелилась на доктора Райлотта. Музыка флейты и свирели, которая до этого звучала все громче и громче, замерла. Все услышали топот кого-то бегущего в проходе. Холмс распахнул дверь, направив свет фонаря через затемненную сцену. В свете этого фонаря стоял доктор Райлотт: огромный, в неестественной позе, отбрасывающий от себя тень, а вокруг его шеи и головы обвилась змея. Хрипло вскрикнув, он сделал два шага вперед и упал. Затем – самым потрясающим для театра образом – змея медленно развернулась и поползла от его головы по сцене, а Ватсон не переставая бил ее хлыстом. Теперь слушайте:
«Ватсон (глядя на змею). Гадина сдохла. Холмс (глядя на Райлотта). Другая тоже.
(Оба бросаются на помощь падающей в обморок женщине.)
Холмс. Мисс Стонор, в этом доме вам больше нечего бояться».
В конце сентября, когда постановка «Пестрой ленты» перешла в театр «Глоб», Конан Дойл паковал в отеле «Метрополь» свои чемоданы, чтобы вернуться в «Уиндлшем» и отдохнуть. На протяжении всего года, несмотря на волнения и беспокойства, он не прекращал агитацию и поиск сторонников Ассоциации за реформы в Конго. Одним из тех, чьей поддержки он добивался, был Теодор Рузвельт, тогда уже бывший президент Рузвельт. Он всегда испытывал симпатии к Т. Р. и как к государственному деятелю, и как к спортсмену. Не было и большего любителя детективных рассказов, чем Т. Р. Еще 1903 годом датировано письмо, написанное в июле в Ойстер-Бей: «Президент прослышал, что сэр Артур Конан Дойл скоро приедет к нам в страну (это было ошибочное сообщение), и хочет знать, когда он здесь будет и где с ним можно связаться по прибытии».
Но они встретились только в мае 1910 года, когда Рузвельт сделал остановку в Лондоне по пути из Африки, куда ездил охотиться. Встреча состоялась за ленчем вскоре после похорон короля Эдуарда.
«Мне нравилось быть президентом», – сказал Т. Р., в улыбке показывая зубы и для убедительности ударяя ладонью по столу. Он говорил без конца, в том числе и о том, что американский флот находится в прекрасном состоянии и в любой момент может побить Японию. Он осведомился о здоровье Шерлока Холмса и был рад услышать, что «Пестрая лента» репетируется.
А Конан Дойл, который паковал чемоданы в «Метрополе», ничего больше и слышать не хотел о «Пестрой ленте» или какой-нибудь другой пьесе. Дни написания пьес для него закончились. Он поклялся в этом репортеру из «Рефери», который 18 сентября брал у него интервью.
«Я оставляю работу со сценой не потому, что она меня не интересует, – сказал он. – Она очень меня интересует. Но она настолько захватывает, что отвлекает сознание от более глубоких вещей в нашей жизни.
Поймите меня правильно. Для тех, кто может смотреть на важные проблемы через драматургию, это, возможно, не так. Но я осознаю пределы моих собственных возможностей».
Минутой позже он добавил, что думает об «Огнях судьбы», «нравоучительной пьесе», смысла которой, как это ни горько признавать, не увидели или не захотели увидеть зрители.
«Поэтому я твердо обещаю, что не буду больше писать для сцены».
«Каковы ваши планы?»
«О, я собираюсь провести зиму за чтением».
В «Уиндлшеме», где двери открывал застегнутый на пуговицы паж, совсем как в «Пестрой ленте», они той осенью мало кого принимали. 19 ноября у Джин родился второй ребенок, еще один мальчик. Они назвали его Адриан Малкольм; второе имя в честь любимого брата Джин доктора Малкольма Леки, а первое – просто потому, что оно ей нравилось. Зимой Конан Дойл опять погрузился в римскую историю и написание римских рассказов, которые составили потом часть «Последней галеры».
Римская история была лишь одним из предметов занятий, которые заполняли накапливавшиеся записные книжки за годы в «Уиндлшеме». Его вечно беспокойный ум должен был над чем-то работать, он должен был анализировать, должен был быть занятым, иначе наступит стагнация. Нумизматика, археология, ботаника, геология, древние языки – все это по очереди становилось его хобби, и, когда он говорил о чтении, он имел в виду не праздный просмотр книг.
Годом раньше, например, его. увлекла филология. Отдыхая в Корнуолле, он изучал античный корнский язык и пришел к убеждению, что он родственен халдейскому. Отпуск в Корнуолле дал ему фон для еще одного рассказа, опубликованного в этом году, – «Дьяволова нога». И, кроме того, была переписка.
В дни «Уиндлшема» постоянной темой в этой переписке были обращения за помощью в расследовании преступлений. Было время, когда их адресовали Шерлоку Холмсу. Но примечательно то, что после дела Эдалжи они направлялись на его собственное имя.
Например, когда в Польше произошло убийство и под сильное подозрение попал один польский аристократ, его родственники сообщили Конан Дойлу, что оц может сам назначить себе гонорар, – предлагали выслать открытый чек, – если согласится приехать в Варшаву и расследовать дело. Он отказался. Совсем по-другому было с девушкой по имени Джоан Пэйнтер, медсестрой в госпитале Норт-Вестерн, чье отчаянное письмо могло бы быть почерпнуто и из его собственных рассказов.
«Я пишу вам, – обращалась она, – потому что мне не приходит в голову никто другой, кто мог бы помочь мне. Я не могу позволить себе нанять детектива, потому что у меня нет денег, и по той же причине этого не могут сделать мои родственники. Недель пять назад я встретила человека, датчанина. Мы обручились, и хотя я не хотела, чтобы он какое-то время говорил об этом, он настаивал на том, чтобы поехать в Торки и увидеться с моими…»
В некоторых деталях это напоминало «Установление личности», хотя были разные мотивы. Молодой датчанин осыпал ее подарками, убедил ее оставить место в госпитале, а потом, когда были завершены все приготовления к свадьбе, исчез подобно мыльному пузырю.
Но у девушки не было денег, и он об этом отлично знал. Вопрос об обольщении или попытке обольщения не стоял. Дойдя до отчаяния, мисс Пэйнтер обратилась в Скотленд-Ярд, а там сочли, что ее жених попал в руки жуликов, но не нашли его. Датская полиция тоже не смогла ничего сделать. Если он исчез по собственной воле, не был похищен или убит, то в чем состояла его игра? И где он находился?
«Пожалуйста, не думайте, что с моей стороны это ужасная дерзость, – говорилось в заключение письма мисс Пэйнтер. – Я чувствую себя ужасно несчастной и только сегодня утром подумала о вас, пожалуйста, пожалуйста, сделайте для меня все, что можете, и я буду навеки вам благодарна».
Мог ли рыцарь проигнорировать такую просьбу? Ответ очевиден.
Ну и что же, он нашел этого человека. «Мне удалось, – писал он впоследствии, – путем… дедукции ясно показать ей и куда он сбежал, и насколько недостоин был ее любви». У нас есть множество свидетельств этого, приводимых в последнем из писем мисс Пэйнтер.
«Не знаю, как отблагодарить вас за вашу доброту. Как вы говорите, для меня это было настоящим спасением, и я даже не могу подумать, что произошло бы, если бы он не сбежал, как он это сделал. Я возвращаю письмо и обязательно сразу же сообщу вам, если снова получу какие-либо известия».
Но как же расследователю это удалось? Мы располагаем только ее письмами. И где же в тех письмах искать ключ, который оказался таким ясным для него? Все это так же неясно, как и в том случае, когда Холмс проникает в такую глубину, которая нам недоступна. Биограф, который рискует подвергнуться оправданной критике за неполное повествование, может лишь сообщить, что признаков такого ключа не нашлось.
Его интерес к проблеме преступности никогда не был более острым. В октябре 1910 года он поехал в Лондон, чтобы присутствовать на суде доктора Криппена. Ранее в том же году в серии «Примечательные процессы в Шотландии» была напечатана книга о загадке убийства, в распутывание которой он был глубоко вовлечен. Книга была великолепно отредактирована господином Уильямом Роугхедом, одним из наших лучших авторов в области криминалистики. Она называлась «Суд над Оскаром Слэйтором».
В тот момент в своем завешенном красными шторами кабинете в «Уиндлшеме» он писал римские рассказы и делал записи в тетради. Среди этих записей есть некоторые высказывания Теодора Рузвельта.
Во время похорон короля Эдуарда Рузвельт фыркнул по поводу того, что германский император завидовал белой собачке короля, которая «на похоронах привлекла всеобщее внимание». Конан Дойл, который всегда ценил вежливость, воздал кайзеру должное за его присутствие вопреки трениям между Британией и Германией.
На тот момент он не видел реальной угрозы со стороны Германии. За железным подходом рейхсканцлера Бетман-Гольвега могла или не могла стоять жесткая позиция кайзера. Всем было известно, что в столовых германской армии поднимают тосты «За Тот День». Но когда на западной границе противником была Франция, а на восточной – Россия, могла ли Германия осмелиться спровоцировать войну с Британской империей? Что она могла надеяться получить от этого? Где заключался практический смысл?
Семь месяцев спустя, в разгар еще одного приключения, он изменил свое мнение.
Глава 17
СПОРТ, БОРОДЫ И УБИЙСТВО
Они выстроили свои машины в Гомбурге, Гессе-Нассау, – пятьдесят английских участников и пятьдесят немцев, – для участия в параде, который предшествовал старту пробега под названием «Тур курфюрста Генриха». Шла первая неделя июля 1911 года. В числе автомобилей можно было видеть и «лоррейн-дитрих» сэра Артура Конан Дойла мощностью в двадцать лошадиных сил с прикрепленной спереди подковой на удачу.
Прусский курфюрст Генрих, любезный и с бородой, утверждал, что он организовал этот пробег как спортивный жест доброй воли по случаю коронации Георга V. Каждый участник должен был управлять своим собственным автомобилем. В качестве наблюдателя в каждой машине должен был находиться офицер сухопутных или военно-морских сил противоположной стороны. Стартовав в Гомбурге, они должны были проехать через Кельн и Мюнстер в Бременхафен. Возобновив гонку в Саутгемптоне, они должны были также проехать по Англии и Шотландии и финишировать в Лондоне.
«Важны надежность машины и человека, а не скорость, – писал Конан Дойл 5 мая, когда он сообщил Мадам, что будет участвовать в пробеге. – Команда, которая будет лучше вести машины и потеряет меньше штрафных очков, одержит победу. Пассажиркой я возьму Джин. Это будет замечательная поездка».
«Призом, – приводились слова курфюрста Генриха, – будет вырезанная из слоновой кости фигурка молодой леди с выгравированным словом «Мир». – Независимо от того, кто выиграет этот приз – Кайзеровский автомобильный клуб или же Королевский автомобильный клуб, – несомненно, он будет символом дружбы и мира».
Несомненно и то, что на самом деле все было совсем не так, хотя из дипломатических соображений английская пресса лгала почти не меньше, чем курфюрст Генрих. Старт был дан 5 июля. Длинная вереница автомашин в клубах пыли и едкого дыма с грохотом выкатилась из Гомбурга во главе с белым «Бенцем», на котором ехал курфюрст Генрих.
За четыре дня до этого германское правительство внезапно предприняло характерный шаг. Французы были в Марокко, а у Германии там тоже были свои интересы. Немецкая финансовая фирма проявляла большое внимание к гавани Агадир на Атлантическом побережье Марокко. До июля на Вильгельмштрассе вели тонкую игру. После этого они отправили туда канонерскую лодку «Пантера», а за ней крейсер «Берлин», чтобы «отстоять и защитить германские интересы» в Агадире. И, как впоследствии писал Черчилль, «в Европе немедленно зазвонили набатные колокола».
Участники пробега курфюрста Генриха узнали об этом, когда с шумом неслись сквозь пыльный туман в погоне за леди из слоновой кости с надписью «Мир».
Страсти накалились. Воздавая честь курфюрсту Генриху, английское правительство в качестве наблюдателей за гонкой направило высокопоставленных армейских офицеров, а те обнаружили, что их компаньонами были немецкие капитаны или лейтенанты. Можно представить себе чувства британского генерала, который жил на равных условиях с младшим иностранным офицером. Но дело было далеко не только в этом.
Сидя за рулем своего ландолета, в открытом кузове которого находились также Джин и кавалерийский офицер по имени граф Кармер, Конан Дойл чувствовал, как беспокойство перерастало в тревогу. Он говорил по-немецки, но его попытки достижения доброй воли ни к чему не приводили. Эти прусские юнцы не только предвкушали возможность войны – они принимали ее как факт. Они также демонстрировали тот неуклюжий немецкий юмор, представлявший собой смесь насмешек с высокомерием, который действовал на британца как раздражающая смесь; такова была царившая атмосфера.
«Не хотелось бы вам одного из этих островков?» – спросил Тюрк, небольшого роста капитан ВМС, когда на пароходе «Гроссер Курфюрст» с машинами и экипажами на борту они вышли в Северное море и проходили мимо Фризских островов. Таков был немецкий юмор.
Разница в темпераментах, обостряемая жарой и поломками в моторах, проявилась еще больше после возобновления гонки в Саутгемптоне. Лимингтон, Хэррогит, Ньюкасл, Эдинбург; перед глазами гостей проходили прекрасные виды, у всех были с собой фотоаппараты. В Виндермире, уже на обратном пути, немецкий наблюдатель забыл фотоаппарат, а его возвращение за ним послужило причиной часовой задержки, что привело английского водителя в такую ярость, что он врезался в автобус на Эмблсайде.
«В целом, – утверждал Конан Дойл, – эти немцы очень хорошие ребята». Он мог почти все простить человеку, который каждое, утро клал цветы в тот уголок машины, в котором сидела Джин. «Но!» Он не мог не добавить этого «но». Они ему не нравились.
В конце июля в Лондоне все участники пили за здоровье кайзера в Длинной галерее Королевского автомобильного клуба. Британская команда одержала победу, и курфюрст Генрих вручил ее участникам статуэтку леди из слоновой кости.
«Мы увидели красивую страну, – кричал он в своей речи. – Мы увидели милую страну и милых людей. За весь тур от начала до конца огромное вам спасибо». На следующий день они устроили на Бруклендском автодроме прощальную выставку автомобилей.
А тем временем на правительственных заседаниях за закрытыми дверями в Англии и Франции нарастала напряженность. Германия отказывалась сообщить, что она замышляла, направляя корабли к Марокканскому побережью. Британская администрация – либерал-империалисты и радикалы – казалась безнадежно расколотой. Но министр финансов господин Дэвид Ллойд Джордж неожиданно объединил оба крыла; в мягкой речи в Гилдхолле он намекнул, что если Германия хочет войны с Францией, то может быть и война с Британией.
«Я только что получил послание от германского посла, – сказал сэр Эдвард Грей, – и оно настолько жестко, что флот может подвергнуться нападению в любой момент».
Если брать внешнюю сторону, то во время той встречи в Бруклендсе все было безоблачно и ярко. Автомобили с высокими ветровыми стеклами сверкали всеми цветами – от зеленого до малинового. Сам курфюрст Генрих, командовавший германскими ВМС, чьи «Пантера» и «Берлин» отправились в Агадир, во всеуслышание заявлял, что ничего не знает о международных дилеммах. Немецкие офицеры конечно же приехали сюда только ради спортивных целей. В журнале «Кар» от 26 июля появилась большая фотография, несомненно, спортивного содержания: «Лейтенант Бир на своем моноплане «Этрих» пролетает над автомашинами в Бруклендсе».
Конан Дойл, который ранее в том году совершил свой первый полет на машине тяжелее воздуха, – это был один из полетов за две гинеи господина Грэма Уата в Хендоне – не мог и догадываться, в каком серьезном положении оказался Уайтхолл. Но он испытывал мрачные сомнения в отношении будущего. Проехав более двух тысяч миль, он по возвращении в «Уинддшем» набросал записку Иннесу.
«Билли, наша машина не допустила никаких ошибок и проехала весьма достойно. Что касается остального, то кое-что мне не нравится. Но в такое время не буду тебя беспокоить».
Причиной было то, что в августе Иннес должен был жениться в Холменс-Кирке, в Копенгагене, на датчанке мисс Кларе Швенсен. На церемонию со всей семьей поехал его брат. На свадебном приеме Иннес произнес памятную речь. Она убедила его датских друзей, вопивших и корчившихся от радости, что перед ними наконец настоящий англичанин. Вскочив из-за банкетного стола на ноги, глубоко смущенный всеми комплиментами, которые ему наговорили, Иннес пробормотал:
«Ну… Я говорю, разве вы не знаете! Боже мой! Что?» И сел.
Его брат никогда не мог повторить слов Иннеса без смеха до слез. В целом, несмотря на германскую угрозу, в отношении которой он, возможно, ошибался, сэр Артур в ту осень был счастливым человеком и подбирал материалы для нового романа.
После «Сэра Найджела», вышедшего шесть лет назад, он не написал ни одного романа. И на данный момент не существовало никаких разочарований, подобных связанным с «Найджелом»! Это должно быть что-то такое, что соответствовало бы его настроению, что-то научно-фантастическое, что-то такое, что покорило бы публику его прежним очарованием и в то же время очаровывало бы его самого. Первая идея пришла ему в голову в форме игуанодонта, доисторического чудовища ростом в двадцать футов, окаменелые следы которого были обнаружены в Сассекской долине, куда выходили окна его кабинета. Сейчас эти окаменелые отпечатки он держал у себя в бильярдной.
Осенью 1911 года он обратился к книге профессора Рея Ланкестера о вымерших животных. На иллюстрациях изображались кошмарные очертания острых, как сабли, зубов и безумные глаза.
Представьте себе, что как-то вечером на покрытой туманом безлесной возвышенности замаячила бы фигура стегозавра. Или еще лучше: представьте себе, что где-то в отдаленном уголке Земли, скажем на высоком плато или в джунглях, нетронутые и неприкасаемые в своей примитивной жизни, подобные твари еще существуют.
Какая находка для любителя приключений! Какое чудо для зоолога!
Экспедицию, несомненно, должен возглавлять зоолог. Он перенесся памятью в Эдинбургский университет, вспомнил зоолога сэра Чарльза Уайвилла Томсона, который ездил в экспедицию на корвете «Челленджер». В самом Томсоне было мало колоритности. Но всплыл образ профессора Разерфорда: низкорослого Геркулеса, грудь колесом, с черной ассирийской бородой, величественно шествовавшего по коридорам, с рокотом его голоса…
Профессор Челленджер. И «Затерянный мир».
Если какой-то историк когда-либо упомянет это название, не испытывая прилива удовольствия, значит, у него душа высушенной виноградной лозы. Челленджер! Эдвард Малоун! Лорд Джон Рокстон! Профессор Саммерли! Пусть восклицательные знаки остаются на своих местах. Эти имена между собою связаны так же, как мушкетеры, и, подобно мушкетерам, они завоевывают нашу любовь. Они бессмертны в своем мальчишестве и ничуть не тускнеют до среднего возраста.
Профессор Челленджер был взращен его создателем подобно тому, как Дюма взрастил Портоса, но гораздо быстрее. Конан Дойл полюбил Дж. Е.Ч. гораздо больше, чем какой-либо ранее созданный образ. Он будет подражать Челленджеру. У него будут, как мы скоро увидим, борода и нависшие брови, как у Челленджера. И причину не надо искать далеко. Если не считать исключительного тщеславия Челленджера, он обрисовал вольный образ самого себя.
В качестве Челленджера, как в «Затерянном мире», так и в последующих рассказах, он мог говорить или делать такие вещи, которые в обычном общественном употреблении были запрещены. Если захочется, он мог ужалить домоправительницу, чтобы посмотреть, не потеряет ли она самообладание. Он мог ухватить за штанину репортера и бегом протащить его по дороге с полмили. Он мог говорить звучными, сменяющими друг друга предложениями, вкрадчивыми и преднамеренными оскорблениями, которые так часто употреблял в отношении людей недалеких. И, будучи доведен до предела, был вполне способен делать такие вещи в реальной жизни. Вот почему нам нравятся оба эти образа.
Что касается «Затерянного мира», то автор был настолько им поглощен, что все его мысли были заполнены бронтозаврами, приматами и растительностью того дикого плато. Он сделает описание настолько реалистичным, что многие склонны будут во все поверить.
Насколько эти доисторические джунгли были похожи на настоящие, можно судить из письма профессора Ланкестера, зоолога, из книги которого он взял своих животных.
«Вы совершенно великолепны в своем описании «затерянного мира» на вершине горы, – писал доктор Ланкестер. – Я горжусь тем, что внес в это и свой небольшой вклад. Все достаточно достоверно для того, чтобы повествование «шло» гладко. Отмечу, что вы правы, отказывая крупным динозаврам в умственных способностях, а приматам в остром чутье…»
После чего доктор Лэнкестер пустился высказывать предложения.
«А как насчет того, – продолжал он с энтузиазмом, – чтобы изобразить гигантскую змею длиной в шестьдесят футов? Или кроликоподобного зверя величиной с быка (Токсодона)? Или стадо карликовых слонов ростом в два фута? Могут ли спастись четверо мужчин, выдрессировав птеродактиля-вегетарианца таким образом, чтобы по одному летать на нем? Может ли женщина-обезьяна влюбиться в Челленджера и убить вождей своего племени, чтобы спасти его?»
Последнее могло интересовать Джин и ее ближайшую подругу Лили Лодер-Саймондс, которая приехала погостить в «Уиндлшеме». Каждый вечер на протяжении октября и ноября он читал им то, что написал за день. Он усаживался в большой, покрашенной в белое нише у бильярдной, в кресло «Викинг», которое было подарком из Дании, а рядом, под головой оленя, полыхал камин. В воображении сквозь джунгли продирались бесстрашные четверо: лорд Джон Рокстон, подобный Дон Кихоту с волосами имбирного цвета, язвительный Саммерли, неизменно милый Малоун; и во главе их всех – Челленджер в очень маленькой соломенной шляпке, который, когда шел, становился на цыпочки, – кстати, шляпа и походка были придуманы создателем Челленджера.
«Я думаю, – писал он редактору «Странда» Гринхоу, когда 11 декабря повесть была закончена, – я думаю, что из нее получится самый лучший сериал (не считая рассказов о Шерлоке Холмсе) из всех, которые я когда-либо делал, особенно когда она появится в обрамлении фальшивых фотографий, карт и планов».
А потом пришла настоящая радость.
«Моя амбиция состоит в том, – добавлял он, – чтобы сделать для книг, предназначенных мальчишкам, то, что сделал Шерлок Холмс для детективных рассказов. Я не думаю, что смогу это сделать, но вдруг получится».
Получилось. Потому что при последнем анализе оказывается, что это приключение с динозаврами не является подлинным секретом очарования «Затерянного мира». Некоторые из лучших сцен – вечер Малоуна с Глейдисом в самом начале, первое интервью с Челленджером, бурные заседания в Зоологическом обществе, которые описывались скорее как политические митинги с участием Конан Дойла в Шотландии, – происходят как бы отдельно от основного места действия; зоологи не менее интересны, чем зоопарк. Отметим также мастерство комизма в описании бородатых мужей науки, когда речь идет о трудной для понимания теории и они ведут себя в точности как темпераментные примадонны и исполнены такой же ревности друг к другу.