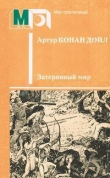Текст книги "Жизнь сэра Артура Конан Дойла. Человек, который был Шерлоком Холмсом"
Автор книги: Джон Карр
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 26 страниц)
Раньше он никогда не встречался с Киплингом, хотя в дни, когда он жил в Норвуде, был знаком с его покойным шурином Уолкоттом Бэйлстиром. В поезде он посмеивался, вспомнив замечание своей сестры Конни, когда однажды они пригласили Бэйлстира на обед.
«Вообрази! – широко раскрыв глаза, сказала Конни. – Господин Бэйлстир и господин Киплинг вдвоем пишут одну книгу, и они делают это таким образом, что по очереди пишут предложения». Брат удержался от того, чтобы указать Конни, что ее кто-то разыгрывал.
Киплинг, небольшого роста, волосатый и жилистый, с вытянутой вперед шеей и с усами, ценил уединение с такой страстью, что это не укладывалось в головах его соседей по деревне. Он, как и его жена, были радушными хозяевами. Они пригласили гостя в свой знаменитый дом, напоминающий очертаниями Ноев ковчег, и Конан Дойл его сфотографировал. Предвкушая возможность поупражняться, он приехал с сумкой клюшек для игры в гольф, чем привел в изумление жителей Брэттлборо, которым было интересно, как же эти инструменты доктора можно использовать.
Можно с уверенностью заключить, что Киплинг вообще не любил гольф; никакой истинный любитель гольфа никогда не заставил бы героя своего рассказа отзываться о нем так, как он это делает в «Домашнем враче». Но гость, хотя он был далеко не экспертом, преподал ему на замерзшем пастбище несколько уроков, пока на них глазели соседи. Киплинг декламировал свой только что написанный «Гимн Макэндрю»: как и во многих других работах этого искусного мастера, романтика там воспевается под прикрытием и в литературном стиле тщательно сбалансированной структуры. Они расстались добрыми друзьями, а Конан Дойл сделал одно замечание, которое он после повторил Хорнангу: «Ради Бога, давайте прекратим эти разговоры о плеваках».
Он должен был уезжать в Англию 8 декабря. Майор Понд со слезами, поблескивающими под большими очками, за которым стояли и эмоции из сферы финансов, умолял его остаться. «Если бы он не пообещал больной жене провести Рождество дома, – сокрушался он позже в печати, – он мог бы провести здесь весь сезон и вернуться домой с небольшим состоянием в долларах». Хотя майор и не считал его блестящим оратором, он писал: «Есть в нем что-то такое, что очаровывает каждого, с кем он встречается. Если бы он вернулся еще дней на сто, я заплатил бы ему больше, чем любой известный мне англичанин».
Как раз накануне отъезда из Нью-Йорка Конан Дойл узнал о смерти на Самоа Роберта Льюиса Стивенсона. Хотя он никогда не встречался со Стивенсоном, он был потрясен печальным известием, как будто это была его личная утрата. Потому что Стивенсон, которым он так давно восхищался, был и его почитателем; на протяжении нескольких лет они вели между собой переписку. Доблестный инвалид умер; великий рассказчик больше ничего не расскажет. Да, инвалид! Как и Туи…
Еще раз просипел пароходный гудок. «Этрурия» обогнула статую Свободы. После возбуждения наступила реакция: он чувствовал себя измученным и подавленным. Но в Лондоне, а потом и в Давосе Артур узнал, что состояние Туи продолжает улучшаться. Вернувшись в конце года на альпийские высоты, он с новым рвением принялся за описание подвигов одного героя, которому суждено было навсегда стать личностью, вызывающей восхищение.
Короче, речь шла о подвигах бригадира Жерара.
Глава 8
ИЗГНАНИЕ
Ночь была хоть выколи глаз. На балконе, нависшем над Дунаем, наш герой стоял с императором Наполеоном и маршалом Ланне. За рекой шириной в лигу[6]6
Лига – около 5 км. (Примеч. перев.)
[Закрыть], вздувшейся от бурлящих потоков, светились костры австрийских бивуаков. Сквозь шторм и ветер кому-то надо было переправиться через реку и привезти пленного, чтобы выяснить, там ли находится труп генерала Хиллера.
Даже наш герой (пожалуйста, громче музыку!) чувствует, как по коже пробегают мурашки. Даже Наполеон не отдает команду – он просто выражает пожелание. Но грудь нашего героя распирают благородная гордость и жажда славы. Он думает о том, что из 150-тысячной армии храбрых воинов, включая двадцать пять тысяч солдат императорской гвардии, он один был выбран для того, чтобы совершить вылазку, требовавшую не меньше интеллекта, чем смелости.
«Я пойду, сир! – не колеблясь вскричал я. – Я пойду; а если я погибну, оставляю свою мать на попечение вашего величества». Император потрепал меня по плечу, выражая удовлетворение».
Читателя можно простить, если он ошибется. Он вполне может приписать эти чувства нашему жизнерадостному другу Этьену Жерару, полковнику гусар Конфлана, любимцу женщин, самому искусному бойцу из шести бригад легкой кавалерии, человеку на удивление смешному и в то же время героическому.
Но это не Жерар. И это вовсе не беллетристика. Приведенные слова и обстоятельства взяты из реальных мемуаров генерала барона де Марбо, который во время описанного эпизода был капитаном наполеоновской армии. Кстати будет сказать, что Марбо переправился через реку, что он привез не одного, а троих пленных и что Наполеон опять похлопал его по плечу и произвел в майоры. Это – одно из не самых опасных приключений в книге, о которой есть искушение отозваться как о наборе лирических вымыслов, если бы современники Марбо не подтверждали, что он говорит правду. Если бы мы даже не верили, что Марбо действительно делал все то, о чем он рассказывает, достаточно уже одной его личности.
Потому что слишком многие сторонники Наполеона, некогда самые грозные недруги всех ополчившихся против императора, действительно думали, действовали и говорили в такой высокой манере. Это было непостижимо по другую сторону Ла-Манша. В этом и заключаются некоторые из самых замечательных качеств рассказов о бригадире Жераре. Когда Конан Дойл избрал Марбо прототипом своего бригадира, внеся в собственных целях некоторые изменения, немало комичных ситуаций возникает из-за того, что живость характера бригадира противопоставляется его неуверенному и тяжелому английскому языку. Читая солдатские воспоминания, автор многозначительно подчеркивал, что он был удивлен тем, что многие из этих хвастунов «были людьми, чьи действия вызывают в памяти сам дух рыцарства. Лучшего рыцаря, чем Марбо, найти трудно».
И это правда. Если взглянуть на поступки бригадира Жерара, не обращая внимания на манеру, в которой рассказывает о них, он предстает паладином в одном ряду с Дюгескленом. Его наивное хвастовство, самодовольство, твердая убежденность в том, что в него влюблена каждая женщина, веселят читателей. Его добрая и безмятежная натура проявляется во всем. Он завивает бакенбарды, закручивает усы в стиле Маренго и предстает со страниц книги как живой.
«Вряд ли вы об этом помните, но Наполеон сам говорил, что считает меня самым отважным человеком в армии. Правда, он несколько испортил свое высказывание, утверждая, будто я бестолков. Но не станем обращать на это внимания. Было бы нехорошо говорить о слабых моментах в жизни великого человека».
В таком духе высказывается бригадир, и не только в самих рассказах, но и со страниц записных книжек о нем Конан Дойла. Записные книжки дают возможность взглянуть на некоторых людей из окружения Наполеона: на Мюрата «с саблей в ножнах и тростью в руке», бывалых солдат, несущих в шапках из медвежьей шкуры по две бутылки вина и от усталости использующих для опоры мушкеты, на «бледное лицо и холодную улыбку» Бонапарта. Упоминается один ненаписанный (или, по крайней мере, неопубликованный) рассказ: «О бригадире, получившем шантажирующее письмо для Жозефины».
«На протяжении трех лет, – пишет автор в другом месте, – я жил в литературе о Наполеоне в некоторой надежде на то, что, вновь и вновь погружаясь в нее, смогу написать сколько-нибудь достойную книгу, в которой донесу до читателя все очарование той удивительной эпохи. Но амбиции были выше моих возможностей… И поэтому после долгих откладываний результатом всей моей большой подготовки стала небольшая книжонка солдатских рассказов».
Нет, так не годится. «Небольшая книжка» – это критическая и вводящая в заблуждение оценка. На самом же деле «Подвиги бригадира Жерара» и написанная позднее серия «Приключения Жерара» составляют самую яркую картину из всего написанного им о кампаниях Наполеона. Причина этого: он видел все глазами француза.
Бригадир – это истинный француз; такой же француз, как Марбо, как Куанье, как Журдо. Не отдает фальшью ни одно слово, ни единый жест. Его позиции, которые так раздражают его английских недругов и так интересны нам, читателям, абсолютно искренни. Он – воплощение жизни и души Великой армии; из его горла едва не вырывается боевой клич: «Да здравствует император!» А его собственные выпады против английского характера ничуть не менее хороши. Этьен Жерар строит дурака только из самого себя; он никогда не делает дураков из Франции или французов. И это триумф как бригадира, так и Конан Дойла.
Первый рассказ о нем, «Медаль бригадира Жерара», был написан в 1894 году. Автор читал его благодарным аудиториям в Америке. Когда он вновь вернулся в Давос и поселился с семьей на этот раз в «Гранд-отель Бельведер», он к весне 1895 года почти закончил еще семь рассказов.
В ту весну погода в Давосе стояла плохая. Снег, когда можно было кататься на лыжах, сменился нудными дождями, все подхватывали простуду. В мае (о времени можно судить по письму Мадам) он съездил в Англию, и эта поездка вновь изменила весь ход событий.
Он столкнулся с тем фактом, что остаток своих жизней (или, говоря более жестоко, остаток жизни Туи) им, очевидно, придется провести в заграничных отелях в Швейцарии или в Египте. Он не возражал против этого, если это в самом деле было необходимо. Но в Англии он встретил Гранта Аллена, который также страдал от чахотки, и тот рассказал ему нечто другое.
Грант Аллен, чье имя сейчас почти забыто, был тогда хорошо известным писателем, который впервые привлек к себе внимание своим сенсационным романом «Игральная кость», а в том, 1895 году наделал еще больше шума откровенным обсуждением сексуальных проблем в книге «Женщина, которая решилась». Конан Дойл лучше всего знал его по научным работам, отличавшимся'сильно выраженной агностической окраской. Грант Аллен решительно подчеркнул, что больному туберкулезом не обязательно жить за пределами Англии. Он сам противостоит болезни, живя в Хиндхеде, графство Суррей.
Туи, которая не меньше, чем он, хотела вернуться, попросила мужа все выяснить. Он поспешил в Суррей и был более чем удовлетворен.
«Дело не только в Гранте Аллене, чье состояние дает надежду на то, что это место подойдет для Туи, – писал он. – Но высота расположения, сухой климат, песчаная почва, защищенность от холодных ветров создают самые лучшие условия». Он еще раньше продал дом в Норвуде. Зачем покупать другой? Он построит дом в Хиндхеде, и это будет дом с размахом.
Начертив план дома и с удовольствием включив в него большую бильярдную, он передал дело в руки архитектора из Саутси и своего старого друга Болла. Как сказал Болл, новый дом должен быть готов примерно через год. Вернувшись в Давос, он, к радости «Странда», закончил седьмой новый рассказ о бригадире, а также откорректировал «Письма Старка Манро» и внес поправки.
Он столько души вложил в «Старка Манро», что когда перечитывал книгу, то подумал, что она может оказаться такой его работой, которая выдержит самое большое испытание временем. В ней было все: амбиции, страхи, агностические (или, точнее, в применении к доктору Старку Манро деистические) взгляды. Там появлялась Туи под именем Винни Ла Форс. Краем разума он понимал необходимость признания того, что он никогда не был влюблен в Туи в смысле того, что подразумевается под большой любовью. В дни, когда они жили в Саутси, он был слишком влюблен во влюбленность. Но он испытывал к ней чувства глубокого расположения и привязанности, которые были лучше всякой любви. Или он только так думал?
Но такая мысль казалась ему предательской. Он отогнал ее.
Работа, которая выдержит самое большое испытание временем? Может быть. Тем не менее он давно пришел к выводу о том, что по-настоящему важен только рассказ. Однажды, в минуту возбуждения, он сказал Роберту Барру, что предпочел бы, чтобы его судьями были не профессиональные критики, а товарищи по писательскому творчеству или же школьники. Он признал, что это было некоторым преувеличением: не дашь же школьнику «Роберта Элзмира», как можно дать «Остров сокровищ». Воспоминания о том, как они комментировали «Белый отряд», не покидали его. Это подчеркивало образ его мыслей.
«Первая цель прозаика, – говорил он Дж. У. Доусону, – найти интригу. Если нет интриги, зачем тогда все? Возможно, у него и есть что-то такое, что стоило бы рассказать, но тогда он должен рассказать это в другой форме». Все было так, как будто в разгар пьесы автор выскочил бы к огням рампы и остановил действие на время, пока он выступает с речью по ирландскому вопросу.
Что касается пьес, нелишне задать вопрос, что же произошло с той четырехактной драмой об эпохе Регентства, которую он начал писать для Ирвинга и Эллен Терри перед отъездом в Америку. Какое-то время о ней больше ничего не было слышно, так же, как и о Хорнанге как о соавторе. Но нам не понадобится прибегать к услугам Шерлока Холмса, чтобы разрешить эту проблему. Любой намек на возможность боксерских поединков на сцене «Лицеума» привел бы в ужас Ирвинга, который в том году был посвящен в рыцари: впервые в рыцарское достоинство был возведен актер. Поэтому Конан Дойл, которому не терпелось заняться боксерской темой, отложил пьесу и начал писать роман с другим сюжетом. Летом и в начале осени был написан «Родни Стон».
Когда становится известно, что издательство «Смит, Элдер энд К0» потом заплатило ему вперед гонорар в четыре тысячи фунтов, а «Странд» – тысячу шестьсот за право серийной публикации, вопреки потрясению Джорджа Ньюнеса из-за того, что это будет повествование о боксерах («Почему именно эта тема из всех возможных на белом свете?»), можно представить себе степень его писательской популярности. Но лучшей данью «Родни Стону» были высказывания старого австралийского боксера, которому вслух читали книгу, когда, больной, он находился уже при смерти.
Трудно забыть сцену в зале «Вэггон энд Хорсиз», когда Чарльз Треджеллис, Бак Треджеллис устраивают для болельщиков ужин, на котором появляется весящий семнадцать стон принц-регент. В зале, увешанном «Юнион Джеками», собрались все звезды кулачных боев – «Джентльмен» Джексон и Джем Белчер; чемпион Ирландии Эндрю Геймбл; Билл Ричмонд Черный; великие еврейские боксеры Дэн Мендоза и Датч Сэм, еще двадцать человек, когда приемный сын кузнеца Бой Джим бросает вызов лучшему из них. Мы слышим взрывы хохота, остроумные замечания о том, что этому новичку надо бы попробовать себя в бою с кем-нибудь менее опытным, чем Джем Белчер. На освещенном фонарями ринге, который окружают зрители, Бой Джим ведет бой с полупьяным Джо Берксом, а ставки поднимаются все выше и выше. Выбивающийся из сил Беркс находится в тяжелом положении, но у его молодого оппонента не хватает опыта, чтобы довести дело до конца.
«Малый, давай его вот сюда левой! А теперь правой в голову!»
Именно на этом месте рассказа, когда его читали старому австралийскому профессионалу, больной приподнялся в постели. «Он доконал его! – вскричал он. – Господи, доконал!» Это были его последние слова. Человек покинул этот мир счастливым, воображая себя на ринге.
Подобно тому, как рассказы о бригадире Жераре изображали французов времен Наполеона, «Родни Стон» показывает англичан той же эпохи. И это, как и в «Мике Кларке», тем же захватывающе реальным способом, благодаря которому оживает безликая деревня, когда Бак Треджеллис мчит сэра Джона Лэйда из Брайтона в Лондон в пароконной упряжке вместо четверки или когда старый чемпион Гаррисон выходит из своего уединения, чтобы сразиться с Крэбом Уилсоном. Артур закончил эту книгу, когда вместе с Туи и Лотти они уехали на зиму из местечка Малоя в Египет, где и провели лето.
Больше месяца они были в деревне Коу, прежде чем потихоньку отправиться из Люцерна через всю Италию в Бриндизи. К концу ноября они уже поселились в отеле «Мена-Хаус», который находился в пустыне в семи милях от Каира.
Это должно было стать идиллическим промежутком времени. В белом длинном отеле в пустыне, соседствовавшем с пирамидами, были возможности для игры в бильярд, теннис и гольф. Его расслабляла сама атмосфера; он не мог ничего делать, кроме как адаптировать для театра роман Джеймса Пейна. Его сбросила понесшая лошадь, и, крепко держась за узду, он получил удар копытом, и пришлось наложить ему над правым глазом пять швов. Были и другие тревожные факторы.
К концу 1895 года в Британской империи было неспокойно. На египетской границе раздавалась стрельба арабских дервишей. Из Южной Африки доносилось шумное негодование британских уитлендеров, недовольных правлением Крюгера в Трансваале. В Британской Гвиане разгорался старый пограничный конфликт с Республикой Венесуэла. Незадолго до Рождества этот конфликт стал грозить войной между Великобританией и Соединенными Штатами.
Здесь не место обсуждать, кто был в том конфликте прав или виноват. Но его непосредственный результат был взрывоопасным: президент Венесуэлы диктатор генерал Креспо убедил американского президента Кливленда, что под угрозу поставлена доктрина Монро. В декабре Кливленд направил конгрессу специальное послание, в котором ясно давал понять, что, если Англия без арбитража пойдет на вмешательство в Венесуэле, Соединенные Штаты сочтут это основанием для войны. Послание пользовалось популярностью: его поддержали губернаторы тридцати штатов.
В «Турф-Клаб» в Каире преобладали настроения как гнева, так и удивления.
«Почему, черт побери, они нас так ненавидят? Все это наверняка проделки американцев ирландского происхождения!»
«Ничего подобного, – отвечал Конан Дойл на такие отовсюду раздававшиеся заявления. – В конце концов, тридцать из сорока трех штатов не находятся под контролем ирландцев».
Свое объяснение происходящего он изложил в письме в газету «Таймс».
«Чтобы понять точку зрения американцев на Великобританию, – писал он, – надо читать американский школьный учебник истории, воспринимая его положения с той же самой абсолютной верой и патриотическими предубеждениями, которые сами наши школьники избрали бы в описании наших отношений с Францией.
История Америки, в том, что касается международных отношений, почти полностью сводится к стычкам с Великобританией, в которых, надо признаться, мы были абсолютно не правы. Немного сейчас найдешь англичан, которые признали бы, что наши взгляды были оправданны в вопросах о налогообложении, из-за чего вспыхнула первая американская война, или в вопросе поиска нейтральных судов, который явился причиной второй войны. Война 1812 года, возможно, заняла бы всего две страницы в 500-страничной английской истории, но в американской ей отводится очень большое место».
То, что это правда, сейчас может подтвердить любой американец среднего возраста, помнящий очерки по истории, которые он проходил в юности. Не только в учебниках, но и в патриотических пьесах и стихотворениях маячила фигура надменного «красного мундира»: его неизменно побеждал герой в цветах партии вигов. Немногие англичане, которые считали события 1776-го и 1812 годов не более чем булавочными уколами, отдавали себе в этом отчет. Но это видел Конан Дойл.
«После войны, – продолжал он, – был спор по поводу Флориды, встал вопрос о границе Орегона, установления границы Мэна и Нью-Брансуика, во время Гражданской войны наша пресса в своем большинстве занимала враждебную позицию. Стоит ли удивляться, что американцы достигли сейчас такого состояния ранимости и подозрительности, которое мы сами не преодолели в том, что касается французов?»
Конфликт по поводу Венесуэлы в конце концов был погашен. Но он Конан Дойла беспокоил. То письмо он писал 30 декабря 1895 года, за день до того, как вместе с Туи и Лотти они вступили на борт небольшого пароходика компании «Господа Кук», чтобы отправиться в путешествие вверх по Нилу.
Гребные колеса крутились в воде цвета кофе с молоком. На борту, помимо Туи и Лотти, было еще много женщин в белых платьях и соломенных шляпках, которые с фотоаппаратами «Кодак» выходили на берег, осматривали руины Мемфиса. Конан Дойл уже говорил, что его больше интересовал современный Египет, нежели древний. Но Нил, когда они по нему плыли, покорял своим очарованием. В дневнике он писал: «Закат малиновым заревом навис над Ливийской пустыней. Нил плавно, подобно ртути, катил свои воды, а между нами и малиновым небом то и дело вырастали стаи диких уток. Со стороны Аравийской пустыни все было сине-черным, пока не осветилось вышедшим из-за невысоких гор краешком луны».
Их пунктом назначения был аванпост цивилизации Вади-Хальфа, почти в восьмистах милях от Каира. Это было отлично, думал он, побродить среди гробниц королей и огромных мертвых камней Тебеса. Храмы, храмы и храмы! Но когда пароход тащился мимо Асуана, он понял, что это место было не просто мрачным. Оно было опасным.
Они вошли в район Мади, откуда совершали свои налеты дервиши. Жара давила, как одеялом. Группы туристов, наполовину состоявшие из женщин, то и дело выходили на берег, где были настолько мало защищены, что их можно было брать горстями. В середине января 1896 года, находясь между Короско и Вади-Хальфой, пароход зашел в затянутую тиной деревню с плантациями касторовых бобов и посадками сливовых деревьев, которая совсем недавно подверглась налету. Девяносто дервишей в красных тюрбанах на быстро скачущих верблюдах бесшумно перебрались на восток из-за невысоких холмов без каких-либо предупреждений, если не считать первого выстрела из ружья «ремингтон». Они перестреляли половину жителей деревни и скрылись.
«Я видел одного бедного старика с простреленной шеей, – писал Конан Дойл в дневнике. – У этих людей есть на холмах наблюдатель, но я не представляю, что можно сделать, чтобы предотвратить набеги на эти прибрежные места. Если бы я был генералом дервишей, я бы с легкостью захватил экскурсионную группу с куковского парохода».
И эту точку зрения разделяли в гарнизоне Вади-Хальфы, «маленькой грозной ловушке», состоявшей из двадцати пяти сотен египетских и нубийских войск и примерно двадцати британских офицеров. За этой границей находился уже Египетский Судан.
Десять с лишним лет до этого в Судане британский солдат в последний раз носил красный мундир, теперь форма была цвета хаки. В 1885 году правительство Гладстона вывело все войска из этого района Судана. Мрачный, простирающийся среди желтых песков и черных скал, он находился под правлением черного флага халифа. Ликующие после своего недавнего налета дервиши показывали нос и говорили, что им понадобилось всего пять часов, чтобы обратить в бегство египетский верблюжий корпус. Это не оказывало умиротворяющего воздействия на британских офицеров в Вади-Хальфе..
«Мы как псы на цепи, – жаловался капитан Лэйн в то время, как нубийский духовой оркестр с варварскими визгами и грохотом играл «Викария из Брея». – Мы не можем защитить от этих налетов всю границу. У нас, конечно, разбросано несколько постов как донная приманка для дервишей».
«Да, я слышал, – сухо соглашался писатель. – Скажите, вы не хотели бы, чтобы была похищена бесполезная группа экскурсантов? В качестве предлога для действий?»
Капитан Лэйн был шокирован. «Ну нет, я бы так не сказал. Но в то же время, – он усмехнулся, – не следовало бы бояться выскочить и устроить им драку, о нет!»
Спустя два месяца, когда гражданские жители вернулись в Каир, у капитана Лэйна появилась возможность осуществить свое желание полностью. Генерал-майор Китченер получил приказ перейти через границу в Акашу и вновь захватить Египетский Судан.
Конан Дойл пропустил первый звук горна, потому что находился в Ливийской пустыне и вместе с полковником Льюисом посещал монастырь Коптик. Но новость не была неожиданной. По берегам верхнего Нила ходили слухи о том, что египетское правительство готовится предпринять какой-то шаг, на самом деле это было британское правительство, поскольку Египет был «завуалированным протекторатом». Еще с семнадцатилетнего возраста, когда во время визита к тете Джейн сержант-вербовщик едва не уговорил его вступить в армию, ему не терпелось с близкого расстояния увидеть военные действия. Теперь такая возможность предоставилась.
Но он не мог отсутствовать слишком долго. Туи должна была уехать из Египта до конца апреля, когда наступает сильная жара. Он направил телеграмму в «Вестминстер газетт» с просьбой разрешить ему представлять ее в качестве временного неоплачиваемого корреспондента. Он купил большой итальянский револьвер. Потом на поезде, пароходе, верблюде вновь проделал путь вверх по Нилу. Артур глубоко не доверял рептильной голове и глазам верблюда, и не без оснований. Но если привыкнуть к движениям этого животного, путешествие становится сносным. В Асуане ему и другим военным корреспондентам было приказано присоединиться к полку египетской кавалерии, который отправлялся на фронт. Это было слишком неинтересно, подумал он; всем другим корреспондентам также не хотелось задыхаться в кавалерийской пыли. Ночью они ускользнули на своих верблюдах и одни направились в Вади-Хальфу.
Остается лишь удивляться, как этих лунатиков не переловили дервиши. В сливовой аллее им попался какой-то дикий одинокий ездок, который поначалу напугал их. Но потом, когда Конан Дойл добрался до фронта, он не обнаружил ничего особенного, кроме суеты людей в форме хаки, которые снаряжали верблюдов. До этого не было произведено ни одного выстрела. Знакомый ему генерал-майор Китченер, который приглашал его на обед, сказал, что может еще пройти месяц или два (как на самом деле и вышло), прежде чем сможет случиться какое-либо нападение. И он на пароходе отправился в Мену.
В мае 1896 года он с семьей вернулся в Англию. Там его ждало еще одно разочарование. Строительство нового дома в Хиндхеде, на удаленных и заброшенных, покрытых хвоей холмах, еще только едва-едва начиналось. Строители его уверяли, что возведение такого особняка – это большая работа, надо потерпеть. Пока же он снял меблированный дом неподалеку в Хейзелмире. В Грейвуд-Бичез, как называлось это место, к радости семилетней Мэри и трехлетнего Кингсли, были лошадь, свиньи, кролики, совы, собаки и кошки.
Его репутация поднялась еще выше после того, как Ньюнесом были опубликованы «Подвиги бригадира Жерара». «Приятно, что многим нравится бригадир, потому что он нравится и мне самому». Но следующая работа его беспокоила.
«Сейчас упорно тружусь над этой несчастной наполеоновской книжкой», – писал он в июле. Этой книгой была «Дядюшка Бернак», которую он начал писать в Египте, но никак не мог одолеть двух глав. «Она стоила мне уже больше, чем любая большая книга. Кажется, я ее не одолею, но надо же как-то справиться».
Ему тогда не нравился «Дядюшка Бернак», как никогда не нравился и впоследствии.
Хотя он давал этой книге такую низкую оценку, сейчас можно понять причины этого. Возможно, к тому моменту он слишком много времени уделил эпохе Наполеона и Регентства. Он устал, хотя не признавался в этом и самому себе. «Дядюшка Бернак» с его описанием Великой армии, скопившейся в Булони для вторжения в Англию, представляется произведением фрагментарным: сплошные головы да плечи. Как будто бы он планировал нарисовать широкую панораму, но закончил лишь треть ее с образами Наполеона и его окружения. Что касается Бонапарта, то, как он признавался в предисловии, «я по-прежнему не мог понять, имею ли я дело с великим героем или великим негодяем. Сомнений не вызывало только прилагательное».
Под его хозяйским оком стал быстрее строиться новый дом на участке площадью в четыре акра, который должны были окружать сады. «Нас волнуют многие проблемы, связанные со строительством дома, в особенности электрическое освещение». Оно должно было обеспечиваться частной электростанцией, что для сельской местности было делом неслыханным. «В холле у меня будет очень красивое окно, хочу повесить несколько фамильных гербов». В конце 1896 года он купил лошадь, Бригадира, который был предметом его гордости. Также в конце года он начал обрабатывать свои приключения в Египте для создания фона к новому роману «Трагедия в Короско».
Этот роман пронизывала атмосфера верхнего Нила: жара, жужжащие мухи, покрытые черной пороховой копотью скалы в пустыне, а он видел в своем воображении маленькую туристическую группу, состоявшую из людей разных национальностей и религиозных убеждений, которая высаживается на берег, чтобы полюбоваться скалой Абукир, и попадает в плен к дервишам. В «Трагедии в’Короско» он ставил перед собой цель изучить проявления характеров этих людей (в особенности пары ирландских католиков, полковника-англиканца, американской женщины-пресвитерианки, французского агностика) в дни боли, страха и отчаяния.
Их сопровождение, состоявшее из солдат-негров, расстреляно, и туристов через всю пустыню везут в направлении Хартума. Они испытывают физические страдания, а потом кавалькадой овладевает фанатичный эмир, который настаивает на том, что пленников необходимо обратить в мусульманскую веру или предать смерти.
Человеческая натура проявляется в каждой строчке. Католики готовы и полны желания умереть за свою веру. Девушка-американка таким желанием не полна, но испытывает нажим со стороны своей старой и решительной тетки. Худощавый английский полковник бормочет, что предпочел бы, чтобы его конец наступил здесь, вместо того чтобы его продали в рабство в Хартуме, на самом же деле он считает, что обращение в мусульманство было бы не совсем приличным. Взбешенный французский агностик мог бы исповедовать любую веру, но не хочет, чтобы его принуждали к этому силой. «Я христианин, – кричит он, – и я им останусь». Через всю пустыню их преследует египетский верблюжий корпус, напряжение нарастает и достигает такой точки, что его уже больше невозможно сдерживать; каждый должен сделать свой выбор.
«Трагедия в Короско» наполнена быстро сменяющими друг друга действиями, за которыми почти не видны раздумья автора. Как и в «Старке Манро», но с еще большей силой встает некая конечная цель – трудиться во имя добра. Это не относится к французу. А между строк мы читаем, что в своем неповиновении дервишам почти все члены туристической группы в меньшей степени опираются на религию, нежели на человеческую гордость.
Таковы были умонастроения Конан Дойла, когда в январе нового года все семейство переехало в гостиницу в Мурлендсе, гораздо ближе к новому дому, чтобы наблюдать за его строительством. В этом доме в самом его центре и как главную достопримечательность он собирался поставить известный обеденный стол.