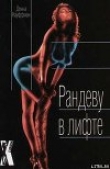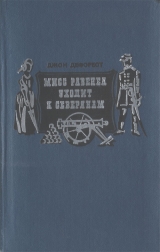
Текст книги "Мисс Равенел уходит к северянам"
Автор книги: Джон Дефорест
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 35 страниц)
ГЛАВА VI
Колберну ясно, что нужно идти на войну
В Новый Бостон начало прибывать разбитое войско; сперва шли вразброд, поодиночке и кучками, потом – батальонами и полками. Новобостонцы не бранили отступавших солдат, а только жалели их; подкармливали бутербродами, негодовали, глядя на рвань, в какую те были одеты. Маленький штат, сперва обомлевший от ужаса, сейчас приходил в себя; а узнав, что Борегар не сумел завладеть Вашингтоном, стал отважно готовиться к новым сражениям, еще более страшным, чем бой при Булл-Ране.
Подполковник Картер не вернулся вместе с полком, и Колберн, раздираемый разноречивыми чувствами, прочитал вскоре в газете, что Картер был ранен в бою и захвачен южанами в плен. Подчеркнув это место в газете, он оставил ее Равенелам вместе с личным своим поклоном у гостиничного портье; после спора с самим собой он решил, что к ним не зайдет. Колберн не мог тогда знать, что разгром при Булл-Ране был в конечном счете полезным для Севера. Он изнемогал от стыда и горя; почти с ужасом вспоминал он победный клич, с которым мисс Лили встретила горькую весть. Он был очень сердит на нее или, по крайней мере, старался сердиться. Вооружившись патриотизмом, самым могучим из «измов», которые исповедовала Новая Англия, он решил, что никогда не полюбит мятежницу, желающую зла своей родине, и что лучше ему от нее держаться подальше. В то же время он знал, что какая-то доля любви или опасной влюбленности уже поселилась в его душе; и, к стыду своему, чувствовал, что не хотел бы с нею расстаться. Смущенный тревожным положением в стране да и в собственном сердце, Колберн три или даже четыре дня избегал Равенелов. Потом он подумал, что у него нет никакой причины не встречаться с доктором; напротив, будет постыдной небрежностью избегать человека, обрекшего себя на изгнание во имя любви к республике.
Надеюсь, что логика юных и пылких сердец не столь незнакома моим читателям, чтобы они не додумались сами, чем кончились эти борения Колберна. После двух или трех бесед с доктором при кратких случайных встречах он внезапно пришел к выводу (к которому втайне и раньше стремился душой), что будет нелепо и недостойно мужчины видеться с отцом и бойкотировать дочь. Ссориться с женщиной – нерыцарственно и глупо! Он покраснел до ушей при одной мысли о том, что о нем думает Лили. И поспешил нанести ей визит, пока перерыв в их знакомстве не стал роковым. Хотя наложенный им на себя запрет длился всего неделю, ему показалось, что протекло много месяцев. Не удивительно, ведь за эту неделю он много перестрадал и как влюбленный и как патриот. Теперь прежняя дружба возобновилась, и не проходило двух дней, чтобы они не встречались. Но они вовсе не спорили о мятеже и совсем не касались Булл-Рана. Для Колберна это были столь важные темы, что он мог обсуждать их только с единомышленником, а Лили молчала, жалея его, хотя он и был для нее аболиционистом и янки. И когда доктор, не ведавший, что творится в их юных сердцах, начинал говорить о войне, Лили не откликалась, а Колберн, ценивший ее деликатность, ответствовал кратко и холодно. Так, без объяснения и сговора, они решили, что будут друг к другу терпимыми, а это могло означать, что в дальнейшем один из них примет точку зрения другого.
Колберн считал к тому же, что раз он сам не воюет, то лучше ему помолчать. На радостный вопль этой девушки при вести об их разгроме нельзя достойно ответить, сидя в гостиной; ответить ей нужно на поле сражения. Отчего же ему не действовать в согласии со своим убеждением? Почему не вступить в один из полков, формируемых его маленьким штатом для продолжения борьбы? Отчего не двинуться вслед за душой Джона Брауна,[32]32
Известная походная песня северных армий была посвящена памяти фермера-аболициониста Джона Брауна, Казненного в 1859 г., южанами-рабовладельцами:
Тело Джона Брауна тлеет в могиле,А душа его шествует впереди…
[Закрыть] распевая вместе с другими этот странный, но доблестный гимн: «Мы выступаем, отец Авраам, триста тысяч бойцов…»?![33]33
Эта песня на слова порта-аболициониста Джеймса Гиббонса была сложена в 1862 г. в ответ на призыв президента Линкольна к американскому народу – вступать добровольцами в армию:
Мы выступаем, отец Авраам, триста тысяч бойцов.Из Новой Англии, от Миссисипи спешим мы на твой зов,Бросаем плуги и молоты, оставляем жен и детей…
[Закрыть]
Колберн со всей серьезностью совещался по этому поводу с друзьями и с доктором Равенелом. Доктор сразу, от всей души одобрил воинственность своего молодого друга.
– Столь благородная цель, быть может, не встретится больше вам за всю вашу жизнь, – так сказал доктор. – Подумайте, лично участвовать в спасении республики, в уничтожении рабства! Высочайшая честь, какой не знали ни греки, ни римляне. Как это горько, что я не молод, не воин в душе и не могу быть полезен своими знаниями. Согласен в землю хоть завтра, если на моей надгробной плите будет начертано: «Он умер, освобождая рабов».
– Прошу тебя, перестань, – взмолилась вошедшая Лили, услышав последнюю фразу доктора. – При чем тут надгробные плиты? Вы еще все хлебнете горя с этим аболиционизмом. И будь ты логичнее, папа, ты не был бы столь заклятым противником рабства. Ты стал им за эти пять лет.
– Все так, – сказал доктор, – но это не значит, что я не прав. Действительно, пять лет назад я был не таким. Но человечество шествует, моя дорогая, от варварства к цивилизации, и притом неустанно меняется. А что полезно роду людскому, полезно и индивидууму. Я ненавижу последовательность ради последовательности. Держаться прежнего мнения лишь потому, что когда-то считал его верным, – попросту глупо, все равно как подросшему крабу втискиваться в старую раковину, вместо того чтобы искать себе новую, по своему росту. А что, если змеи откажутся менять прошлогоднюю кожу? По счастью, в животном мире таких дураков нет. Наша глупость чисто людская.
– Да, мир меняется, – согласился с ним Колберн. – Мы, например, в Новом Бостоне считаемся консерваторами. Но наши новобостонские пуританские предки присудили бы нас к бичеванию как нарушителей дня субботнего и вольнодумцев. Боюсь, что и мы сурово осудим наших праправнуков, если до них доберемся.
– Слабые души боятся больших перемен, их пугает прогресс, – сказал доктор. – Вот вам забавный случай. Три года тому назад я проезжал по Джорджии. Передо мной на скамье сидел «белый бедняк». Он ехал в поезде, видимо, первый раз в жизни и вообще только еще приучался ходить на задних ногах. Поезд подъехал к мосту через реку. Мост очень узкий, без боковых оград и покрытия, так что нужно сидеть у окна, чтобы его разглядеть. А сосед мой сидел у прохода, далеко от окна. Я видел, как он воззрился на реку, потом отвернулся, заерзал на месте и вдруг повалился без чувств. Мы все к нему кинулись, дали выпить спиртного (виски у всех там с собой), привели постепенно в чувство. И первый вопрос его был: «Ну как, мы на той стороне?» Ему попритчилось, видите ли, что машинист берет реку с разбега. Не таковы ли невежды и робкие души сейчас, когда речь идет об историческом ходе нашей страны, всего человечества. Они не видят моста, боятся лететь по воздуху, от ужаса падают в обморок.
Колберн захохотал от души, как уже хохотали многие над этой старой-престарой историей.
– Скажу еще от себя, – заявил он, – что на поезде нашей истории мы не просто пассажиры, нет, мы части локомотива. Я, например, должен действовать, быть рычагом или поршнем. Просто жажду активного действия, сгораю от нетерпения. И не знаю, что предпринять. И уверен, что сам я тому виной, а не обстоятельства. Я как тот господин, который все время старался подпрыгнуть повыше, но так и не смог ничего увидеть, потому что глаза ему заслонял его слишком высокий воротничок.
– Отлично вас понимаю. Знакомая ситуация. Не раз, а особенно в юности, мне ужасно хотелось стать сочинителем, хотя я не знал решительно о чем написать. Душа у меня пылала; я брал бумагу, перо, чернила; я жаждал начать, приступить к сочинению, но что сочинить – не знал. Посидев, пораздумав, я поднимался со стула. С чем был, с тем и вставал. Это вроде зарницы. Вспышки, сияние в небе, но ни дождя, ни грома; никаких откровений свыше. Впрочем, ваши стремления реальны и, конечно, осуществятся. В этой войне хватит дела для всех.
– Не знаю, – сказал Колберн. – Шестой и седьмой полки уже полностью укомплектованы. Говорят, не осталось даже лейтенантских вакансий.
– А если набрать отдельную роту?
– Но куда, в какой полк? И будет ли время набрать эту роту? По правде сказать, я боюсь, что через полгода война уже кончится.
Лили метнула на Колберна быстрый взгляд, словно хотела сказать; ((Война продлится еще сорок лет! Вот увидите». Но, как видно, сочла это невеликодушным и усилием воли сдержалась.
– Странный вы патриот, – рассмеялся доктор. – Но позвольте заверить вас, мистер Колберн, ваши страхи напрасны. Еще надобны будут полки и полки.
Лили кивнула отцу, выражая свое согласие, но опять промолчала; она еще помнила о Булл-Ране и о своем бестактном воинственном кличе.
– Южная олигархия, – продолжал свою мысль доктор. – Это крепкий орешек. С тираническими режимами не так-то легко совладать.
– Хотел бы я знать, где сейчас подполковник Картер? – подумал вслух Колберн. – Шесть недель назад его взяли в плен. Словно шесть лет прошло.
Вскинув голову с видимым интересом, мисс Равенел бросила взгляд на отца и вернулась к своему рукоделию. Доктор поморщился, давая понять, что он невысокого мнения о подполковнике Картере.
– Доблестный офицер, – сказал Колберн. – Командование высоко оценило его действия при Булл-Ране.
– Уверен, что вы воевали бы не хуже его.
Колберн только лишь рассмеялся при этом предположении.
– Да, как и всякий другой разумный, порядочный человек, – настаивал Равенел. – О Картере я могу рассказать вам решительно все, как если бы знал его близко двадцать пять лет. Не забывайте, что я изучил эту породу. Картер из тех, кого мы, южане, обуянные варварской гордостью, зовем джентльменами южной школы. Типичный плантатор из Сент-Доменика. И нуждается, как и они, в постоянном присмотре. Расскажу вам одну историю. Однажды в Северной Каролине, в геологической экспедиции, я поздно ночью искал ночлега. У придорожного кабака (они называют их там тавернами) я повстречал очень странную пару. Человека и гуся. Человек был вдребезги пьян, но гусь был вполне трезвым. Человек шатался, гусь шел твердой походкой. Время от времени он останавливался, поворачивал голову и кричал: «Га-га-га», словно подбадривая своего компаньона. Светила луна, и их было отлично видно. Я ночевал в таверне, там мне все разъяснили. Гусь был ручной и души не чаял в своем вечно пьяном хозяине. Тот каждый вечер, напившись без меры, засыпал на лавке в таверне. В полночь являлся гусь и кричал: «Га-га-га!» Кабатчик расталкивал пьяницу: «Гусь пришел за тобой». Тот поднимался и шел домой под опекой своего разумного друга. Если он по пути падал и не в силах был встать, гусь гоготал отчаянно, призывая на помощь. Так вот я хочу вам сказать, что во всем Сент-Доменике не найдется плантатора, который не нуждался бы в подобной опеке. Сколько раз за столом, глядя, как гость осушает стакан за стаканом, я от души жалел, что не могу подойти к нему и сказать: «Сударь, за вами явился ваш гусь».
– Ну, подполковника мы в таком состоянии не видели, – сказал Колберн, немного подумав.
– Верно, не видели, – согласился с ним доктор. – Но я ведь отлично знаю эту породу.
Тут Лили решила, что доктор явно пристрастен, и нанесла ему коварный удар с фланга.
– Папа, – заметила она, – это очень провинциально – рассказывать анекдоты.
– Не критикуй меня, дорогая, – откликнулся папа. – Я джентльмен южной школы, убиваю оппонента на месте.
Мы не выяснили, однако, почему мистер Колберн медлил и не вступал в армию. Дело все в том, – хоть это для нашей повести и не так уж важно, – что он был единственным сыном в семье, опорой и утешением своей овдовевшей матери. Когда доктор Колберн скончался, он оставил семье двадцать пять тысяч долларов – по тогдашнему времени довольно солидное состояние. Однако приток калифорнийского золота и последовавшая дороговизна подорвали семейный бюджет Колбернов, а поступление Эдварда в колледж потребовало новых расходов. Тогда миссис Колберн решила поместить половину своего состояния в акции новомодных промышленных предприятий, предлагавших желающим двадцать пять процентов дохода вместо обычных шести. Трудно ее осуждать за легкомыслие, – пример и совет ей подали некоторые из проницательнейших новобостонских капиталистов, тоже на том обжегшиеся, и притом в немалом числе.
– Как я понимаю, миссис Колберн, – сказал ей директор компании, – вы хотите так поместить капитал, чтобы вложение было и верным и прибыльным. Предприятия вернее нашего вы не найдете!
Верным-то оно было, но вовсе не прибыльным. В первый год компания выплатила обещанные проценты, и вдова могла бы еще продать свои акции с барышом. Потом демократическая партия ввела фритредерские тарифы, прибыль промышленников упала, и за брегвильские акции стали давать девяносто процентов первоначальной цены. Тогда еще можно было расстаться с этими акциями без особых убытков, если считать дивиденды за первый год. Но вдова не имела опыта, не знала, как правильно поступить, и крепко держалась за акции. А когда начались военные действия, акции Колбернов превратились в пустую бумагу, и доход от них сразу упал до восьмисот долларов в год. Добавим, что год или два мать и сын уже тратили свой основной капитал.
Эдвард знал, что близится крах, и, будучи потомственным янки, предпринял, конечно, все, чтобы его отвратить. Не упуская возможностей, он ловил любой заработок и умудрился прожить этот год без материнской помощи, правда, стесняя себя в необходимом. Уже многие знали молодого юриста, хотя он ни разу еще не выступал в суде. Годик-два юридической практики, и он мог надеяться, что станет покрепче на ноги, предотвратит крах родного дома и восстановит благосостояние семьи.
Но не это было главной причиной, мешавшей ему пойти на войну. Душа его матери кровоточила: «Я не в силах, мой сын, тебя отпустить!» Она была убежденной аболиционисткой, как большинство людей ее круга в Новом Бостоне, она была патриоткой, как почти все на Севере в это бурное жаркое лето; но война, эта страшная беспощадная бойня, пугала ее. Чувствительное от природы, привычное к миру и спокойствию нежное женское сердце не принимало жестокой необходимости боя. Сколь ни близки были ей патриотические и гуманные цели конфликта, она не решалась сделать моральный и логический вывод и одобрить кровавую схватку. Да и как ей было вступить из сладостного мира покоя в мир ярости и смертоубийства? Ведь жизнь ее шла к закату; немилосердный недуг точил ее силы; она уже не надеялась встретить будущий год. И если ее прощальные дни должны быть омрачены ненавистным кровопролитием, так пусть хоть сын ее будет при ней. Если и в самом деле нет никакого спасения, пусть тогда пламя и дым поглотят облеченных в доспехи чужих сыновей; пусть устремляется им вослед тоскующий взор матери. Но ее собственный сын пусть будет при ней! Напрасно Эдвард читал ей ежедневно военные сводки, сообщал о тягостях, которые взвалила себе на плечи страна, знакомил с грандиозными планами, направленными против южан. Она слушала неохотно, не скрывая своей печали. Он читал ей «Атаку шестисот»[34]34
Известное стихотворение английского поэта Альфреда Тенннсона «Атака легкой кавалерии» (1855), посвященное гибели английской кавалерийской части под Балаклавой во время Крымской войны.
[Закрыть] Теннисона, и стихи в его исполнении звучали как военный оркестр. Но, прислушиваясь к воинственным ритмам, она лишь трепетала от ужаса и отвращения.
Так миновало лето, лето начальных стычек и сумрачных приготовлений, нестройной ружейной пальбы и редких пушечных залпов, предвещавших, пока лишь смутно, грядущие громы Геттисберга и Уайлдернеса.[35]35
Сражения при Геттисберге 1–2 июля 1863 г. и в Уайлдернесе (название лесного массива в Вирджинии) 5–6 мая 1864 г. принадлежат к наиболее кровопролитным битвам гражданской войны в США.
[Закрыть] А немноголюдные передовые отряды, те, что первыми пали в бою, предшествовали будущим мощным колоннам, которым уже суждено было – год за годом – спускаться в долину теней. Мрачный отсвет войны леденил души даже у тех, что жили в домах, далеко отстоящих от поля сражений; хворые и старые быстрее сходили в могилу, истощенные страхом и горькими мыслями. И среди этих несчастных, которых никто не засчитывал в качестве жертв войны, была и матушка Колберна.
Однажды вечером, в сентябре, она послала за Эдвардом. Доктор уже ушел, бессильный что-либо сделать. Ушел и священник; она больше в нем не нуждалась. В комнате было трое – сиделка, больная женщина и ее единственный сын, Эдвард знал, что мать умирает, и заранее готовился к этому, Он был удивлен твердостью своего духа и даже напуган; в нем не было горя и робости, которых он ожидал. Он, как говорят в этих случаях, внутренне оцепенел и потому не испытывал боли. Но сейчас, нагнувшись над спинкой кровати, впившись взглядом в лицо матери, он понял, что близок последний час, и весь задрожал от тоски, словно ждал, что должно разорваться и его сердце. Глаза у сына и матери были сухими. Пуритане не часто льют слезы; они обычно владеют своими чувствами. Сиделка увидела лишь, что молодой цветущий мужчина вдруг побелел словно мел и что для него то был час жесточайшего горя, а для умирающей женщины час блаженства. Мать знала Эдварда достаточно, чтобы даже гаснущим взглядом постигнуть его печаль.
– Не горюй обо мне, – обратилась она к нему. – Я верю в грядущую жизнь. Я возвращаюсь туда, откуда явилась. В мире и радости я приобщаюсь к покою.
Он подошел к ней ближе, присел на кровать и молча взял ее за руку.
– Настанет однажды и твой черед, – продолжала она, – и ты увидишь меня там, одесную от господа. Я всегда просила его об этом. Сейчас я молилась опять, и молитва моя услышана. Я была за тебя в страхе, но теперь не страшусь.
Он ничего не ответил, только сжал ее руку крепче; она с трудом переводила дыхание.
– Теперь я могу расстаться с тобой, – продолжала она. – У меня не хватало для этого сил, но теперь господь обещал мне нашу грядущую встречу. Оставляю тебя в руке божьей. Ни о чем его не прошу и на него уповаю. Ибо он любит тебя любовью, которая сильнее материнской любви. Быть может, я была эгоисткой, Эдвард, что так за тебя держалась. Ты считал, что твой долг быть солдатом, а я мешала тебе. Теперь ты свободен решать; завтра меня не будет. Если по-прежнему хочешь исполнить свой долг, исполняй. Господь тебя не оставит, сын мой, он даст тебе смелость и силу. Не прошу его больше хранить тебе жизнь; об одном лишь прошу, не оставить тебя и дать нам встретиться в царствии божьем… Это обещано мне и исполнится; я верю в грядущую жизнь, мы встретимся там, я радуюсь и ликую.
Говоря все это, точнее, шепча, она обняла его. Роняя слезу за слезой, он коснулся губами исхудалого лица матери, и она, проведя рукой по его щеке, улыбнулась, откинулась на подушки и тихо смежила глаза, будто заснула. Два-три последних, неразборчиво сказанных слова, невыразимо блаженный шепот был словно беседой души ее с ангелами, словно уже не от мира сего. Сын держал ее за руку и касался губами ее лица, и ему показалось, что мать отошла ко сну. Но дыхание больной становилось все тише, пока не затихло совсем. Сиделка подошла к изголовью, нагнулась, взглянула, прислушалась и сказала: «Она скончалась!»
Он свободен. У него нет больше матери.
Он ушел к себе в комнату, с ужасом чувствуя, что отныне мир для него лишился любви; лишился надежды и цели; что его ждет пустота. Казалось, исчезло прошлое и не было будущего; он не мог сосредоточиться мыслью даже на страшном горе, постигшем его. Он взял Библию, материнский подарок, и прочитал страницу, но ничего в ней не понял, не запомнил даже строки из прочитанного. Охваченный немотой чувств, этим почти что безумием, постигающим пораженную душу, он не в силах был вспомнить своего расставания с матерью, не мог повторить ее слов, исполненных радостной веры в их грядущую встречу. Словно назло ему, наперекор, в ушах его снова и снова звучали строки несчастного Эдгара По:
В печальных строках звучала горькая правда. Ему теперь тоже казалось, что жизнь это не больше чем тяжкий недуг и только могила дает исцеление. Измученный долгой бессонницей, не оставлявшей его тревогой, отчаявшись справиться с горем, Колберн на самом деле страдал от томления души. Считая, что в жизни ему теперь ничего не осталось, он избрал себе смерть, но честную, с пользой для общества, чтобы не посрамить ни себя, ни свое поколение. Да, он умрет, но умрет, защищая родину! Это торжественное решение было решением человека жизнелюбивого и даже веселого по природе, но не ушедшего полностью от влияния «предков, фанатических пуритан. Он ярко представил себе, что значит смерть, и выбрал себе эту долю во имя правого дела. Не забудем и то, что он ужасно устал и душу его лихорадило.
ГЛАВА VII
Капитан Колберн набирает роту, полковник Картер – полк
Вплоть до самого октября Колберн возился с наследством матери и приводил в порядок собственные дела. После чего, распорядившись имуществом и сдав внаем родительское гнездо, он перебрался в номер Новобостонской гостиницы, готовый в любую минуту проститься с родимым краем, а если придется – и с жизнью. Соседство мисс Равенел (хоть он с ней в ту пору не виделся) могло бы, конечно, сбить Колберна с избранного пути, но он очень мужественно противостоял этой мятежнице, как в дальнейшем и всем ее мятежным собратьям.
Однажды утром, покидая гостиницу чуть позднее обычного и направляясь в свою контору, он увидел знакомую румяную физиономию и непомерной длины каштановые усы. Не узнать их владельца было никак невозможно; то был раненный под Булл-Раном и попавший в плен подполковник; такой же могучий, с тем же великолепнейшим цветом лица и дерзким презрительным взором, словно все названные испытания постигли совсем не его, а кого-то другого. Холодно глянув на Колберна, он направился дальше. Но не успел молодой человек покраснеть и взяться за ручку двери, как знакомый ему баритон загремел вслед: «Погодите!»
– Извините меня, – обратился к нему подполковник, подходя торопливым шагом. – Совсем не узнал вас. Со времени нашего пикника утекло немало воды.
Он расплылся в улыбке и так весело захохотал, точно за это время не было никакого Булл-Рана.
– Ну и ну! – продолжал он. – Я сто раз хохотал, вспоминая, как пичкал вином и сигарами толпу старых дев. Все равно что вломиться с бутылкой в беньяновский Храм Красоты[38]38
Беньян Джон (1628–1688) – английский писатель, автор аллегорического религиозно-морального романа «Путь паломника».
[Закрыть] из «Пути паломника» и предложить всем девицам «по маленькой»…
Новый взрыв хохота; дерзкие темные глаза подполковника искрились от веселости. Колберн глядел на него и слушал в большом изумлении. Вот перед ним человек, переживший недавно ужас и таинство боя; он был ранен, захвачен в плен, героически бился, проливал свою кровь во имя высоких целей; он был свидетелем неудач и позора, постигших армию. И ни слова об этом всем, даже думать не думает; только хохочет да вспоминает пикник. Что это значит – равнодушие на грани измены? Ветреность или – кто его знает – настоящая скромность? Если бы он, Колберн, сражался при Булл-Ране, то, наверно, и слова не мог бы сказать ни о чем другом.
– Как ваши дела? – спросил его Картер. – Вы похудели и что-то бледны.
– Да нет, я в порядке, – возразил ему Колберн, обходя свои личные обстоятельства, как малосущественные. – Скажите лучше, как вы? Как ваше ранение?
– Ранение? Ах, эта царапина! Давно зажила. Меня оглушило, когда я упал с коня. Иначе им бы не взять меня в плен. А рана не в счет.
– Но вы настрадались у них? – сказал Колберн, полные сочувствия.
– Настрадался! Мои дорогой, если я от чего настрадался в плену, так от выпивок и пирушек. Давно уже так не гулял, как на этот раз в Ричмонде. Встретил там уйму старинных друзей, и они меня развлекали. Сейчас они по другую сторону баррикад, но как были лихие ребята, так и остались. Разве могут они обидеть меня, товарища по Вест-Пойнту?
При одном лишь подобном нелепом предположении Картер весело захохотал.
– Признаться, совсем не подумал, – сказал сконфуженный Колберн. – Я рисовал себе это иначе. Деревенский баран больше знает о нравах лесных рысей, чем я о военных людях.
– Да что говорить! Когда я уезжал, они устроили пир в мою честь; напоили меня, назюзюкались сами. Скинулись между собой и дали мне на дорогу денег; просто силой заставили взять.
Заметим, что случай с Картером произошел еще в самом начале войны, задолго до той поры, когда Либби-Призон и Андерсонвилл[39]39
Тюрьма Либби в Ричмонде и лагерь Андерсонвилл в Джорджии, где южане держали пленных солдат и офицеров северной армии, были печально известны губительным режимом и большой смертностью заключенных.
[Закрыть] были преступно превращены в лагеря голодовок и смерти.
– Они хотели, должно быть, склонить вас на свою сторону, – заметил Колберн.
Лицо его выражало в этот момент подозрение и даже тревогу; патриоту в те дни было свойственно сомневаться в своих согражданах.
– Вполне вероятно, – отозвался Картер с полным спокойствием, словно в такой возможности не было ничего исключительного. – А почему бы и нет? Они нуждаются в людях. Военный министр в Ричмонде, не скрою от вас, предложил мне немедленно полк и обещал быстро продвинуть по службе. Сделал это, конечно, намеком, любезно и тонко, чтобы не задеть мою честь. Для меня в этом не было, впрочем, большой неожиданности, и он, верно, счел, что только дурак откажется. Ведь я по рождению вирджинец, вы знаете, и я принимал кое-какое участие в их южных интригах; это было давно, разумеется, и никакой решительно связи с мятежом не имело. В общем, я отклонил его предложение. Признайте, что я недурной патриот!
– Примите мое признание, сэр! – с жаром ответил Колберн, и Картер в ответ усмехнулся. – Вы достойны награды.
– Что верно, то верно, – откликнулся Картер своим беззаботно-шутливым тоном. – И я уже награжден. Вчера вечером получил письмо от вашего губернатора: предлагает мне полк. Я как раз пообедал с друзьями и думал еще поразвлечься. Но дело сперва, потеха – потом. Полез под холодный душ, потом – на вокзал и в полночь был в Новом Бостоне. К десяти часам иду на прием к губернатору.
– От души поздравляю! – опять восхитился Колберн. – Я рад, что наш губернатор вас оценил. – Потом, немного помявшись, добавил: – А вы не забыли, что звали меня к себе в полк?
– Помню, конечно. Так что же? Готовы идти?
– Готов, – пылко ответил Колберн. – К вашим услугам. Только боюсь, не наберу себе роту. И сумею ли я ею командовать.
– Сумеете, – заявил Картер, отметая любые сомнения. – Я вам ручаюсь. Пока что пойдемте и выпьем за наш полк. Впрочем, совсем позабыл: вы не пьете. Тогда покурим и потолкуем. Ручаюсь, все будет отлично. Вы джентльмен, а джентльмену ничего не стоит за три месяца прекрасно научиться командовать ротой. А что до того, как набрать эту роту, полагайтесь во всем на меня. Если не будет комплекта, подкинем других людей. Когда офицеры отсеиваются, все равно их солдат разбирают по ротам.
– Я не хотел бы пользоваться плодами чужих трудов, – сказал щепетильный Колберн.
– А, ерунда! Для пользы службы, на благо родине! Если кабатчик, какой-то мужлан, приводит шесть или восемь десятков парней, которых сам же споил и завербовал к себе в роту, мы должны, изволите видеть, признать его джентльменом. А я не согласен. И в полк я его не пущу. Не беспокойтесь и предоставьте все мне. Пишите сразу начальству, выправляйте свидетельство, открывайте вербовочный пункт и начинайте действовать. Вакансия в Десятом Баратарийском – за вами.
– Кто у вас еще офицеры в полку? – осведомился Колберн.
– Пока назначений нет. Полк – это я, и все почести следуют мне. Но подполковника и майора я подыщу себе сам, из настоящих боевых офицеров. У нас будет самый лихой полк изо всех, каких видела Новая Англия.
– Сделаю все, что смогу. Но только боюсь, что наберу себе роту не раньше чем к новой войне.
– На этот счет не волнуйтесь, – захохотал в ответ Картер, словно речь шла о чем-то весьма смешном. – Нашей войны еще хватит на добрых четыре года.
– Да быть того не может, – сказал изумленный Колберн. – Мы, штатские люди, считаем, что победа близка. Все говорят, что Мак-Клеллан[40]40
Генерал северных войск, главнокомандующий в 1861–1862 гг.; был тайным сторонником компромисса с мятежниками и фактически саботировал военные усилия Севера; в дальнейшем был отстранен от командования.
[Закрыть] создал первоклассную армию. Или вы после Булл-Рана пришли к заключению, что южане дерутся лучше?
– Ничуть не бывало. Обе стороны худо дрались. Чего же и ждать от необстрелянных рекрутов? Об этом отлично сказал в двух словах мой старый ротный Ламар (сейчас он полковником у южан): «У наших дрожали поджилки, но не сильней, чем у ваших». Мы их с утра потеснили и, конечно, погнали бы, но Джонстон ударил нас вдруг по правому флангу. Пришлось отступить. Это как дважды два. Если вас обошли с фланга, вы отступаете!
– Какое там отступление! – простонал Колберн, вспоминая в отчаянии тот мучительный день. – Вы ведь не знаете, что там было. Они позорно бежали, не останавливаясь, до самого Вашингтона. Один солдат добежал за сутки до Нового Бостона. Такого разгрома и паники не знала история.
– Вздор! Простите меня, конечно! Про Аустерлиц вы, наверно, читали? А как насчет Иены и Ватерлоо?[41]41
В битве под Аустерлицем 2 декабря 1805 г. Наполеон нанес тяжелое поражение австрийским и русским войскам. При Иене 14 октября 1806 г. Наполеон разгромил прусскую армию. В битве при Ватерлоо 18 июня 1815 г. Наполеон потерпел поражение от английских и прусских войск.
[Закрыть] Для ополченческого формирования наши люди дрались недурно. И паники я не видел. Правда, меня захватили в плен еще до исхода боя. Но я толковал с офицерами, бывшими при отступлении, и они говорят, что газеты раздули все это глупейшим образом. Журналистов вообще не надо пускать на фронт; они все всегда раздувают. Если бы мы одержали верх, они объявили бы битву вторым Ватерлоо для южан. Неискушенные люди легко ошибаются. Вот вам пример с дилижансом, который поломался в дороге. Поговорите об этом с возницей, а потом расспросите какую-нибудь пассажирку. Первый скажет – пустячный случай, а она вам распишет трагедию. Так вот, четыре бабуси из членов конгресса и четыре кисейных барышни из вашингтонской газеты, в жизни не видевшие ни победы, ни поражения, очутились среди отступающих войск и тотчас решили, что в истории такого не было. А я вам скажу, что такое не раз бывало, и еще вам скажу, что это вполне объяснимо. Необстрелянная армия при сильном ударе непременно должна откатиться. К тому же удар, нанесенный Джонстоном по нашему правому флангу, был образцово выполнен. Я бы судил Паттерсона за глупость.
– За глупость? Да он изменник, – вскричал Колберн.
– Это вы уж слишком, – сказал подполковник. – Если судить дураков за измену, не хватит судов. Все равно как тащить всех старух на костер за колдовство. Кстати, как поживают Олстоны? Или нет… Равенелы? Живы-здоровы? Барышня все цветет и заливается краской? Что ж, очень рад за них. К сожалению, нет времени повидаться. Поезд уходит через десять минут. Счастлив, что будем служить с вами вместе. Будьте здоровы!
Подполковник исчез, предоставив Колберну размышлять о контрастах его натуры. Воспитанность Картера вперемешку с вульгарностью, дерзостью и легкомыслием, как и другие его нравственные плюсы и минусы, составляли причудливый моральный пейзаж, противостоящий разительно строгой унылости Нового Бостона. Бесспорно, Колберн бы предпочел, чтобы его будущий командир не был пьяницей и сквернословом; но при этом он не мог утверждать, по пуританским шаблонам, что пьяница и сквернослов – непременно дурной офицер. Он не знал военных людей, как же мог он судить их? Разве вправе он предъявлять к офицеру те же требования, что к штатскому? Картер был профессиональным военным, он пролил свою кровь за республику; и этого было довольно для Колберна, чтобы отнестись снисходительно ко всем его недостаткам.