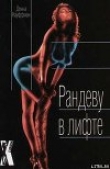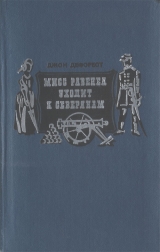
Текст книги "Мисс Равенел уходит к северянам"
Автор книги: Джон Дефорест
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 35 страниц)
Ни один часовой на посту (если только поблизости не было начальника караула) не мог отказать себе в удовольствии отсалютовать ей. Офицеры из более светских, кому Лили с улыбкой кивала при встрече, а тем более те, кого она приглашала к обеду, были искренне преданы ей и открыто ей восторгались. А один молодой лейтенант, которому раз довелось подкоротить стременные ремни для супруги полковника, был так этим счастлив и так открыто бахвалился, что получил от ревнивых товарищей кличку «Старший помощник младшего конюха Второй Бригады, Первой дивизии, Девятнадцатого армейского корпуса». Счастливец, однако, и в ус не дул: ведь именно он, а не кто другой оказал обожаемой всеми особе эту услугу и с такой высоты мог с холодной усмешкой взирать на завистников. Лили была королевой, богиней, единственной и полновластной богиней всего бассейна Лафурша. Во всем здешнем округе не было больше дам, разве только две капитанши, которые никак не могли с ней равняться, и местные жительницы-южанки из мятежных семейств, ожесточенные, совсем не общающиеся с офицерами северных войск, да к тому же и не соперницы ей ни в туалетах, ни в красоте. Обожавшие Лили поклонники были, правда, не самого первого класса, но зато беспредельно верны ей, преданы всей душой, и она ни с кем не должна была делить свои лавры. И Лили казалось в то время, что нет доли лучшей на свете, чем быть женой полковника Картера и принимать гостей в своем собственном доме. Будь Лили в ту пору двадцать пять – тридцать лет и будь она более искушена в светской жизни, я первым бы посмеялся над ее наивными радостями, но ей было всего только двадцать, она не успела изведать, что такое торжественный выезд в свет и первый бал для молоденькой девушки, вышла замуж без свадьбы, полгода всего была замужем, и я – на ее стороне, сочувствую ее счастью. Забавно, как Лили с трудом привыкала к замужеству. Сперва ей казалось странным и даже абсурдным, что кто-то вдруг назвался ее мужем и заявляет свои права на нее или претензии к ней. Бывало, завидев Картера, она заливалась румянцем, словно он все еще был ее прежним влюбленным поклонником. А встретив прямой повелительный взгляд его карих глаз, она внутренне вся трепетала и готова была взмолиться: «Нет, не надо так глядеть на меня!» Эти глаза сражали ее, как приказ. Они покоряли ее, и бедняжка спасалась от дерзкого мужниного взгляда, приникая к его же груди. Картер сам изумляйся своей удивительной власти над Лили и демонстрировал ее снова и снова, теша свое мужское тщеславие и пытая силу любви.
Один из штабных офицеров, следивший за сенсационными новейшими опытами по изучению человеческой психики, приметил странное действие мужнина взгляда на Лили и как-то однажды, беседуя с Колберном, отозвался об этом как о типичнейшем проявлении духовного магнетизма. Колберн отнесся со скепсисом к его наблюдениям и только с трудом удержался, чтобы не дать оплеуху психологу. Экая наглость, право, самозванно судить о душевных движениях миссис Картер, делать из этого тему для светской беседы! Ничего не сказав, он метнул в ответ яростный взгляд, чем весьма удивил собеседника, полагавшего, что проблема имеет чисто научный характер. Колберн считал, что он знает душевный мир Лили, и отвергал применительно к ней какой бы то ни было магнетизм. Он измерял ее душу своей душой и полагал, что волнение Лили под взглядом супруга объясняется только ее глубокой любовью к нему. И признать ему это было горько вдвойне. Во-первых, Колберн страдал, что не он заслужил такую любовь Лили. И, во-вторых, он страшился, что Картер может вдруг стать недостойным этого нежного чувства.
Его отношения с супругами были самые дружеские. Если полковник по занятости не мог ехать верхом на прогулку с женой, он поручал это Колберну. Если, приехав в штаб, Лили не заставала там мужа, то непременно спрашивала старшего адъютанта. Через полковника Колберн дарил ей цветы. Картеру было известно, что Колберн обожествляет его жену, но в то же время он знал о невинности этого чувства и доверял Лили Колберну так же спокойно, как доверял бы ее Равенелу. Капитан не считался членом семьи лишь потому, что жил далеко от полковника; но он приходил к ним обедать каждое воскресенье и через день проводил у Картеров целый вечер. Письма от доктора Равенела как к капитану Колберну, так и к дочери с мужем читались всегда вслух. А если Лили случалось не получить от папы из Нового Орлеана привычных двух писем в неделю и она начинала тревожиться, не подхватил ли он желтую лихорадку да и жив ли вообще, то и полковник и Колберн должны были хором ее утешать.
Пригласив какого-нибудь офицера четвертым партнером за карточный стол, наша троица проводила счастливейшие часы за вистом и юкром. Стоило Лили открыть свои карты, и она заявляла под хохот обоих мужчин, что у нее опять нет игры, ей не взять ни единой взятки. Она непрерывно болтала, сообщала, какие у нее на руках козыри, подглядывала в карты партнеров, визжала от счастья, когда ей везло, короче сказать, нарушала все священные правила виста. Она забывала, какие объявлены козыри, путала черви с бубнами, ходила не с той карты и не давала партнеру забрать законную взятку. Когда у нее были козыри, она крепко за них держалась и укоряла каждого, кто ей в этом мешал. Она заставляла партнера сдавать за нее и потому чаще прочих вступала в игру. Словом, ей все разрешалось, она играла без правил, и все были счастливы. Да и как могло быть иначе, разве она не была здесь владычицей и богиней, Семирамидой, Юноной? И где бы нашелся охотник бунтовать против такого безмерного счастья, веселья, гармонии, дружбы?
Лили была в том чудесном расцвете души и тела, когда вашу жизнь не омрачает ни единое пятнышко: ни болезнь, ни дурное предчувствие, ни случайный каприз. Земное блаженство, но столь беспредельное, что оно казалось сродни не-земному, сопровождало ее все это лето и сквозило в улыбке, которой она так щедро дарила других. Помните ясного ликом ангела на первой картине «Странствий по жизни» Коула,[122]122
«Странствия по жизни» – аллегорическая серия из четырех картин американского художника Томаса Коула (1801–1848), широко известная в США по многочисленным репродукциям.
[Закрыть] который стоит у кормила ладьи, плывущей по мирной реке. Это – мать со своим первенцем, а может быть, только еще с его нерожденной душой. Так вот миссис Картер походила на этого ангела, только была веселей его и лукавей. Ее голубые глаза излучали здоровье с такой интенсивностью, что видно было: жить для нее – значит радоваться. Ланиты ее, в которых в обычное время было больше от лилии, чем от розы, сейчас пламенели румянцем, и казалось, что кровь вот-вот брызнет сквозь нежную кожу. Ее руки, шея и плечи уже не были как у Дианы, а стали округлыми, сильными, как у Юноны. Этот новый, подлинно женский расцвет и делал ее такой довольной, счастливой, прекрасной.
Она уже несколько раз намекала мужу, что хочет открыть ему некую тайну. Но только он спрашивал, Лили краснела, смеялась и говорила, что тайны, собственно, нет, что она пошутила, а если какая и есть, все равно она не расскажет. А про себя удивлялась, считала просто смешной его недогадливость. Но вот однажды она призналась ему во всем, заперев предварительно двери и опустив жалюзи, ибо сказать об этом при свете дня было так же мучительно, как при посторонних свидетелях. А сказав, приникла к нему, заливаясь слезами и жадно внимая его уверениям в горячей любви.
После этого Картер стал еще более нежен с женой. Любое ее желание, прихоть выполнялись немедленно. Он решил ограничить ее занятия спортом, и прежде всего верховую езду, и был не на шутку встревожен, когда она, своевольно смеясь и отшучиваясь, отказалась ему подчиниться. Он написал обо всем Равенелу, и тот приехал к ним в гости. Муж и отец вдвоем сумели ее урезонить; скачка верхом сменилась прогулками и работой в саду. И столько было теперь у Лили в запасе любви, что она, не скупясь, отдавала ее не только своим цветам, но и птицам и лошадям, собакам и кошкам. Колберн тут оказался незаменимым. Он очень любил животных, и слабых в первую очередь; так, например, любил кошек больше собак, потому что считал, что кошек все обижают и не умеют ценить по достоинству. У него были в детстве кошки (так он рассказывал), дружившие с ним сильнее, чем Давид с Ионафаном[123]123
По библейской легенде, молодой певец Давид и сын царя Саула Ионафан были неразлучными любящими друзьями;
[Закрыть] (женщины, добавлял он, не способны к такой привязанности). А их трехцветная кошечка, та просто зачахла от горя, когда его мать умерла. Его собственный кот, когда Колберн пошел на войну, пытался в последний момент забраться к нему в чемодан.
– Ручаюсь, – настаивал Колберн, – Том узнал, что я еду, и хотел быть вместе со мной.
Лили не спорила с ним. Чувство любви и в людях, и в бессловесных животных казалось ей очень естественным. Она постигала сейчас душой, что любовь – это все в жизни.
Кстати замечу, что привязанность Колберна к домашним зверькам коренилась в его натуре. Она шла от его сочувствия ко всем, кто был слаб и беспомощен, от его глубокой душевности. Он всегда опекал стариков и детей, бесконечно с ними возился, и они отвечали ему благодарной любовью. С другой стороны, к цветам, например, и вообще к неодушевленной природе, он был равнодушен. Ботаники не любил, удивлялся, когда узнавал, что кто-нибудь с ним несогласен, и утверждал, что она чужда человеческим судьбам. Геологию он трактовал по-иному, находил, что она как-то связана с ранним периодом жизни людей или, во всяком случае, с теми гигантскими переворотами в царстве природы, после которых люди явились на свет. Также и астрономия вызывала в нем интерес, ибо Колберн считал, что в будущем люди смогут совершать путешествия в межпланетном пространстве. И самой значительной для него звездой в небесах была та звезда из Плеяд, которая, как полагают, является центром и солнцем для всей остальной вселенной. Ведь вокруг этой звезды вращался весь его мир, включая и миссис Картер.
Это лето, наверное, было самым счастливым и в жизни полковника Картера. Отказавшись от выпивок, он был в отличной физической форме и до того сбавил в весе, что Лили даже расстроилась, считая, что он захворал. Колберну он постоянно советовал поскорее жениться, и они не раз обсуждали этот вопрос, правда, в отсутствие миссис Картер – стоило ей войти, и Колберн искал для беседы другие темы. Вообще же наш Телемак не уступал своему Ментору[124]124
В «Одиссее» Гомера юный Телемак, сын Одиссея и Пенелопы, путешествует в сопровождении мудрого руководителя и советчика Ментора.
[Закрыть] в похвалах преимуществам брачной жизни, а как теоретик оказывался даже сильнейшим.
– Я лично считаю, – философствовал Колберн, – что и мужчина и женщина, если взять их в отдельности, несовершенны и только в союзе друг с другом, в слиянии им дано обрести завершенность, которую Эмерсон[125]125
Эмерсон Ралф Уолдо (1803–1882) – американский философ, публицист и порт.
[Закрыть] именует округлостью круга. Влечение к такому союзу зовется любовью и воплощается в браке. Вспомним по этому случаю лошадь барона Мюнхгаузена. Когда ее рассекли пополам, и той и другой половине пришлось весьма худо, но обе вкусили блаженство, соединившись. Вот вам история каждого холостяка и незамужней девицы; порознь они неприкаянны, но сколь они счастливы, обретя наконец друг друга.
– Клянусь Юпитером, Колберн, вы настоящий философ, – откликался полковник. – Из вас может получиться писатель. Пока же вам следует претворить свои рассуждения в действие. Вспомним о миссис Ларю… Впрочем, нет, – прерывал он себя. – Эта дама вам не подходит. Поищем невесту получше.
В серьезной беседе Колберн был интереснее Картера; зато тот был сильнее в беспорядочной, легкой беседе в малознакомой компании; здесь светский опыт полковника и привычный апломб давали ему преимущество. Если Картер блистал в подобной компании, вы, конечно, могли быть уверены, что он успел пропустить пять или шесть стаканчиков; и равно могли быть спокойны, что он не проявит каких-либо признаков опьянения, пока не проглотит вторую такую же порцию, – у Картера была очень крепкая голова. Пускай мой читатель припомнит обед в профессорском доме Уайтвудов, вечер в новобостонской гостинице и пикник на другой день, когда Картер страдал от похмелья, – и перед ним встанет Картер во весь свой рост, душа общества и собеседник. Но если сюжет разговора требовал некоей учености, полковник смолкал и готов был внимать капитану с готовностью, повергавшей того в смущение. Как-то раз – беседа зашла о Порт-Гудзоне – Колберн заметил, что у римлян было в обычае, становясь на ночлег, укреплять свой бивак, причем один легион всегда стоял на часах, охраняя работавших воинов, а другой выдвигался вперед в боевой готовности и прикрывал фуражиров. Если полковник и знал в молодые годы такую премудрость, то, конечно, давно позабыл. И теперь он взирал на Колберна с очевидным восторгом, почитая его несомненно ученейшим мужем. То был не единственный случай, когда капитан-ополченец вынужден был убедиться, что кадровые офицеры мало что знают вне рамок своей непосредственной службы. Не все, разумеется, – Фелпс, например, бил философом, а Франклин образованным химиком,[126]126
Генерал Фелпс был образованным литератором. Генерал северных войск Уильям Франклин (1823–1903) был дипломированный инженер.
[Закрыть] – но как правило – средний армеец так же оторван от жизни и волнующих мир интересов, как какой-нибудь морской волк, пропадающий в океанах; и даже подход их к чисто военным вопросам зачастую был узко техничным.
Нельзя не отметить, что посреди этих услад и приятностей у Картера было также немало забот. Он тратил больше, чем следовало, и сколько ни думал об этом, не мог найти способа, как сократить свои траты и увеличить доходы. Насколько хватало, он обходился своим полковничьим жалованьем, а на прочее писал векселя. Он равнодушно внимал жалобам кредиторов (многие, полагаю, сочли бы полковника циником), но опасался при том, что придет некий час и ему откажут в кредите. Что тогда скажет Лили, которую он так балует?
ГЛАВА XXVI
Капитан Колберн описывает походную жизнь
Полистав пожелтевшие письма Колберна, я решил, что стоит поведать о некоторых повседневных событиях его боевой и походной жизни. Это чисто мужской сюжет, и, быть может, я развлеку немножко читателя после семейной идиллии, изложенной мной в предыдущей главе и попросту скучной для неженатого человека.
Штатскому трудно даже представить себе все неудобства и трудности, с которыми – хочешь не хочешь – должен мириться солдат. Я сейчас приведу кое-какие отрывки из писем Колберна и покажу, каково офицеру, который пока что не в лагере пленников в Андерсонвилле и не в казематах Либби, а просто в походе, при собственной части и в нормальных условиях.
«Должен сказать, что эти три дня на транспорте были из тяжелейших. Солдатам выдали полрациона, офицеры же, как вам известно, кормятся сами. Скоро четыре месяца, как нам ничего не платят, и, когда я взошел на палубу транспорта, у меня в кармане было ни много ни мало семьдесят пять центов. Взвесив все обстоятельства, я принял такое решение: обед самое главное; буду только обедать. Целый день я строго держался решения, но наутро проснулся голодный как волк, не стерпел, пошел и позавтракал. Обед я стоически пропустил и к вечеру снова был вне себя от зверского голода. Боюсь, что вам трудно будет представить мое состояние. Ну, что ж, я пошел, заказал ужин, и на том мои деньги кончились. Призанять было не у кого; все с пустыми карманами. Как назло, погода стояла отличная, и меня терзал превосходный, чисто морской аппетит. Я чувствовал себя невыносимо несчастным, думал лишь об одном, где бы схватить кусочек; и тут собрат офицер принес нам арбуз, сбереженный на крайний случай. Он благородно разрезал его на четыре части, и с четвертушкой арбуза я держался еще дольше суток. Когда наконец мы сошли на берег и мне было приказано выстроить полк, боюсь, что мою команду едва ли услышал хоть кто-нибудь, даже в самых первых рядах. Часа через два мой Генри притащил мне тушеного лука на блюдечке; ни мяса, ни хлеба; младенцу и то не хватило бы. Я проглотил этот лук, не спросив даже у Генри, ел ли он что-нибудь сам. Позорно, но факт. Вы, наверно, смеетесь, но тот день я запомнил как самый несчастный за все два года войны. Я страдал не так уж страшно, но зато был унижен, низведен до животного состояния, лишен даже тени геройства. Голодный как пес, я рычал на правительство и думал лишь об одном: надо бежать из армии. Голод гнетет тяжелее болезни, и молодой человек превращается в старую бабушку».
Как видно, подобные голодовки случались нередко. В другом письме Колберн сообщает, как целые сутки на марше кормился одним сухарем, а в третьем рассказывает, что около суток в Вирджинии питался зелеными яблоками. Впрочем, и тут он готов подчеркнуть не без горделивости, что лишения, как и опасности, закаляют солдата.
«Наши люди герои не только на поле сражения, – так пишет он. – Вот уже целых три месяца они – под открытым небом, часами под жгучим солнцем или под дождиком. Их жалят москиты, трясет малярия, терзает горячка; но они героически терпят все это и разве только досадуют, что нет табачку. Из четырехсот человек, которых мы привезли в эту гнилую дыру, Брешер-Сити, сорок уже в могиле и сто шестьдесят лежат на больничной койке. За милю от лагеря слышатся вопли больных, умирающих в тяжком бреду от тифозной горячки. А остальные – кожа да кости, желтолицые призраки в рваных мундирах – по первому же приказу, как один, выбираются из шалашей; ни малейшего ропота, ни одного дезертира. Представляю, как разбежались бы в разные стороны обитатели любой новоанглийской деревни, если бы у них за полтора месяца десятая часть населения вымерла бы от опасной болезни. Наши люди тоже оттуда, из Новой Англии, но дисциплина, страдания и воинский долг сделали их железными. Ноги у всех стерты до кровавых мозолей, но шагают они дружно. День проводят в бою, а ночь – всю на марше. Шагают, хотя каждый шаг для них – пытка. У тебя святая душа, рядовой солдат! Перед лицом страданий и смерти ранги стираются. Я твой командир, и я требую повиновения, но притом глубоко уважаю тебя».
Луизианская глина доставляет солдату не меньше хлопот, чем пресловутая священная почва Вирджинии.
«Это самая гнусная, липкая, тестообразная глина из всех, какие бывают на свете, – говорит Колберн. – Множество раз я видел, как солдат тревожно оглядывается, считая, что он потерял увязший в грязи башмак; ничуть не бывало, он просто оставил в грязи огромный ком глины, который тащил на ноге. Представьте, что вы путешествуете по стране из сырого теста».
«Дождь льет, как во дни потопа. Я, по редкому счастью, сегодня в палатке, но брезент весь прогнил, и гонимые ветром струйки дождя проникают внутрь. Канава вокруг палатки не вмещает потоков воды; излишек течет ко мне, образует немалую лужу, пробирается под постель. Что ж, пусть течет, одеяло у меня прорезиненное; разве что буду лежать в липкой грязи. А к ночи надеюсь переселиться в палатку с дощатым полом и вдвое просторнее. Так что, наверное, даже смогу сделать два-три шажка. Только пугает запах. Доски украдены в сахароварне и насквозь пропитаны патокой. Они, слава богу, уже не липнут, но запах премерзкий».
Впрочем, даже в походе армейская жизнь не обходится без пирушек. Колберн об этом рассказывает в своем новом письме.
«Палатку мою нагрели. Но едва я успел перебраться, как вдруг заявился собрат офицер, сильно под мухой, усмехнулся очень загадочно и сказал, что раз новоселье – надобно вспрыснуть. Отказаться нельзя, обидится, да и зачем мне отказываться? Он шлет к маркитанту за двумя бутылками красного, потом еще за двумя, угощает, но, главное, пьет – пьет, пока в силах пить. Наутро его нигде нет, говорят, что он спит и вряд ли проснется до вечера. Главная странность в том, что этот проспавший поверку и смотр забулдыга – один из храбрейших, исправнейших офицеров в полку и почти никогда не пьет; все, конечно, подсмеиваются над его грехопадением».
Другой раз Колберн описывает «дивизионный бал» случаю годовщины победы при Джорджия-Лэндинг.
«Не только те офицеры, что служили в старой бригаде, но решительно вся дивизия приглашена к генералу. Продовольственных складов поблизости нет, и нас угощают виски, мясными консервами и игрой полкового оркестра. К полуночи на четырехугольном плацу, окруженном штабными палатками, – дым коромыслом. По требованию собравшихся генерал произносит речь, первую речь в своей жизни. Посвящает ее главным образом недавним боям, говорит не так чтобы связно, но, в общем, толково (лично я стоял далеко и слушал только урывками). Когда он окончил речь, Том Перкинс, наш капельмейстер, пьяница и храбрец, заявил: «Генерал, я мало что слышал из вашей речи, но полностью с вами согласен…»
Вслед за этим чисто воинским выражением доверия все мы, в полном составе, от полковника до лейтенанта, трижды три раза прокричали «ура!» в честь генерала. После чего капитан Джонс из Десятого провозгласил: «А ну-ка, Десятый Баратарийский, крикнем трижды «ура» за наших товарищей, за всех, кто бился при Джорджия-Лэндинг и в прочих местах, за старый Семьдесят пятый Нью-йоркский!» Все ответили дружным «ура!» На что капитан Браун из Семьдесят пятого тотчас откликнулся: «Нас здесь осталось немного из старого Семьдесят пятого, но, сколько бы ни осталось, мы с честью ответим: «Трижды «ура» за Десятый Баратарийский!» Тут кто-то потребовал, чтобы выступил с речью полковник Смит, а другой заявил, что ждет речи от полковника Робинсона, а третий воззвал к красноречию полковника Джексона, после чего все три названных джентльмена принуждены были выступить. Никто не старался особенно вникнуть в то, что они говорили. Но все так вопили в ответ, словно шли в штыковую атаку. В самый разгар веселья центром внимания вдруг стал смуглолицый, гигантского роста молодой офицер, который был и пьянее других и неистовее. «Ван Зандта! Ван Зандта сюда!» – завопили все разом. Огромный Ван Зандт, осклабясь, словно хмельная гиена, и еле держась на ногах вступил в центр круга. Потом, словно готовя себя к часовой речи, жестом, достойным Уэллера-старшего[127]127
Тони Уэллер, отец Сэма Уэллера, – тучный кучер дилижанса в романе Диккенса «Посмертные записки Пиквикского клуба».
[Закрыть] в пору его наибольшей тучности, он скинул с себя шинель. После чего, подпираемый с двух сторон своими приятелями (он мне напомнил в этот момент пророка Моисея,[128]128
Моисей – по библейскому преданию, вождь иудеев, выведший их чудесным путем из египетского рабства. Аарон – брат и помощник Моисея.
[Закрыть] поддерживаемого Аароном и Гуром) и простирая к нам руки, Ван Зандт произнес следующее: «А ну, вон отсюда, чего вперед вылезли. Вон отсюда, чего вперед вылезли. Говорю вам… отсюда… вон!..»
Вернее всего, он хотел прогнать музыкантов и негров, которые, ставши в первом ряду, явно над ним посмеивались. Но Ван Зандт не успел разъяснить, что он имел в виду, потому что в эту минуту на него навалился какой-то другой пьяный, зычно взывавший о чем-то к полковнику Робинсону. Этот толчок как бы вывел Ван Зандта из состояния устойчивости, да так, что он тронулся с места, как сбитый с припоя айсберг, и вылетел вовсе из круга. Кто-то принес ему скинутую шинель и помог вновь залезть в рукава. Но тут он споткнулся о натянутый палаточный трос, повалился на землю и остался лежать, не в силах подняться и загадочно усмехаясь. Он не делал попыток возобновить свою речь, полагая, как видно, что успешно ее произнес. А позднее, поднявшись, направился прямиком к командиру дивизии и пытался ему втолковать, что Десятый полк надо срочно сделать кавалерийским. Вслед за ним к командиру дивизии явился Том Перкинс и стал со слезами трясти ему руку, приговаривая: «Генерал, дай пожму тебе руку».
Все словно спятили; понятие о воинском ранге и чине было забыто. Впрочем, наутро дисциплина была восстановлена и мы снова полны, как и раньше, почтения к нашему генералу».
Один из признанных дивертисментов армейской жизни – солдатские байки, и прежде всего неистребимое зубоскальство ирландцев.
«Эти ирландцы, – сообщает Колберн, – остроумнейшие ребята, надо только к ним попривыкнуть. От своих двадцати пяти Падди с того дня, что мы вышли в поход, я слышал больше смеха и шуток, чем от семидесяти американцев и десятка немцев в придачу. Чтобы вы поняли, как они шутят, я сейчас попытаюсь восстановить разговор, подслушанный на биваке после первого нашего боя. Убитых похоронили, раненых унесли в полевой госпиталь, часовые расставлены (и наверняка не уснут на посту – дует резкий октябрьский ветер), солдаты сидят у костров. Их одеяла, шинели и вещевые мешки остались в обозе за добрых три мили от нашего лагеря – и каково это людям, отшагавшим в тот день двадцать пять миль и после того, прямо с хода, разгромившим противника. Но ирландцы не падают духом, балагурят и дразнят один другого в своей обычной манере. Сейчас у них главный объект насмешек – некто Суини, маленький, сухощавый ирландец с удивительно странной осанкой (словно он еще не вполне научился стоять на ногах), причудливо сочетающий в себе разом простофилю и юмориста.
– Суини, – задирает его сосед, – ты должен храбрее сражаться. Все видели, как ты утром съел полтора пайка.
– Сколько дали, столько и съел, – отвечает Суини, возмущенный нежданным поклепом. – А ты отказался бы?
– Уж больно ты шустрый, Суини. Когда свистели снаряды, ты был посмирнее.
Суини пытается ловким маневром так повернуть разговор, чтобы насмешки достались другому.
– Кто был хорош в бою, это Микки Эммет – заявляет Суини. – Скрючился весь, как мартышка в седле, и такую прескверную рожу скорчил, что рядом цветочек завял. Ты славно покланялся этим снарядам, Микки.
Микки. Тут будь деревянным и то станешь кланяться. А Суини будто не кланялся?! Мотался взад и вперед, как сухая горошина на сковородке.
Суини. А для чего, скажи, мне ноги даны?
Сэлливен. Как, ты все еще дышишь, Суини? (Очень частая у наших ирландцев острота, которую я не вполне понимаю.)
Суини. Будь я твоим отцом, уже не дышал бы. Лучше в могиле лежать, чем мучиться с пьяницей-сыном.
Сэлливен. А ты приметил, Суини, кривого мятежника? Это он на тебя раз взглянул – и глаза лишился.
Суини. Ему дьявольски повезло, что он нас вдвоем не увидел.
Американец. Ирландцы, хватит вопить. Дайте поспать человеку. Точно коты на крыше!
Сэлливен. Заткнись! Эх, набрать бы чисто ирландскую роту. Капитан был бы рад.
Тохи. Экий холод, ребята! Все равно не заснешь. Ни тебе одеяла, ни бабы под боком.
Суини. Если кто станет меня другой раз вербовать в армию, я ему башку оторву.
Сэлливен. Ростом не вышел, Суини. До башки не дотянешься.
Суини. А я ему дам подножку и сравняюсь с ним в росте.
И так они зубоскалят до двух часов ночи, когда я наконец начинаю дремать».
Приблудная собачонка – тоже событие в монотонной, как пустыня Сахара, походной жизни.
«Вот единственное, о чем я могу вам сообщить, – пишет Колберн. – Ко мне заявился бесхвостый песик и самовольно объявил себя членом моей семьи. Его благосклонность объясняется, видимо, тем, что у него нет другого выбора. Стоит теперь мне оставить палатку на минуту открытой, и я нахожу его всякий раз у себя под койкой. Поскольку вилять ему нечем, он выражает свою любовь ко мне другими доступными средствами. Например, заслышав мой голос, тотчас ложится вверх брюхом и глядит на меня с непередаваемой кротостью. По своей совершенной бесхвостости он не имеет равных. Хвост у него ампутирован до основания. Я удивлен, что он еще жив после такой операции. Но по какой-то, как видно, таинственной связи хвостовых и голосовых связок бедняга лишился голоса. Он не лает, не тявкает и не рычит. Я часто гадаю, при каких обстоятельствах он мог, потерять свой хвост? Отстрелили, быть может, в сражении, или кто откусил, или кто оторвал, или песик бежал с такой прытью, что хвост не поспел за ним, отстал, заблудился? И, возможно, теперь этот хвост зажил сам по себе, не нуждаясь в своем хозяине; состоит где-нибудь на действительной службе, обучает других вилянию или даже повышен в звании и назначен львиным хвостом? Или вознесся на небо в собачий рай и там, может статься, виляет в ангельском чине? Да позволено будет сострить: я нахожу, что для армейской собаки вполне натурально, если ее авангард оторвался от тыла. В случае если объявится хозяин этой собаки, я скажу ему так: «Сударь, берите немедленно вашего пса. Он мне задаром не нужен, и я ему, кажется, тоже». Но пока что бесхвостый пес здесь. Я не могу избавиться также от Генри, а польза от них обоих примерно одна и та же. Иногда я гадаю: какова будет в общем и целом потеря для человечества, если бесхитростный песик и Генри оба исчезнут совсем с нашей планеты? Исчислить эту потерю я не берусь, поскольку не изучал бесконечно малые числа».
«А вообще говоря, – заключает Колберн, – мы здесь умираем от скуки. Охота запрещена, потому что случайные выстрелы могут дать повод к ложной тревоге. Однажды я тут подстрелил аллигатора; мы проводили учения в четырех милях от лагеря, остались без провианта и целые сутки питались крокодилятиной. Есть можно, но – прямо скажу – блюдо не для гурманов: сильный мускусный запах и мясо прежесткое – не прожуешь, как будто он проторчал в своей шкуре не менее тысячи лет. Кстати, замечу, что пуля «минье» отлично его дырявит. Ни псовой охоты, ни скачек с препятствиями, ни бокса, ни состязаний в борьбе или в гребле, всего, что так принято у офицеров английской армии, у нас, как вы знаете, нет. Редко-редко когда удается устроить конные состязания, а чаще всего мы просто режемся в юкр. Шагистика не развлекает, как было когда-то, и стала тоскливой обузой. Разговоры по большей части пустые и скучные; разве только завяжется спор на военную тему или еще вдруг найдется какой шутник. С местными жителями мы не встречаемся; я уже целую вечность не беседовал с дамой. Книг нигде нет, а таскать их с собой невозможно – в офицерский мешок еле влезает самое нужное. И если уж быть откровенным, не тянет читать да и думать не хочется, разве лишь на сугубо военные темы. Собратья мои офицеры – толковые, храбрые и, в общем, разумные люди, но кафедры в Уинслоуском университете им не занять. Они из народа, но ведь и война ведется в интересах народа и против аристократов. Когда я впервые привел свою роту в полковой лагерь, – а было тогда у меня всего восемнадцать бойцов, – они сразу приметили во мне барчука и называли меня и моих солдат не иначе, как «десять тысяч господ». Сейчас эти мелочи позабыты, и первый в бригаде тот, кто крепок на марше, славно дерется и браво командует. В армии штатские доблести недействительны, ими некому здесь восхищаться. Вас уважают за офицерское звание и за боевые заслуги; все остальное не в счет».
С истинно воинской гордостью Колберн снова и снова восхваляет свой полк:
«Дисциплина у нас в Десятом отличная, – пишет он, – не бунтуют, не дезертируют, даже мало ворчат. Если спросить солдата, доволен ли он своей службой, возможно, он скажет вам «нет», но судить о его настроении по этим словам не всегда будет правильно. Важно сперва узнать, как он несет службу. Какой-нибудь старый ворчун-матрос постоянно бубнит в кубрике, но при деле, на палубе, ест глазами начальство, всегда на посту, выполняет свой долг. Так и наши солдаты: послушать их – все недовольны, но ни один не бежит из полка, и очень редко кто просится в тыл по состоянию здоровья».