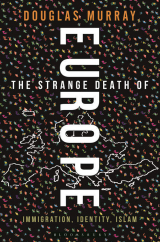
Текст книги "Странная смерть Европы. Иммиграция, идентичность, ислам (ЛП)"
Автор книги: Дуглас Мюррей
Жанры:
Публицистика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 23 страниц)
Ярость, с которой обсуждались такие базовые требования, напоминала о том, что в послевоенные годы абсолютно ничего из этого не планировалось. Это была лишь последняя часть процесса «придумывания по ходу дела». И это означало, что даже используемые термины постоянно менялись. Как отметил историк и критик мультикультурализма Руми Хасан в своей книге, опубликованной в это время, одним из подтверждений этого факта стали различные фазы послевоенной иммиграции в Британии. На первом этапе (с 1940-х по 1970-е годы) небелых переселенцев из стран Содружества называли «цветными иммигрантами» и считали отличными от остального общества. Затем в 1970-х и 1980-х годах, отчасти в попытке побороть дискриминацию, эти люди стали «черными британцами» и стали рассматриваться как нормальные и равноправные граждане. Вскоре после этого страна стала характеризоваться как «мультикультурное» общество в том смысле, что в ней живут представители разных культур. Как говорит Хасан, «многорасовое» или «многоэтническое» общество было бы лучшим описанием, но дискредитация идеи «расы» к тому времени означала, что «мультикультурализм» казался лучшим из предложенных терминов. Однако если его целью было объединение людей под единым национальным зонтиком, то в итоге новое определение дало обратный эффект. Вместо того чтобы привести к единой идентичности, оно привело к дроблению идентичностей, где вместо того, чтобы сделать общество слепым в отношении цвета кожи или идентичности, оно внезапно превратило идентичность во все.
В общество пришла версия политики «свиных бочек». Появились организации и группы по интересам, претендующие на то, чтобы представлять и говорить от имени всевозможных групп идентичности. Амбициозные, как правило, самоназначенные фигуры, претендовавшие на эти роли, становились посредниками между властью и конкретным сообществом. Не только они извлекали выгоду из такого подхода. Местные и национальные политики также могли получить выгоду от процесса, который значительно облегчал им жизнь, создавая впечатление, что можно снять трубку телефона и получить конкретное сообщество. Конечно, выступая на стороне конкретной общины, можно было получить голоса этой якобы монолитной общины, и в некоторых случаях общины это сделали.
Местные советы и другие организации неизбежно направляли деньги определенным этническим и религиозным группам. И хотя некоторые из них делали это, чтобы получить голоса избирателей, некоторые из них также делали это по более благородным причинам, не в последнюю очередь из-за искреннего желания бороться с существующей дискриминацией. Однако даже «антирасистские» группы, как правило, выходили в своей политической деятельности за пределы тех областей, которые они изначально ставили перед собой. Те группы, которые стремились со временем бороться с фактической дискриминацией, стремились к увеличению влияния, доступа и финансирования. При этом они понимали, что могут получить их только в том случае, если проблема не будет решена. Со временем это привело к тому, что дискриминация стала казаться еще хуже – и с ней нужно было бороться еще активнее – как раз в те моменты, когда ситуация улучшалась. Жалобы на общество открывали возможности для роста. Удовлетворение стало умирающим бизнесом.
В то же время единственной культурой, которую нельзя было праздновать, была та, которая позволила всем этим другим культурам быть празднованными в первую очередь. Для того чтобы стать мультикультурными, страны обнаружили, что они должны сделать себя хуже, особенно сосредоточившись на своих негативных сторонах. Так, государства, которые были настолько открыты и либеральны, что допускали и поощряли масштабную миграцию, стали изображаться как страны, отличающиеся исключительным расизмом. И если в Европе можно было праздновать любые другие культуры мира, то в Европе стало подозрительно праздновать даже то хорошее, что есть в Европе. Эпоха мультикультурализма стала эпохой европейского самоотречения, когда принимающее общество, казалось, отстранялось от самого себя и надеялось, что его не заметят иначе, чем в качестве некоего благожелательного организатора. Именно по этой причине, в частности, знаменитый американский политический философ Сэмюэл Хантингтон написал в своей последней книге: «Мультикультурализм по своей сути является антиевропейской цивилизацией. По сути, это антизападная идеология».[74]74
Сэмюэл П. Хантингтон, «Кто мы?», Свободная пресса, стр. 171.
[Закрыть]
В каждой европейской стране период, когда об этом ничего нельзя было сказать, разрушался с разной скоростью в течение одного и того же времени. В Соединенном Королевстве работа кванго «Расовые отношения» помогала держать это под контролем до лета 2001 года. В этот момент, отчасти в результате беспорядков на севере Англии с участием молодых мусульман, а отчасти из-за событий в Нью-Йорке и Вашингтоне, существование параллельных сообществ стало обсуждаться более широко, а концепция «мультикультурализма» стала подвергаться критике. В Голландии плотины прорвало немного раньше. Во Франции они оставались герметичными вплоть до беспорядков в Банлье в 2005 году. В Германии и Швеции процесс затянулся. Но в 2000-х годах диссиденты от мультикультурного консенсуса начали прорываться повсюду.
Некоторые из тех, кто нарушил этот консенсус, были левыми политиками. Их отступничество имело особое значение, поскольку если от правых политиков и комментаторов почти ожидали проблем с мультикультурализмом и их всегда можно было заподозрить в нативистских наклонностях, то левые, как правило, имели менее легкоуязвимые мотивы, и им можно было даже верить. Тем не менее, наиболее освободительные выступления (не в последнюю очередь потому, что они давали возможность высказаться другим людям) исходили от европейских граждан из этнической среды. В Великобритании медленное отступничество от индустрии расовых отношений одного из ее бывших лидеров, Тревора Филлипса, открыло территорию, на которую другие не решались ступить. Его осознание того, что индустрия расовых отношений является частью проблемы и что отчасти из-за разговоров о различиях страна «ходит во сне к сегрегации», стало прозрением, которое вскоре начали разделять другие на континенте. Среди других диссидентов от мультикультурализма, появившихся в то же десятилетие, некоторые вошли в политику, а другие остались за ее пределами в качестве формирователей общественного мнения. Но появление в 2000-х годах на сайте, среди прочих, Ахмеда Абуталеба и Айаан Хирси Али в Голландии, Ньямко Сабуни в Швеции, Насера Хадера в Дании и Магди Аллама в Италии оказало ощутимое освобождающее воздействие. Все они выступали из своих общин в странах, которые нуждались в людях с подобным происхождением, чтобы сломать лед. Им удалось сделать это с разной степенью успеха.
В каждой стране первые критические замечания касались одних и тех же вопросов. Самые экстремальные и неприемлемые практики некоторых сообществ стали первым способом расколоть господствующую ортодоксию. В каждой стране вопросы убийств «во имя чести» и калечащих операций на женских половых органах привлекли огромное внимание. Отчасти это было связано с тем, что многие люди были искренне шокированы тем, что такое происходит, и боялись сказать об этом, если бы знали об этом раньше. Отчасти это было связано с тем, что эти вопросы были самыми «мягкими» или легкими для выражения опасений по поводу мультикультурной эпохи. Эти вопросы если и не вызывали полного неприятия, то, по крайней мере, были способны объединить мнения представителей самого широкого политического спектра: от левых феминисток до правых националистов. Почти все могли согласиться с тем, что убийство молодых женщин – это неправильно. И большинство людей могли бы объединиться, выразив свой ужас при мысли о том, что в Европе XXI века гениталии молодой девушки могут быть изуродованы.
В течение 2000-х годов критика таких крайних примеров мультикультурализма в европейском обществе нарастала. Повсюду вопросы, над которыми размышляли европейцы, концентрировались вокруг границ толерантности. Должны ли либеральные общества терпеть нетерпимых? Или наступил момент, когда даже самое толерантное общество должно сказать «хватит»? Не были ли наши общества слишком либеральными и не позволили ли они процветать нелиберализму или антилиберализму? Примерно в это время, как отмечает Руми Хасан, эра мультикультурализма незаметно превратилась в эру «мультиконфессионализма». Этническая идентичность, которая ранее была в центре внимания дебатов о мультикультурализме, начала отходить на второй план, и вместо нее решающим вопросом стала конфессиональная идентичность, которая, как казалось многим, взялась из ниоткуда. То, что раньше было вопросом чернокожих, карибцев или североафриканцев, теперь стало вопросом мусульман и ислама.
Как и в предыдущие периоды послевоенных перемен, процесс преодоления этого периода не был одномоментным. Европейским правительствам потребовались десятилетия, чтобы осознать, что эпоха гастарбайтеров прошла не так, как планировалось. Точно так же европейским правительствам потребовалось время, чтобы осознать, что если мигранты остаются в принятой ими стране, то им необходимы законы, защищающие их от дискриминации. Периоду мультикультурализма также потребовалось несколько десятилетий, чтобы выгореть. Но, как и в предыдущих случаях, даже когда его смерть была признана, а в данном случае объявлена, было неясно, что все это значит и что может прийти ему на смену.
Основная культура?
Одним из немногих, кто уже успел подумать об этом, был Бассам Тиби. Академик, который сам переехал в Германию из Сирии в 1962 году, в течение многих лет призывал к интеграции общин меньшинств в Германии. В изначально обескураживающей атмосфере он также разработал конкретную концепцию того, как это сделать. Европейские страны, по его мнению, должны перейти от политики мультикультурализма к политике лейткультуры или «основной культуры». Эта концепция, впервые выдвинутая им в 1990-х годах, утверждала необходимость создания мультиэтнического общества, которое охватывало бы людей разного происхождения, но объединяло бы их вокруг набора общих тем.[75]75
В своем эссе 1996 года «Multikultureller Werte-Relativismus und Werte-Verlust».
[Закрыть] Как и джаз, он может работать, если каждый знает тему, вокруг которой он риффует. Но это не могло бы сработать, если бы тема была неизвестна, забыта или потеряна. В такой ситуации общество не только не сможет держаться вместе, но и будет представлять собой какофонию. Это была одна из первых попыток представить решение европейской мультикультурной проблемы, в частности, вопрос о том, как объединить людей столь разрозненного происхождения, какие сейчас существуют в Европе. Самый простой ответ заключался в том, что их должна объединять не обязательно приверженность к одному и тому же наследию, но, по крайней мере, единая вера в основные концепции современного либерального государства, такие как верховенство закона, отделение церкви от государства и права человека. Однако даже в то время, когда несколько деятелей, таких как Тиби, осмысливали эту эпоху, большая часть остального общества была вынуждена просто пережить ее. Если и была болезненная медлительность в поисках путей преодоления, то, по крайней мере, отчасти из-за ряда постоянных и болезненных когнитивных диссонансов.
Когда Европа поняла, что иммигранты останутся, у нее возникли две совершенно противоречивые идеи, которые, тем не менее, смогли ужиться на протяжении нескольких десятилетий. Первая – это идея, которую европейцы начали внушать себе начиная с 1970-х и 1980-х годов. Это была идея о том, что европейские страны могут стать новым типом мультирасового, мультикультурного общества, в которое может приехать и поселиться любой человек из любой точки мира, если он того пожелает. Эта идея не получила общественной поддержки, но имела определенную поддержку элиты, и, что самое главное, ее двигала неспособность любого правительства повернуть вспять процесс массовой миграции, как только он начался. Во время первых волн миграции (и, конечно, когда предполагалось, что многие иммигранты, по крайней мере, в какой-то момент все равно вернутся домой) мало кто возражал, если новоприбывшим не удавалось ассимилироваться. Более того, они редко хотели этого.
В той или иной степени в каждой стране новоприбывшие самостоятельно расселялись по городам и пригородам, как правило, в местах, где они могли работать. Даже когда работы не было, приезжие из тех же общин стремились переехать в районы, где жили другие люди их происхождения. Если их не всегда поощряли к этому, то уж точно мало кто препятствовал этому. Впоследствии в сегрегации обвинили правительство, но многие иммигранты сами себя сегрегационировали из вполне понятного желания сохранить свою культуру и обычаи в обществе, которое не имело с ними ничего общего.
Когда люди поняли, что приезжие никуда не собираются уезжать, у местных жителей также возникло определенное сопротивление их присутствию, и любое предложение о том, что мигранты должны изменить свой образ жизни, неизбежно вызывало ассоциации. Если иммигранты собирались остаться, то нужно было сделать так, чтобы они чувствовали себя как дома. Для этого необходимо было сделать целый ряд вещей. Но абстрактные вещи делать было легче, чем практические. К числу абстрактных вещей относились явные усилия по адаптации или изменению истории принимающей страны. Иногда это было просто переписыванием истории или изменением ее акцентов. В других случаях это выглядело как активное принижение истории.
Одна из таких попыток, предпринятая президентом Вульфом, заключалась в том, чтобы превозносить любой аспект неевропейской культуры, чтобы поднять ее на уровень, по крайней мере, равный европейскому. Так, например, чем чаще происходили исламские теракты, тем больше возвеличивалось влияние исламских неоплатоников и подчеркивалось значение исламской науки. За десятилетие после этих терактов правление мусульманского Кордовского халифата в Андалусии (южная Испания) в VIII–XI веках из исторической безвестности превратилось в великий образец толерантности и мультикультурного сосуществования. Это само по себе требовало тщательной новой версии истории, но прошлое придумывалось для того, чтобы дать надежду настоящему.
Такие аспекты исламской культуры вскоре стали почти непосильным бременем. Выставка под названием «1001 исламское изобретение» посетила в том числе и лондонский Музей науки, настаивая на том, что почти все в западной цивилизации на самом деле возникло в исламском мире. Несмотря на аисторичность таких утверждений, они приобрели ауру веры. Люди приняли их за истину и перестали оспаривать все подобные утверждения. Стало не просто вежливостью, а необходимостью подчеркивать и даже чрезмерно подчеркивать, сколь многим европейская культура обязана культурам наиболее проблемных сообществ. Когда в 2008 году французский ученый-медиевист Сильвен Гугенхейм опубликовал эссе, в котором утверждал, что тексты из Древней Греции, о которых часто говорят, что их спасли арабские мусульмане, не знавшие греческого языка, на самом деле были сохранены сирийскими христианами, дебаты стали острой политической темой. Общественные петиции и письма осуждали Гугенхейма за его «исламофобию», когда он пришел к такому выводу. Немногие другие ученые даже высказались в поддержку его права говорить о том, что показывают представленные им доказательства. Если отбросить трусость, это была лишь одна из демонстраций насущной необходимости – как и аргумент «мы всегда были нацией иммигрантов», который был принят в то же время, – изменить довольно монокультурное прошлое Европы, чтобы оно соответствовало ее очень мультикультурному настоящему.
В то же время находились люди, которые доводили эти методы до крайности. Ведь еще один способ попытаться установить равные позиции между приходящими культурами и принимающей культурой – это принизить принимающую культуру. Один из печально известных и громких примеров этого – выступление министра интеграции Швеции Моны Сахлин в курдской мечети в 2004 году. Социал-демократический министр (которая по этому случаю надела вуаль) заявила своей аудитории, что многие шведы завидуют им, потому что у курдов богатая и объединяющая культура и история, в то время как у шведов есть только глупости вроде праздника летней ночи.[76]76
Цитируется в статье Карен Йесперсен в газете Berlingske Tidende, 19 февраля 2005 г.
[Закрыть] Другой способ добиться того же эффекта – настаивать на том, что европейской культуры, по сути, не существует. В 2005 году один журналист спросил парламентского секретаря шведского правительства и ведущего чиновника по вопросам интеграции Лисе Берг, стоит ли сохранять шведскую культуру. Она ответила: «А что такое шведская культура? И этим, я думаю, я ответила на вопрос».[77]77
Hege Storhaug, But the Greatest of These is Freedom (первоначально опубликовано на норвежском языке издательством Kagge Forlag, 2006), 2011 pp. 282-3.
[Закрыть]
Вряд ли можно винить одних только иммигрантов в возникшей путанице этой эпохи. Именно европейские общества, впустившие их в страну, не знали, как относиться к ним, когда они здесь окажутся. То, что политическим лидерам Франции, Германии и Великобритании (среди прочих) потребовалось шесть десятилетий иммиграции, чтобы заявить, что иммигранты должны говорить на языке страны, в которой они находятся, свидетельствует о наличии проблемы. Всего несколькими годами ранее такое требование было бы – и было – атаковано как «расистское». То, что канцлеру Германии потребовалось время до 2010 года, чтобы настоять на том, что мигранты должны следовать закону страны и Конституции Германии, указывает на провал Германии не в меньшей степени, чем на провал иммигрантов. Опять же, всего несколькими годами ранее любой, кто выступил бы с подобным призывом, подвергся бы обвинениям в самых низменных мотивах. Но в годы, предшествовавшие объявлению о завершении эры мультикультурализма, и до того, как политическая почва пришла в движение, было так много путаницы.
Вопрос о том, должны ли иммигранты ассимилироваться или их следует поощрять к сохранению собственной культуры, был лишь одной из путаниц. Если, как согласилось к 2011 году большинство политиков мейнстрима, ожидается нечто среднее между этими двумя вариантами, то какие частицы культуры иммигрантов должны быть отброшены, а какие частицы родной культуры должны быть адаптированы? Предположительно, одной из причин отсутствия публичных дискуссий по этому вопросу было осознание того, насколько болезненным это будет для большинства европейцев. От каких частей своей собственной культуры они добровольно отказались бы? Какую награду они получили бы взамен и когда бы они ощутили эффект от этой награды? Разумеется, такая идея никогда не была принята общественностью, потому что европейская общественность почти наверняка никогда бы не дала своего согласия. Однако в основе лежат еще более худшие предположения.
Если принимающая страна не собиралась от чего-то отказываться, то, конечно, это должны были сделать приезжие? Но что это были за условия, и кто их вообще сформулировал? И каковы наказания за их несоблюдение. Например, что будет с мигрантами, которые, оказавшись в Европе, откажутся учить родной язык? Если не было наказания или стимула, то любое подобное предложение оставалось не более чем словами. Все это время также было неясно, сколько иммигрантов просто хотят пользоваться своими правами в Европе, а сколько – стать европейцами. В чем разница между ними и каковы стимулы быть одним, а не другим? Действительно ли европейцы хотели, чтобы приезжие стали такими же, как они?
Все это время официальная линия оставалась таковой: как только выдается паспорт или виза, новоприбывший житель страны или континента становится таким же европейцем, как и все остальные. И все это время, пока правительства обсуждали возможные меры, необходимые для того, чтобы побудить миллионы людей, уже живущих в Европе, стать европейцами, в умах европейской общественности муссировалась другая идея – обычно отодвигаемая в самые глубины общественных дебатов, но всегда способная вырваться наружу.
Это был страх, что все это фикция и что если не все, то, по крайней мере, большая часть существующего плана провалится. Это было опасение, основанное на мысли, что если интеграция и произойдет, то на это уйдет очень много времени – возможно, столетия – и что в любом случае в Европе она еще не произошла. Здесь повседневный опыт европейцев важнее любых опросов, а опыт их глаз важнее официальной статистики любого правительства.
Великая замена
Любая поездка в тысячи мест по всей Европе может вызвать страх перед тем, что французский писатель и философ Рено Камю назвал «Великим перемещением». Возьмем, к примеру, пригород Сен-Дени на северной окраине Парижа. Это одно из центральных мест французской истории и культуры, названное так в честь великого собора-базилики в его центре, в котором покоятся мощи парижского епископа третьего века, являющегося сегодня святым покровителем города. Нынешнее здание, датируемое двенадцатым веком, знаменито и по другой причине. Начиная с шестого века здесь находился некрополь французской королевской семьи. Среди их мемориалов, выполненных в камне в виде искусно выполненных изображений, есть мемориалы династии Капетингов, Бурбонов, Медичи и Меровингов. Во времена Французской революции эти гробницы были осквернены, но сегодня в крипте покоятся мраморные гробницы короля и королевы, которых свергла революция: Людовика XVI и Марии-Антуанетты.
Среди ранних гробниц в Сен-Дени не последнее место занимает гробница Карла Мартела, франкского лидера, который спустя столетие после смерти Мухаммеда, когда халифат Омейядов неумолимо наступал на Европу, заставил мусульманские армии отступить. Победа Мартеля в битве при Туре в 732 году признана тем, что она предотвратила распространение ислама по всей Европе. Если бы его франкские войска не добились успеха, ни одна другая держава в Европе не смогла бы остановить мусульманские армии от завоевания континента. Когда в 711 году эти армии пересекли Европу, один из их предводителей, Тарик бин Зайад, приказал сжечь их лодки, заявив: «Мы пришли сюда не для того, чтобы вернуться. Либо мы завоюем и утвердимся, либо погибнем». Мартель позаботился о том, чтобы они погибли, а ислам, закрепившись на юге Испании, никогда не продвинулся дальше в Европу. Как знаменито писал Эдвард Гиббон тысячелетие спустя, если бы не победа человека, получившего прозвище «Молот»: «Возможно, толкование Корана преподавалось бы сейчас в школах Оксфорда, а с ее кафедр обрезанному народу доказывали бы святость и истинность откровения Мухаммеда». Как продолжал Гиббон, «от подобных бедствий христианство было избавлено гением и удачей одного человека».[78]78
Эдвард Гиббон, Упадок и падение Римской империи, Джон Мюррей, 1855, т. 6, гл. 52, с. 387.
[Закрыть]
Сегодня посетитель базилики, в которой находится гробница Мартеля, вполне может задаться вопросом, действительно ли он преуспел, или, по крайней мере, задуматься о том, что после того, как он преуспел, его потомки потерпели неудачу. Если сегодня побродить по району Сен-Дени, то можно увидеть район, больше напоминающий Северную Африку, чем Францию. Рыночная площадь перед базиликой – это скорее базар, чем рынок. Здесь продаются хиджабы разных фасонов, а радикальные группировки раздают литературу, направленную против государства. Внутри, хотя все священнослужители – пожилые белые мужчины, остальная часть прихожан – чернокожие африканцы, часть волны немусульманской иммиграции в этот район из Мартиники и Гваделупы.
В этом районе проживает одно из самых высоких во Франции мусульманское население. Около 30 % населения Сена-Сен-Дени, также известного как 93-й округ, составляют мусульмане. Не более 15 процентов – католики. Но поскольку большинство иммигрантов в этом районе – выходцы из стран Магриба и Африки к югу от Сахары, а также растущее число молодежи, неудивительно, что даже в частных католических школах района около 70 процентов учеников – мусульмане. В то же время еврейское население района за последние годы сократилось вдвое. По данным Министерства внутренних дел, в округе находится около 10 процентов (230) от общего числа известных мечетей во Франции. Если посетить их, то можно убедиться, что для нужд общины их явно недостаточно. Во время пятничных молитв верующие выходят на улицы, и некоторые крупные мечети с трудом пытаются создать более просторные помещения, чтобы удовлетворить спрос.
Конечно, если вы скажете о Сен-Дени кому-нибудь в центре Парижа, то они сморщатся. Они знают, что он там есть, но стараются никогда туда не ходить. За исключением стадиона «Стад де Франс», в этом районе практически нет причин для посещения. Израненный волнами деиндустриализации и реиндустриализации, в последние годы правительство попыталось провести социальную инженерию, построив в этом районе муниципальные офисы для работы государственных служащих. Но эти служащие (около 50 000 человек), имеющие работу в этом районе, почти никогда там не живут. Они приезжают из других мест утром и уезжают вечером, когда их офисные здания тщательно запираются и ограждаются заборами. Это проблема иммиграции во Франции, выраженная в одном районе.
То же самое можно наблюдать в пригородах Марселя и во многих других районах Франции. Но его может заметить и любой приезжий или житель, не желающий ехать в Сен-Дени, во время простой поездки на RER и Métro в центре Парижа. Путешествие по глубокому метро RER, с редкими остановками и большими расстояниями между ними, часто напоминает поездку на подземном поезде в африканском городе. Большинство людей – чернокожие, и они добираются далеко до пригородов. Места, где останавливается RER в шикарных центрах Парижа – например, Шатле, – известны как районы, где могут возникнуть проблемы, особенно вечером, когда скучающая молодежь из баньле околачивается в городе. В памяти навсегда остались воспоминания о 2005 годе, когда беспорядки и поджоги автомобилей в баньлеях повторялись вплоть до центра, до района Марэ.
Однако если вы едете в поезде Métro, который находится над линиями RER и обслуживает более короткие остановки в центре города, вы попадаете в другой мир. В Métro едут в основном белые люди, направляющиеся на работу, в то время как RER в основном заполнен людьми, которые едут только на низкооплачиваемую работу в сфере обслуживания или кажутся никуда не направляющимися. Никто не может испытать это ощущение легкой воздушности в центре Парижа и глубокого скопления других людей под ним и не почувствовать, что здесь что-то не так. То же самое ощущение может возникнуть у любого, кто путешествует по некоторым городам на севере Англии или по районам Роттердама и Амстердама. Сегодня его можно испытать и в пригородах Стокгольма и Мальме. Это места, где живут иммигранты, но они не имеют никакого сходства с районами, где живут местные жители. Политики делают вид, что эту проблему можно решить с помощью более элегантного или инновационного градостроительства или с помощью особенно талантливого министра жилищного строительства. С 2015 года им пришлось продолжать делать вид, что это так, в столичных городах, некоторые районы которых стали напоминать лагеря беженцев. Хотя полиция постоянно пыталась отселить мигрантов, чтобы город выглядел так, как он должен выглядеть, в Париже в 2016 году огромные лагеря мужчин-североафриканцев перемещались по пригородам. В таких местах, как район Сталинград в девятнадцатом округе Парижа, сотни палаток были установлены на островках вдоль главных дорог или на обочинах тротуаров. Когда полиция убирала их, они просто появлялись в другом месте. Но еще до 2015 года теории так называемых экспертов и политиков о том, что может произойти или должно произойти, чтобы облегчить эту постоянную проблему, просто столкнулись с опытом того, что на самом деле происходит на их глазах.
Повседневное осознание этой проблемы, а также понимание того, что она остается практически невысказанной, заставляет многих европейцев размышлять над другой мрачной проблемой. Она заключается в том, что, видя такое большое количество людей и видя, как они живут своей очень разной жизнью, может случиться так, что в будущем эти люди станут доминировать – что, например, сильная религиозная культура, попав в слабую и релятивистскую культуру, сначала будет держаться в тени, но в конце концов даст о себе знать более определенными способами. Опять же, исследования и опросы не слишком полезны для того, чтобы определить это ощущение надвигающихся перемен. Время от времени опросы используются для того, чтобы «доказать», что иммигрантские общины интегрированы в существующее общество. Но если бы интеграция, о которой говорят политики и некоторые опросники, произошла на самом деле, то мы бы наблюдали совсем другую реальность. Например, в тех районах Соединенного Королевства, куда в большом количестве съехались пакистанские и другие мусульманские мигранты, очень часто закрываются пабы. Если бы новоприбывшие становились «такими же британцами, как и все остальные» – на чем настаивают правительственные министры и другие, – то пабы оставались бы открытыми, а новоприбывшие пили бы теплое пиво, как и все остальные, кто жил на этой улице до них. То же самое происходит и с церквями. Если бы приезжие действительно стали «такими же британцами, как и все остальные», то они бы не ходили в церковь по воскресеньям, а посещали бы ее на свадьбы, изредка на крестины и, скорее всего, только раз в год на Рождество. Но на деле все оказалось совсем не так. Церкви закрылись, как и пабы, и эти здания пришлось использовать в других целях.
Хотя по-прежнему делается вид, что приехавшие мечетисты и трезвенники представляют собой плавную передачу местных традиций, с таких видимых аспектов идентичности очевидно, что результаты будут очень разными. И с причинами, которые лежат в основе таких различий, справиться сложнее всего. Та же история и то же молчание могут быть применены к турецким и североафриканским пригородам Амстердама, пригородам Брюсселя, таким как Моленбик, районам Берлина, таким как Веддинг и Нойкёльн, и любому другому числу городов на континенте. В каждом случае цена, которую пришлось заплатить местным жителям за не самое позитивное отношение к приезду в их города сотен тысяч представителей другой культуры, была слишком высока. Целые карьеры не только в политике, но и в любой сфере жизни могли быть разрушены любым признанием новых фактов, не говоря уже о любом их изменении. Поэтому единственное, что оставалось делать людям – местным жителям, чиновникам или политикам, – это игнорировать проблему и лгать о ней.
Со временем и политики, и общественность стали отдавать предпочтение заведомо оптимистичной версии событий. Таким образом, незначительная или несущественная культурная особенность – например, очереди или жалобы на погоду в Британии – была подхвачена и использована. Тот факт, что конкретному иммигранту нравится стоять в очередях или говорить о погоде, будет использоваться как демонстрация того, что этот иммигрант – и, соответственно, все иммигранты – стали такими же интегрированными, как и все остальные. После того как террористы-смертники, совершившие нападения на лондонский транспорт в июле 2005 года, были идентифицированы как мусульмане британского происхождения, выяснилось, что один из них работал в магазине рыбы и чипсов и играл в крикет. Об этом много говорили, как будто главной загадкой оставалось то, что этот совершенно английский человек был захвачен страшной ненавистью. Идея о том, что целая культура была передана ему через рыбу и чипсы, была способом отсрочить неприятные дискуссии, которые лежали в основе.








