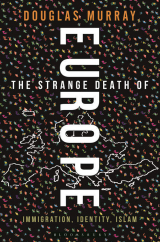
Текст книги "Странная смерть Европы. Иммиграция, идентичность, ислам (ЛП)"
Автор книги: Дуглас Мюррей
Жанры:
Публицистика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 23 страниц)
Летом 2016 года, находясь в Швеции, я побывал на региональной конференции партии «Шведские демократы», которая проходила в городе Вэстерос, в центре страны. На манер научной конференции несколько сотен членов партии собрались, чтобы послушать целый день выступлений. Лидеры партии смешались с членами партии, и хотя все были согласны с тем, что они националисты, не было ни малейших признаков расизма или экстремизма. Члены и лидеры партии много говорили о том, как остановить иммиграционную политику правительства, но преимущественно молодое руководство поражало своей сдержанностью как в частном, так и в публичном порядке. В частном порядке они хотели узнать, что думает их гость о Викторе Орбане и других европейских лидерах, которые, как и они, выступают против массовой миграции. Насколько они хороши? Кто из них был союзником, а кто – «крайним»? Эта партия, которую СМИ в Швеции и за рубежом продолжают изображать как «крайне правую» и «фашистскую», казалось, была так же обеспокоена действительными крайне правыми и фашистами, как и все остальные.
Какими бы ни были их взгляды, недавний успех партии вряд ли удивителен. Политика страны быстро изменилась, потому что так быстро изменилась демографическая ситуация. По данным шведского экономиста доктора Санандаджи (сам курдско-иранского происхождения), в 1990 году неевропейские иммигранты составляли всего 3 процента населения Швеции. К 2016 году эта цифра выросла до 13–14 процентов и в настоящее время увеличивается на один-два процентных пункта в год. В Мальме – третьем по величине городе Швеции – неэтнические шведы составляют уже почти половину населения. По мнению Санандаджи, через поколение за ним последуют другие города, и этнические шведы станут меньшинством во всех крупных городах: отчасти из-за иммиграции, отчасти из-за повышения рождаемости среди иммигрантов, а отчасти из-за того, что этнические шведы покидают районы, где преобладают иммигранты. Не менее интересным аспектом опросов шведского населения является то, что даже при так называемом «белом бегстве» средний швед по-прежнему считает важным жить в мультикультурном районе. Более того, те, кто переехал из «мультикультурных» районов, с непропорционально высокой вероятностью говорят о том, как важно жить в них.[230]230
Erico Matias Tavares, «Швеция на краю пропасти? – Интервью с доктором Тино Санандаджи», 21 февраля 2016 г., на https://www.linkedin.com/pulse/sweden-brink-interview-dr-tino-sanandaji-erico-matias-tavares.
[Закрыть]
В Швеции, как и на других континентах, явно существует разрыв между тем, что думают люди, и тем, что, по их мнению, они должны думать. И хотя взгляды европейцев продолжают двигаться в одном и том же направлении с разной скоростью, их политические лидеры продолжают принимать решения, которые заставят эти взгляды меняться еще быстрее. Швеция – всего лишь крайняя демонстрация тенденции.
В течение всего 2016 года, пока политические и общественные плиты Европы двигались, руководство Европы продолжало следовать тем же неумолимым курсом. К лету того года сделка с Турцией замедлила миграцию через греческий маршрут, в результате чего произошел всплеск движения в Италию. В августе того года итальянская береговая охрана спасла 6500 мигрантов в водах у берегов Ливии за один день. Береговая охрана провела более 40 спасательных операций всего в 12 милях от ливийского города Сабрата. Пассажиры на лодках – в основном из Эритреи и Сомали – ликовали, когда их подбирали. К этому времени контрабандисты даже не удосужились заправить свои лодки топливом, чтобы проплыть хотя бы половину пути до Лампедузы. Зная, что их раньше перехватят европейские спасательные суда, контрабандисты заправляли лодки топливом только для того, чтобы добраться до спасательных судов. Дальше за дело брались европейцы.[231]231
«Thousands of migrants rescued off Libya», BBC News, 30 августа 2016 г.
[Закрыть]
Политики продолжали проводить ту же политику и втягивать все больше и больше людей в то, что они сами признали неудачной моделью. Но во всей Европе отношение общества начало меняться. В июле 2016 года, менее чем через год после грандиозного жеста канцлера Меркель, опрос показал, что менее трети коренных немцев (32 %) по-прежнему верят в концепцию Willkommenskultur и продолжение массовой иммиграции в их страну. Треть немцев в целом заявили, что миграция ставит под угрозу будущее страны, а треть считает, что большинство мигрантов – это экономические мигранты, а не настоящие беженцы. Еще до того, как летом 2016 года в стране произошли первые взрывы смертников и другие теракты, половина немцев сильно опасалась терроризма в результате притока мигрантов. Пожалуй, самым интересным оказался вывод о том, что среди немцев иностранного происхождения только 41 процент хотел бы продолжения массовой иммиграции, а 28 процентов желали ее полного прекращения. Другими словами, Меркель потеряла одобрение своей миграционной политики даже со стороны мигрантов.[232]232
«Bye bye, Willkommenskultur», Die Zeit, 7 июля 2016 г.
[Закрыть]
К следующему месяцу ее рейтинг одобрения снизился с 75 % (на уровне апреля 2015 года) до 47 %.[233]233
Опрос, проведенный для немецкой вещательной компании ARD.
[Закрыть] Большинство немцев теперь не согласны с политикой своего канцлера. На сентябрьских региональных выборах в Померании партия «Альтернатива для Германии» (AfD), которой всего три года, обошла партию Ангелы Меркель и заняла третье место. О таких результатах говорили как о метафорических землетрясениях, но на самом деле это были самые незначительные толчки, и они не обязательно означали какие-либо серьезные изменения. Европейская общественность выступала против массовой иммиграции с самого начала ее появления. Но ни один из политических лидеров, придерживающихся тех или иных политических убеждений, не потрудился задуматься над этим фактом или изменить в связи с этим свою политику. Хотя канцлер Меркель и ускорила процесс, он был лишь частью непрерывного процесса, к которому континент шел десятилетиями. Последствия всего этого время от времени становились поразительно очевидными.
19 декабря 2016 года, в последние дни перед Рождеством, 24-летний тунисец Анис Амри угнал грузовик, убил польского водителя и проехал на нем по переполненному рождественскому базару на Курфюрстендамм, главной торговой улице Западного Берлина. В результате кровавой бойни погибли двенадцать человек, еще больше получили ранения. Сбежав из грузовика, Амри отправился в бега по Европе. Несмотря на то что он был самым разыскиваемым человеком на континенте, ему удалось сначала добраться до Голландии. Затем ему удалось проникнуть на территорию Франции – страны, которая уже второй год находится в состоянии повышенной готовности. Затем Амри отправился в Италию, где двое полицейских в Милане попросили предъявить документы. Он достал пистолет и выстрелил в одного из итальянских полицейских, после чего второй офицер застрелил Амри. Выяснилось, что Амри, который перед нападением объявил о своей приверженности Исиде, прибыл на Лампедузу в 2011 году в качестве мигранта. Получив отказ в предоставлении вида на жительство в Италии, он позже попал в тюрьму на Сицилии за поджог предоставленного правительством приюта. В 2015 году, выйдя из тюрьмы, он въехал в Германию и зарегистрировался как проситель убежища по меньшей мере под девятью разными именами. Неспособность местных немецких властей общаться друг с другом, а также слабая система внешних и отсутствующая внутренняя граница Европы сослужили Амри хорошую службу. Те же самые системы не так хорошо послужили покупателям на рождественском рынке в Берлине.
В то время как подобные злодеяния с большим числом жертв попадают в заголовки газет и на пару циклов привлекают внимание европейской прессы, на местах все это время происходят изменения на континенте в целом. Только в 2016 году власти Германии зарегистрировали прибытие в страну еще 680 000 человек. Продолжающаяся массовая иммиграция, высокая рождаемость среди иммигрантов и низкая рождаемость среди коренных европейцев – все это гарантировало, что в ближайшие годы происходящие изменения только ускорятся. Немецкий народ продемонстрировал на выборах, что с политической точки зрения даже Меркель смертна. Но она помогла изменить континент и целое общество, последствия чего будут сказываться на протяжении многих поколений.
Ощущение, что история закончилась
Нелишне признать, что ваши враги в чем-то правы. Сегодня антагонисты европейской культуры и цивилизации бросают континенту множество обвинений. Они говорят, что наша история была особенно жестокой, в то время как она была не более жестокой, чем любая другая цивилизация, и менее жестокой, чем многие другие. Они утверждают, что мы действуем только ради самих себя, тогда как вряд ли какое-либо общество в истории так не желало защищать себя или так готово принимать мнение своих недоброжелателей. И мы остаемся одной из единственных культур на земле, настолько открытых для самокритики и фиксации собственных недостатков, что способны сделать богатыми даже своих самых больших хулителей. Но в одном-единственном случае возможно, что наши критики что-то уловили. Они не очень хорошо ее определяют, а когда определяют, то прописывают самые худшие из возможных средств. Но проблема остается проблемой, которую стоит выявить, не в последнюю очередь для того, чтобы поднять себя до ответов.
Проблему легче почувствовать, чем доказать, но суть ее примерно такова: жизнь в современных либеральных демократиях в какой-то степени тонка или поверхностна, а жизнь в современной Западной Европе, в частности, утратила смысл. Это не значит, что наша жизнь полностью лишена смысла, или что уникальная возможность либеральной демократии преследовать свою собственную концепцию счастья является ошибочной. В повседневной жизни большинство людей находят глубокий смысл и любовь в своих семьях, друзьях и многом другом. Но остаются вопросы, которые всегда были главными для каждого из нас и на которые либеральная демократия сама по себе не может ответить и никогда не должна была отвечать.
Что я здесь делаю? Для чего я живу? Есть ли у нее какая-то цель, помимо нее самой? Это вопросы, которые всегда двигали людьми, вопросы, которые мы всегда задавали и задаем до сих пор. Однако для западноевропейцев ответы на эти вопросы, которые мы хранили веками, похоже, исчерпаны. Как бы мы ни были счастливы признать это, мы гораздо менее счастливы признать, что, когда наша история о самих себе закончилась, мы все еще остаемся с теми же вопросами. Даже задавать такие вопросы сегодня стало чем-то вроде дурных манер, а пространства, где их можно задать – не говоря уже об ответах, – соответственно, сократились не только по количеству, но и по стремлению к ответам. Если люди больше не ищут ответов в церквях, мы просто надеемся, что они смогут найти достаточно смысла в случайном посещении художественной галереи или книжного клуба.
Немецкий философ Юрген Хабермас обратился к одному из аспектов этой проблемы в 2007 году, когда он вел дискуссию в Иезуитской философской школе в Мюнхене под названием «Осознание того, чего не хватает». Он попытался определить пробел в центре нашего «постсекулярного века». Он рассказал, как в 1991 году он присутствовал на поминальной службе по своему другу в одной из церквей Цюриха. Друг оставил инструкции по проведению мероприятия, которые были тщательно соблюдены. Гроб был на месте, а речи произносили два друга. Но священника и благословения не было. Прах должен был быть «разбросан где-нибудь», и не должно было быть «аминь». Друг, который был агностиком, одновременно отверг религиозную традицию и публично продемонстрировал, что нерелигиозные взгляды потерпели неудачу. Как интерпретировал Хабермас своего друга, «просвещенный современный век не смог найти подходящую замену религиозному способу справиться с последним переходом, который завершает жизнь».[234]234
Jurgen Habermas et al., An Awareness of what is Missing: Faith and Reason in a Post-Secular Age, trans. Ciaran Cronin, Polity Press, 2010, p. 15.
[Закрыть]
Вызов, брошенный другом Хабермаса, можно спокойно услышать вокруг нас в современной Европе, как и результаты вопросов, оставшихся без ответа. Возможно, мы настороженно относимся к этой дискуссии просто потому, что больше не верим в ответы и решили воспользоваться старым изречением: если нам нечего сказать хорошего, то лучше вообще ничего не говорить. Или, возможно, мы осознаем экзистенциальный нигилизм, лежащий в основе нашего общества, но находим его неловким. Каким бы ни было объяснение, изменения, произошедшие с Европой за последние десятилетия и ускорившиеся в геометрической прогрессии в последние годы, означают, что эти вопросы больше не могут оставаться без внимания. Прибытие большого количества людей с совершенно разными – более того, конкурирующими – взглядами на жизнь и ее цель означает, что эти вопросы становятся все более актуальными. Эта актуальность продиктована не в последнюю очередь уверенностью в том, что общество, как и природа, не терпит вакуума.
Время от времени какой-нибудь политик из мейнстрима, кажется, признает некоторые из опасений, которые начали бурлить под поверхностью, придавая всем этим вопросам некоторую актуальность. Но эти признания облекаются в форму ужасного, вымученного фатализма. Например, 25 апреля 2016 года, через месяц после терактов в Брюсселе, бельгийский министр юстиции Коен Генс заявил в Европейском парламенте, что мусульмане «очень скоро» превысят число христиан в Европе. Европа не осознает этого, но такова реальность, – сказал он в интервью парламентскому комитету по юстиции и внутренним делам. Его коллега по кабинету Ян Жамбон, министр внутренних дел, добавил, что, хотя, по его мнению, «подавляющее большинство» 700-тысячной мусульманской общины Бельгии разделяет ее ценности, «я тысячу раз говорил, что самое худшее, что мы можем сделать, – это сделать из ислама врага. Это самое худшее, что мы можем сделать».
Под всем этим кроется ощущение того, что в отличие от других обществ – в том числе и пока еще Соединенных Штатов – в Европе все может очень легко измениться. В течение нескольких лет, как выразился английский философ Роджер Скрутон, мы находились в стороне от христианства, и есть все шансы, что наши общества либо совсем отвяжутся от него, либо будут вытащены на совершенно другой берег. Во всяком случае, очень тревожные вопросы дремали под поверхностью наших обществ еще до того, как они начали меняться так быстро, как это происходит сейчас.
Например, дилемма, которую в 1960-х годах поставил Эрнст-Вольфганг Бёкенфёрде: «Существует ли свободное секуляризованное государство на основе нормативных предпосылок, которые оно само не может гарантировать?»[235]235
E.W. Böckenförde, «Die Entstehung des Staates als Vorgang der Sakularisation» (1967), in Recht, Staat, Freiheit, Frankfurt am Main, 1991, p. 112.
[Закрыть] В нашем обществе редко можно услышать, чтобы этот вопрос даже поднимался. Возможно, мы чувствуем, что ответ «да», но не знаем, что делать в этом случае. Если наши свободы и вольности необычны и на самом деле проистекают из убеждений, которые мы оставили, что нам с этим делать? Один из ответов, который доминировал в Европе в последние годы прошлого века, заключался в отрицании этой истории, настаивании на том, что то, что мы имеем, – это нормально, и забвении трагических фактов цивилизации и жизни. Умные и культурные люди, казалось, считали своим долгом не поддерживать и защищать культуру, в которой они выросли, а скорее отрицать ее, нападать на нее или иным образом низводить ее. Все это время вокруг нас рос новый ориентализм: «Мы можем плохо думать о себе, но мы готовы думать исключительно хорошо о любом другом».
Затем, в какой-то момент последнего десятилетия, ветер мнений начал поначалу осторожно дуть в противоположном направлении. Они начали подтверждать то, что ренегаты и диссиденты предлагали в послевоенные десятилетия, и нехотя признавать, что западные либеральные общества на самом деле могут быть чем-то обязаны религии, на основе которой они возникли. Это признание было сделано не потому, что изменились доказательства: эти доказательства были всегда. Изменилось лишь растущее понимание того, что другие культуры, которые теперь все чаще встречаются среди нас, не разделяют всех наших страстей, предрассудков и предубеждений. Попытка притвориться, что то, во что верили и что практиковали в современной Европе, является нормальным, получила множество ударов. Через несколько довольно неожиданных моментов обучения – террористический акт здесь, убийство «во имя чести» там, несколько карикатур в другом месте – пришло осознание того, что не все, кто приехал в наши общества, разделяют наши взгляды. Они не разделяли наши взгляды на равенство между полами. Они не разделяли наших взглядов на примат разума над откровением. И они не разделяли наши взгляды на свободу и вольность. Говоря иначе, необычное европейское поселение, возникшее на основе Древней Греции и Рима, стимулированное христианской религией и усовершенствованное в огне эпохи Просвещения, оказалось весьма специфическим наследством.
Хотя многие западноевропейцы долгие годы сопротивлялись этой истине или ее последствиям, осознание все равно пришло. И хотя некоторые все еще сопротивляются, в большинстве стран стало возможным признать, что культура прав человека, например, в большей степени обязана вероучению, проповедуемому Иисусом из Назарета, чем, скажем, Мухаммеду. Одним из результатов этого открытия стало желание лучше узнать наши собственные традиции. Но, открыв вопрос, оно его не решает. Ведь вопрос о том, насколько устойчива эта общественная позиция без привязки к породившим ее верованиям, остается для Европы глубоко актуальным и тревожным. Если вы принадлежите к какой-то традиции, это не значит, что вы будете верить в то, во что верили те, кто эту традицию заложил, даже если вам нравятся и восхищают ее результаты. Люди не могут заставить себя искренне верить, и, возможно, именно поэтому мы не задаемся этими глубокими вопросами. Не только потому, что не верим ответам, которые давали на них раньше, но и потому, что чувствуем, что находимся в каком-то промежуточном периоде своего развития и что наши ответы могут вот-вот измениться. В конце концов, как долго может просуществовать общество, если оно оторвалось от своего основополагающего источника и движущей силы? Возможно, мы находимся в процессе выяснения этого.
Недавнее исследование Pew показало, что принадлежность к христианству в Великобритании снижается быстрее, чем почти в любой другой стране. К 2050 году, согласно прогнозу Pew, религиозная принадлежность к христианству в Соединенном Королевстве сократится на треть с почти двух третей в 2010 году и, таким образом, впервые станет меньшинством. К этой же дате, по данным Pew, Британия займет третье место в Европе по численности мусульманского населения – больше, чем Франция, Германия или Бельгия. Левый эксперт по демографии Эрик Кауфман в 2010 году писал, что даже в Швейцарии к концу века 40 процентов 14-летних подростков будут мусульманами.[236]236
Эрик Кауфман, Shall the Religious Inherit the Earth? Profile Books, 2010, p. 182.
[Закрыть] Конечно, все подобные прогнозы изобилуют возможными вариациями. Например, они предполагают, что христиане будут продолжать становиться нерелигиозными, а мусульмане – нет, что может быть так, а может и не быть. Но подобная статистика также не учитывает продолжающуюся массовую иммиграцию, не говоря уже о ее всплеске в последние годы. В любом случае, эти движения – как и те, что происходят в Европе и США (где к 2050 году мусульмане превзойдут евреев среди американского населения), – не могут не иметь значительных последствий. Демографические исследования показывают, что этнические шведы станут меньшинством в Швеции в течение жизни большинства ныне живущих людей, что поднимает интересный вопрос о том, есть ли у шведской идентичности шанс пережить это поколение. С этим вопросом придется столкнуться и всем остальным западноевропейским странам. Европа гордилась тем, что у нее есть «международные города», но как общественность отреагирует на то, что у нее есть «международные страны»? Как мы будем думать о себе? И кто и что будет «мы»?
Обращение к вопросам смысла или даже их признание стало настолько редким явлением, что его отсутствие кажется по крайней мере отчасти преднамеренным, как будто наши проблемы подпитывают привычку к отвлечению, равно как и к унынию. Несмотря на беспрецедентные возможности, наши средства массовой информации и социальные сети не могут удержаться от бесконечного распространения реакций и сплетен. Погрузиться в популярную культуру на любой срок – значит погрязнуть в почти невыносимой мелкости. Неужели вся сумма европейских усилий и достижений должна была завершиться именно этим? Вокруг нас мы видим и другие проявления мелкости. Там, где когда-то наши предки построили великие сооружения Сен-Дени, Шартр, Йорк, Сан-Джорджо Маджоре, собор Святого Петра и Эль-Эскориал, сегодня великие здания соревнуются лишь в том, чтобы быть выше, блестящее или новее. Муниципальные здания, кажется, созданы не для того, чтобы вдохновлять, а для того, чтобы угнетать. Небоскребы в европейских городах отвлекают взгляды людей от более благородных небоскребов, которые теперь почти все затмевают. В Лондоне великое здание, возведенное в честь рубежа тысячелетий, оказалось даже не сооружением, рассчитанным на длительный срок службы, а огромным пустым шатром. Если это правда, что лучшей проверкой цивилизации являются здания, которые она оставляет после себя, то наши потомки будут смотреть на нас очень тускло. Мы похожи на людей, которые потеряли желание вдохновлять, потому что нам нечем вдохновлять кого-либо.
В то же время высшие слои нашей культуры, похоже, довольствуются тем, что в лучшем случае говорят, что мир сложен и что мы должны просто принять эту сложность и не искать ответов. В худшем – открыто заявляет, что все это совершенно безнадежно. Конечно, мы живем в эпоху необычайного процветания, что позволяет нам чувствовать себя комфортно даже, когда мы впадаем в отчаяние. Но так может быть не всегда. Даже сегодня, когда солнце экономического преимущества все еще светит нам, есть люди, которые замечают пробел в нашей культуре и находят свои способы заполнить его.
Уже несколько лет меня особенно поражают многочисленные истории, которые я слышал из первых уст, а также читал от людей, решивших принять ислам. Отчасти эти истории поражают тем, что они так похожи. Почти всегда они представляют собой некий вариант истории, которую мог бы рассказать практически любой молодой человек. Обычно они звучат примерно так: «Я достиг определенного возраста [обычно это двадцатые или тридцатые годы], оказался в ночном клубе, напился и подумал: „В жизни должно быть нечто большее, чем это“». Почти ничто другое в нашей культуре не говорит: «Но, конечно, это есть». В отсутствие такого голоса молодые люди ищут и находят ислам. Тот факт, что они выбирают ислам, сам по себе является историей. Почему эти юноши и девушки (очень часто женщины) не тянутся к христианству и не находят его? Отчасти это происходит потому, что большинство ветвей европейского христианства потеряли уверенность в прозелитизме или даже веру в свое собственное послание. Для Церкви Швеции, Церкви Англии, Немецкой лютеранской церкви и многих других ветвей европейского христианства послание религии превратилось в форму левой политики, акций многообразия и проектов социального обеспечения. Такие церкви выступают за «открытые границы», но при этом сдержанно относятся к цитированию текстов, которые они когда-то проповедовали как откровенные.
Есть и другая причина. Критический анализ и научное исследование корней христианства еще не дошли до такой степени, как корни ислама. Всемирная кампания запугивания и убийств исключительно успешно сдерживает этот процесс. Даже сегодня на Западе те немногие люди, которые работают над происхождением Корана и занимаются серьезной коранической наукой – такие как Ибн Варрак и Кристоф Лаксенберг – публикуют свои работы под псевдонимами. И точно так же, как в странах, где большинство населения составляют мусульмане, любой, кого сочтут хулителем религии ислама, окажется в опасности, так и в Европе люди, занимающиеся критикой источников и основателя ислама, окажутся под такой угрозой, что либо прекратят свою деятельность, либо уйдут в подполье, либо – как Хамед Абдель-Самад в Германии – будут жить под защитой полиции. Это, безусловно, на какое-то время защитило ислам и замедлило поток критики его истоков и верований. С 1989 года тексты, идеи и даже образы ислама стали настолько жестко контролироваться и самоохраняться даже в Западной Европе, что вполне понятно, если молодой человек, ставший политически и религиозно осведомленным за последние несколько десятилетий, мог прийти к выводу, что единственное, что наши общества действительно считают священным и не подлежащим осмеянию или критике, – это утверждения и учения Мухаммеда.
Но работа полиции по борьбе с богохульством не может навсегда остановить прилив критического прогресса. Критическая наука о происхождении ислама стала более востребованной, а Интернет, наряду с другими инструментами, облегчил ее распространение и распространение информации, чем когда-либо в истории. Например, бывший датский экстремист Мортен Сторм отказался от своей веры в ислам, а также от членства в «Аль-Каиде», когда однажды в ярости открыл компьютер, набрал в поисковой системе «противоречия в Коране» и начал читать. Позже он написал: «Вся конструкция моей веры была карточным домиком, построенным один слой на другой. Убери один, и все остальные рухнут».[237]237
Мортен Сторм с Полом Круикшенком и Тимом Листером, «Агент Сторм: My Life inside al-Qaeda», Viking, 2014, pp. 117-19.
[Закрыть] Сторм ни в коем случае не был типичным мусульманином, но страх, который он испытывал, пытаясь разобраться в истоках и значении ислама, и необходимость удовлетворить это желание – это то, что чувствуют многие мусульмане. Многие борются с этим желанием, сдерживая его, и вынуждены пытаться сдерживать других, потому что знают, как это отразится на их вере. Вы можете увидеть этот страх, когда ведущий священнослужитель шейх Юсуф аль-Карадави сказал в интервью в 2013 году, что если бы мусульмане избавились от смертной казни за выход из религии, «ислама бы сегодня не существовало». Такие лидеры знают, что их ждет, и будут бороться за все, во что верят, всеми силами. Если они потерпят неудачу – что, вероятно, и произойдет – то лучшее, на что можно надеяться, это то, что ислам в какой-то момент в будущем будет приведен в такое же состояние, как и другие религии: делитерализован, ранен и обезврежен. Это решит одну проблему, но, хотя и облегчит проблемы Западной Европы, в свою очередь не решит их.
Стремление к радикальным переменам и ощущение пустоты у людей, подобных новообращенным, сохранились бы. По-прежнему будет существовать желание и поиск определенности. И все же эти явно врожденные желания противоречат почти всем представлениям и устремлениям нашего времени. Поиск смысла не нов. Новым является то, что почти ничто в современной европейской культуре не направлено на то, чтобы предложить ответ. Ничто не говорит: «Вот наследие мысли, культуры, философии и религии, которое питало людей на протяжении тысяч лет и вполне может удовлетворить и вас». Вместо этого голос в лучшем случае говорит: «Найдите свой смысл там, где вы хотите». В худшем случае можно услышать кредо нигилиста: «Ваше существование бессмысленно в бессмысленной вселенной». Любой человек, который верит в такое кредо, не достигнет буквально ничего. Общества, в которых это происходит, также ничего не достигнут. Если нигилизм может быть понятен некоторым людям, то как общественное кредо он фатален.
И мы ищем ответы не в тех местах. Политики, например, стремясь передать нам наши мысли и обратиться к максимально широкому кругу людей, говорят так широко и обобщенно, что почти ничего не значат. Они тоже говорят так, как будто не осталось значимых вопросов, которые можно было бы обсудить, и занимаются вопросами организации. Некоторые аспекты этой организации, такие как образование, очень важны. Но мало кто из политиков высказывает глубокое видение того, чем является или даже может быть наполненная смыслом жизнь. И, возможно, они и не должны этого делать. И хотя мудрость нашего времени говорит о том, что образование, наука и доступность информации должны выбить из нас все глубинные побуждения, эти вопросы и необходимость отвечать на них не выбиты из нас, сколько бы мы ни притворялись, что это не так.
То, как наука, доминирующий голос нашего времени, говорит с нами и о нас, само по себе показательно. В начале своей работы 1986 года «Слепой часовщик» Ричард Докинз написал: «Эта книга написана в убеждении, что наше собственное существование когда-то представляло собой величайшую из всех тайн, но теперь это уже не тайна, потому что она разгадана. Дарвин и Уоллес ее разгадали». Вот здесь-то и лежит пропасть, существующая сегодня между принятым в нашей культуре светско-атеистическим мировоззрением и реальностью того, как люди живут и переживают свои жизни. Потому что, хотя Докинз может считать, что наша загадка раскрыта – и хотя наука действительно частично ее раскрыла, – большинство из нас все еще не чувствуют себя раскрытыми. Мы не живем и не переживаем свое существование как решенные существа. Напротив, мы по-прежнему ощущаем себя, как и наши предки, разорванными и противоречивыми существами, уязвимыми перед аспектами себя и нашего мира, которые мы не можем понять.
В то же время, хотя ни один разумный человек не может отвергнуть то, что, как мы теперь знаем, является нашим родством с животным миром, мало кто радуется тому, что его называют просто животным. Покойный писатель-атеист Кристофер Хитченс часто называл себя перед аудиторией «млекопитающим». И хотя нас может шокировать и даже стимулировать воспоминание о нашем происхождении и материалах, из которых мы сделаны, мы также знаем, что мы больше, чем животные, и что жить просто как животные – значит унижать то, чем мы являемся. Независимо от того, правы мы в этом или нет, мы интуитивно это понимаем. Точно так же, как мы знаем, что мы больше, чем просто потребители. Нам невыносимо говорить о себе так, будто мы всего лишь винтики в экономическом колесе. Мы бунтуем не потому, что мы не такие, а потому, что знаем, что мы не только такие. Мы знаем, что являемся чем-то еще, даже если не знаем, чем именно.
Конечно, религиозных людей такие разговоры расстраивают, потому что для настоящих верующих вопрос всегда будет звучать так: «Почему вы просто не верите?». Однако этот последний вопрос игнорирует, скорее всего, необратимый ущерб, который наука и историческая критика нанесли буквально-истинным претензиям религии, и игнорирует тот факт, что людей нельзя принудить к вере. В то же время нерелигиозные люди в нашей культуре испытывают глубокий страх перед любыми дебатами или дискуссиями, которые, по их мнению, сделают какие-то уступки религиозным, тем самым позволив дискуссиям, основанным на вере, снова хлынуть в общественное пространство.
Это может быть ошибкой, не в последнюю очередь потому, что побуждает людей воевать с теми, чья жизнь и мировоззрение – нравится им это или нет – происходят от того же дерева. Нет причин, по которым наследники иудео-христианской цивилизации и Европы эпохи Просвещения должны тратить много времени, если вообще тратят, на войну с теми, кто все еще придерживается веры, из которой проистекают многие из этих убеждений и прав. Точно так же нет смысла в том, чтобы представители иудео-христианской цивилизации и Европы эпохи Просвещения, которые между собой придерживаются иного понимания, решили, что те, кто не верит в Бога буквально, являются их врагами. Не в последнюю очередь потому, что мы еще можем столкнуться с гораздо более явными противниками не только нашей культуры, но и всего нашего образа жизни. Возможно, именно поэтому Бенедетто Кроче в середине прошлого века сказал, а Марчелло Пера повторил совсем недавно, что мы должны называть себя христианами.[238]238
Benedetto Croce, «Why we cannot help calling ourselves Christians», in My Philosophy, George Allen & Unwin, 1949; Marcello Pera, Why We Should Call Ourselves Christians, Encounter Books, 2011.
[Закрыть]








