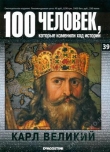Текст книги "Рыцарство от древней Германии до Франции XII века"
Автор книги: Доминик Бартелеми
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 43 (всего у книги 47 страниц)
Если Иоанн что и усвоил из общих мест латинской литературы, посвященных варварам, так это представление о переменчивости нрава последних: после бурного натиска они быстро устают. И, напротив, как рассказывает Флор, говоря о борьбе с цизальпинскими галлами, римляне отличаются стойкостью, которую им придает дисциплина{1086}. Именно ей они обязаны тем, что завоевали мир. И тем хуже, если у Иоанна не было ни материала, ни концепций, чтобы осмыслить причины упадка Рима. Англия еще не произвела на свет Гиббона, чей диагноз, впрочем, привел бы Иоанна в ужас[273]273
Напомним, что, по мнению Эдуарда Гиббона (1776), Рим погубило христианство!
[Закрыть]. Ион, преданный своей схоластике, не слишком историчной, не ощущает разрыва между героями Римской республики и теми, кто носил cingulum militiae при поздней империи, то есть через пятьсот лет.
Однако древний Восток дал один пример такого размягчения нравов, грозившего и «нашим временам», который вызвал у него содрогание, – пример Сарданапала. Иоанн Солсберийский может перенять у Лукана сарказм насчет войны в пиршественных одеждах: когда наряды у бойцов слишком пышные, это побуждает врага поживиться за их счет. Сколько возможностей заклеймить разукрашенных рыцарей XII в., обожавших геральдическую символику и подступавших в таком виде к границам не только французских княжеств, но и к границам Шотландии, где в 1172 г. война приобрела не очень рыцарский характер{1087}. В этом отношении клирик Иоанн полностью солидаризируется со святым Бернаром Клервоским, высмеивавшим и поносившим мирское рыцарство, чтобы тем выше, по контрасту, превознести тамплиеров, чье отличие от мирян просто чудесно{1088}. Иоанн Солсберийский разделяет его идеал аскетичного воина, который потому и более жесток в бою, избегает фанфаронства, а убивать его вынуждает сама суровость образа жизни. Тем не менее, поскольку ему ближе добрые языческие авторы, чем святому Бернару, то слова, чтобы высмеять гордеца и бахвала, он находит в комедии Теренция. «Больше всех хвалится при дворе» как раз тот, кто меньше всех проявляет отваги в бою. И как можно хвастаться тем, что тысячу раз избежал смерти?{1089}
И как армия, достойная называться армией, может считать работу, тяжелый труд рабскими? Однако они вызывали ропот уже у римских солдат, как в «Анналах» рассказывает Тацит, – у солдат, которых Марк Корбулон сурово наказывал и хотел вести в Германию ради тяжелой войны{1090}.
Здесь Иоанн Солсберийский предпринимает попытку очернить всю красоту аристократической войны, всю ее несомненную искусность ив то же время всю ее умеренность, словом, все ее рыцарские достоинства, противопоставляя ей чистого и сурового, скромного и дисциплинированного римского солдата. И тем хуже для культуры нравов!
По счастью, ситуация все-таки была не столь простой, выбор никогда не был столь однозначным – между кровавой суровостью и милосердной изнеженностью. Разве французский XII в., приукрасив античную войну, сделал ее совершенно пресной? И разве Ланселоты, Персевали и Говены, которых ставили в пример другим рыцарям при пышных и (умеренно) сладострастных дворах, были кисейными барышнями, разве они жалели усилий и скупились на свою кровь? Говорить в 1160 г., что «в наше время» воины выродились, значило забывать о крестовых походах, свидетельствах Усамы ибн Мункыза, подвигах Вильгельма Маршала. Представлять в качестве образца римского солдата – это было по сути оскорблением для тех самых тамплиеров, которых живописал святой Бернар!
Но тамплиеров Иоанн Солсберийский мог и встречать, он слышал об их слабостях, они были живы и, следовательно, не оправдывали всех надежд. А вот римского солдата уже можно было поднять на пьедестал как непревзойденный эталон. Он был столь же недосягаемым для критики, как граф Роланд и мессир Говен, и намного более дисциплинированным. Разве что Вивьен со своим обетом Богу, Ланселот, всецело преданный королеве, могли сравниться с ним с точки зрения покорности. Поэтому идеализированный, отчасти выдуманный римлянин, выходец из отфильтрованного прошлого, занял видное место в представлениях клириков XII в., бывавших при дворах. Петр Блуаский в 1183 г. вслед за Иоанном Солсберийский произносит ему [римскому солдату] вдохновенный панегирик, славя его грубую простоту и скромность и вместе с тем осуждая преступления рыцарей после посвящения и высмеивая их подвиги, существующие только в виде картинок на щитах{1091}.
Конечно, в тот момент рыцари и дамы не воспринимали античного героя как вызов рыцарскому идеалу. Они вместе читали романы, где благородных воинов Греции и Рима авторы переодевали в костюмы французов своего времени. Но «Поликратик» в конце концов будет переведен на французский – во время Столетней войны, повелением короля Карла V. В ближней перспективе этот образец, с его покорностью и величием, мог бы сыграть в развитии воинского идеала куда более важную роль, чем образы рыцарей Круглого стола, сражавшихся лишь затем, чтобы убить время и ввести читателя в заблуждение. К тому же, как мы видели, в самой литературе, вплоть до описания замка Грааля, нарастала тенденция воспевать аскезу и суровость – в тысяча двухсотом году она просто носилась в воздухе. И ее быстрое укрепление, отрицавшее рыцарские достоинства, более легкомысленные и более снисходительные – а значит, более характерные для «рыцарей», – вносило путаницу в определения «рыцарства» вплоть до Нового времени. Эти определения приобретали все более милитаризованный характер.
МЕЧ, ВЗЯТЫЙ НА АЛТАРЕ
Если бы представления Иоанна Солсберийского об армии как о профессиональной элите, набираемой из трудящихся классов и формируемой наподобие нашего Иностранного легиона[274]274
У него, отметим мимоходом, есть своя «Песнь о Роланде» – рассказ о Камероне (эпизоде из войны в Мексике 1868 г.), который там зачитывают по праздникам.
[Закрыть], в XII в. воплотились в жизнь, произошла бы самая настоящая военная мутация. А значит, и определенные социальные изменения, хотя подобные административные действия меньше подорвали бы основы, чем создание народных ополчений Нового времени и чем изображаемое в наших современных мифах возвышение серва, воина «поневоле», произошедшее благодаря подвигу – в которое Иоанн Солсберийский недвусмысленно отказывался верить{1092}.
Но в любом случае рассуждения об отборе (delectus) менее убедительны и окажут меньше влияния, чем страницы, посвященные присяге и верности, каковою всякий солдат обязан Церкви уже в силу того, что находится на службе. В самом деле, идея такой верности уже входит в систему взглядов на отношения Церкви и государства, разработанную близким другом Томаса Бекета: Церковь поддерживает государство, но и сдерживает его. Ведь он, как и его читатели-клирики, принимает интересы Церкви близко к сердцу. Разве он, как и каждый из них, – не потенциальный епископ? Поэтому его влияние при дворе и межеумочное положение связаны, как отмечает Сидни Пейнтер, с определенным представлением о христианском рыцарстве, представлением, которое он излагал и прежде всего формировал. Если в одном месте «Повести о Граале» можно прочесть, что рыцарство – высшее сословие, учрежденное Богом, эти слова в большей степени порождены «Поликратиком», нежели крестовым походом[275]275
Пусть даже последний сыграл свою роль в процессе усиления князей и королей в XII в.
[Закрыть].
Удаляясь, в духовном смысле, в римскую античность, Иоанн Солсбериискии не берет с собой феодальный и сеньориальный аспект того средневекового рыцарства, которое никогда не называли словом militia без множества экивоков. Он, конечно, упоминает вассальную верность, но без нажима, между делом. Он цитирует слова Фульберта Шартрского об обязанностях перед сеньором, но Фульберт в тысячном году позаимствовал эти мысли у Цицерона, так что страница «Поликратика» не окрашивается в кричаще франкские тона. Впрочем, беглое упоминание о вассалитете почти не влечет за собой рассуждений о фьефе и сеньории. У военного есть только жалованье (stipendium), и его воинская функция никак не связана с наследственной собственностью, судебными правами, знатностью. Это освобождает militia от многого, и клирик Иоанн может начертить эпюру ее функции и дисциплины. Этот временный служитель англо-норманнских королей, а также их постоянный и пламенный почитатель даже не упоминает о их важной роли посвятителей в рыцари.
Он славит в Генрихе Боклерке победителя при Бремюле, но не склонен особо отмечать посвящение Жоффруа Плантагенета или Галерана де Мёлана, чей мятеж после этого выглядит проявлением тем большей неблагодарности{1093}. В подобном случае римское право говорит об оскорблении величества, и этого Иоанну Солсберийскому достаточно. Его монарх – суверен в римском духе, а все тонкости и расчеты феодальных взаимоотношений недостойны внимания.
Но восхищение римским монархом, солдатом, магистратом не побуждает его отречься от христианства. Он не отрицает христианского Бога, подчеркнуто ставя Его волю выше всяких государственных соображений. И не отвергает церковной собственности, за счет которой живет. Напомним, что интерес англо-норманнских клириков к «римской дисциплине» тесно связан с тем, что она запрещала грабить земли, а ведь они владели землями{1094}. И эта забота, на мой взгляд, в большой мере пронизывает самые актуальные страницы книги Иоанна Солсберийского – те, где он упоминает о мече, который возлагают на алтарь, а потом берут с него.
Одно из главных положений его доктрины состоит в том, что всякого военного надо не только мобилизовать, но и привести к присяге. То есть солдат клянется Богом и величеством монарха делать всё, что повелит государь. В самом деле, он обязан так же повиноваться монарху, как и Богу, поскольку первый – как видно по восьмой книге – это «образ» второго. «Богу служат, верно любя того, кто царствует милостью Божьей»{1095}.
Правда, верность королю уподобляли верности Богу уже Каролинги, но теперь римское величие монарха и государства объединяются, из чего следует перечень важных и грозных обязанностей: если надо, полагается умереть за res publica. Впрочем, чтобы потребовать такой жертвы, было бы достаточно закона о величестве, карающего за дезертирство{1096}.[276]276
Он не был неведом французским авторам тысячного года, но терялся среди феодальных норм.
[Закрыть] Наконец, в обмен на такую присягу римляне получали «воинский пояс» (cingulum militiae) с соответствующими привилегиями{1097}. После этого они могли унижать и разоружать солдат, которые взбунтовались или обесчестили себя тяжелым проступком, – пусть даже с возможностью реабилитации последних, если те проявят беспримерную доблесть{1098}. Разве это не добрый римский принцип – больше бояться командира в случае неповиновения, чем врага, с которым ведешь бой?
Но в столь сильном государстве возникает риск, что повиновение Богу, Церкви отойдет на задний план – ив принципе, хотя Иоанн Солсберийский открыто этого не предусматривает, что монархическое государство даже двинет войска против нее. В королевстве каролингского типа с его запутанной системой сеньориальных отношений этот риск был явно меньшим, чем после григорианской реформы. Отныне светская и духовная власть посматривали друг на друга косо, и, если постараться превратить «рыцарство» в армию, оно могло бы стать менее христианским, чем когда-либо.
Чувствуется, что это подспудно тревожило Иоанна Солсберийского (и Церковь тысяча двухсотого года), коль скоро он, и даже несколько раз, подчеркивает, что присяга государству и монарху ipso facto предполагает уважение к Богу и Его верховенству, или же утверждает, что неуважение к святыням (сначала к языческим, потом к христианским) было главным поводом для лишения cingulum в римской древности{1099}. Бороться с государством, выступая с оружием в руках против другого воинства (безоружного), вершащего суд, – значит идти против собственной службы, против военных. Но хуже всего – подрывать основы Церкви, творя святотатство; и тому государю, который не покарает святотатца собственным мечом, самому грозит меч Божий.
Всякий раз, когда Иоанн Солсберийский касается вопроса об обидах, чинимых Церкви, он забывает о своих римских образцах и видит перед собой рыцаря XII в. Он не только рассуждает о том, что со времен поздней Империи неприсягнувший солдат был подобен нерукоположенному священнику (оба занимаются своим делом незаконно). Переходя к позитиву, он сравнивает дисциплину духовенства, ее требования с дисциплиной вооруженной службы. Но есть ли ощутимые признаки того, что таковая служба подчинена Богу? Клириков рукополагают епископы. Клирики дают обет, аналога которому на «вооруженной службе» нет. Посвящение, как уже упоминалось, было прежде всего церемонией феодальной и куртуазной, для которой освящение оружия было дополнительным и даже дублирующим обрядом{1100}, во всяком случае чем-то необязательным. Однако достаточно частым, коль скоро Иоанн Солсберийский может рассуждать о возложении меча – рыцарем, кого только что посвятили, – на алтарь, «откуда» тот впоследствии берет его обратно. «Утверждается торжественный обычай, дабы тот, кто только что получил рыцарский пояс, возложил в церкви меч на алтарь. Тем самым он обязуется верно служить алтарю, обещает Богу выполнять свои обязанности на Его службе»{1101}. Но ведь это приношение бессловесное. Как такое возможно? Иоанн Солсберийский пока не утруждает себя этим вопросом: он уверяет, что от неграмотных нельзя требовать письменной «долговой расписки», а ведь меч – долговая расписка рыцаря, кто этого не видит? Рыцарь дает молчаливое обещание делать много для Церкви и ничего против нее, довольствоваться своим жалованием, как требует Евангелие (Лк. 3:14){1102}. А кому неизвестна миссия «рукоположенного воинства»? Иоанн формулирует ее немного выше в классическом виде: защищать Церковь, бороться с изменой, почитать священство, спасать бедных от несправедливости, умиротворять страну. И за своих братьев рыцари, христианские воины, проливают кровь и даже умирают, если понадобится{1103}. Жертвуя собой более ради общественного блага, чем из тщеславия, они становятся святыми.
Лучше бы они произносили все эти клятвы вслух, громко и внятно. Чуть дальше, внезапно отходя от книжных аналогий, Иоанн дает прорваться своей досаде. Это происходит в главе, посвященной возмутителям спокойствия Церкви, для противодействия которым он как истый постгригорианец рассчитывает скорей на государя, нежели на чудо. «Немало находится таких, кто открыто совершает злодеяние. Возлагая рыцарский пояс на алтарь ради освящения, они заявляют, что пришли сюда объявить войну алтарю, его служителям и Богу, почитаемому здесь. После этого я скорей бы поверил, что они предались злу (malice), чем тому, что они законно приняты в состав воинства (milice)»{1104}. Здесь новы не столько каламбур и обличение, сколько картина святотатства, которая вдруг неожиданно возникает в конце этой главы «Поликратика», где знание часто мешается с пристрастием. Неужели посвящаемые в XII в. могли изрекать такие кощунственные слова? А рыцарь-посвятитель сам призывал их к грубости, как в «Гарене Лотарингском»?{1105} Итак можно было вступить в сословие, облеченное высокой христианской миссией? И публика это допускала, и никто из присутствующих рыцарей не поднимался, чтобы немедленно разоружить юного провокатора! И у монарха не находилось возражений! Каково признание, если все это правда, а не карикатурное утрирование!
Но я думаю, что это карикатура и что имеются в виду молодые рыцари, наследники сеньорий, для которых посвящение знаменовало достижение совершеннолетия и получение права ввязаться в распри из-за владений – не всегда заведомо несправедливые. В этих строках «Поликратика» militia перестает быть литературным вымыслом и вновь становится рыцарством, сеньорами (которых надо нейтрализовать).
Но в XII в. рыцарство также осознает само себя, стремится приобрести всеобщность и создает правила поведения, обычаи и эмблемы, расцвет которых мы видели в предыдущих главах. Снова называя рыцарство «сословием», Иоанн Солсберийский только укрепляет каролингскую – или, в Англии, альфредовскую[277]277
Выдвинутую при Альфреде Великом (871-899).
[Закрыть] – идею трех сословий. Он придает ей новую легитимность. Разве он не поддерживает рыцарство, хоть и желает держать его на почтительном расстоянии? Даже если вслед за ним и другие моралисты, Этьен де Фужер, Петр Блуаский, возмущаются применением, какое посвященные находят мечу, взяв его обратно с алтаря, – никто из них не ратует за отказ от этого двусмысленного поступка, от этого опасного ритуала. Таким образом, класс рыцарей, по-настоящему не оформившийся как братство, как организованное сословие, переходит в тысяча двухсотый год, образуя единство в моральном смысле. Для него это лестный, драгоценный вымысел. И он пользуется этим вымыслом, злоупотребляет им, забивая себе головы вздором о святом Граале.
Идеи Иоанна Солсберийского сопутствовали и способствовали прогрессу государства Нового времени, государства, опирающегося на римское право, – до такой степени, что сразу же нанесли смертельный удар некоторым основам аристократической свободы, которые, как нам показалось, со времен древней Германии хранило все рыцарство, достойное этого названия. Однако это рыцарство вновь обрело более классическое отношение к верховенству Бога. И, может быть, это дает нам пищу для размышлений. Действительно, если представления клириков о militia отныне принимали более этатичный флик – как в одном пассаже Алана Лилльского[278]278
Одной из страниц книги «Против еретиков» (написанной до 1202 г.) Алан Лилльский внес свой вклад в снятие запрета на некоторые виды «человекоубийства». Он опровергает представление, что права убивать не должен иметь никто и никогда. Если рыцарь (miles), или скорее боец, теперь почти что можно сказать – ополченец (milicien), «убивает, подчиняясь власти, для которой он – законный подданный, он не считается виновным в человекоубийстве согласно закону общины» (своей страны). Наоборот, если он отказывается убивать, он виновен в отступничестве и пренебрежении к власти, а значит, она вправе его наказать.
[Закрыть], – на практике сословие рыцарей оставалось сеньориальным, в большинстве случаев имевшим двойные полномочия – судебные и военные. Алан Лилльский был парижским магистром, автором написанной в 1184 г. «Суммы об искусстве проповедовать» разным социальным группам. В конечном счете он не слишком суров к рыцарям. В самом деле, он рекомендует им довольствоваться своими доходами, не совершать ни насилий, ни грабежей, «но быть защитниками родины, опекунами сирот и вдов» – следуя по стопам князей. «И пусть же они носят мирское оружие, внутренне облачившись в панцирь веры». Далее Алан Лилльский проводит развернутое сопоставление материального и духовного рыцаря{1106}. Автор прозаического «Ланселота» то же самое изложит в наставлениях Дамы озера незадолго до 1230 г.{1107} В каком-то смысле Иоанн посягает на свободу аристократии, составляя для нее подобную спецификацию требований, желая сделать из нее «сословие», которое подчинялось бы иным правилам, чем свойственные ей правила чести. Но Церковь, подчиняя, причем довольно мягко, аристократию непосредственно Богу, обеспечивает ей, согласно Иоанну Солсберийскому, некую автономию по отношению к монарху. Сам клирик Иоанн избегает призывов к слепому повиновению. Он еще раз утверждает моральную норму, которая послужит рыцарям опорой и поддержит их в борьбе с любым деспотизмом. Да хранит их Бог от превращения в настоящую армию.
Однако к Богу все чаще и чаще обращались на рубеже тысяча двухсотого года с тем, чтобы призвать к поддержке короля и христианнейших рыцарей: тому свидетельства – «История Филиппа Августа» Ригора и литургические дополнения к церемониям посвящения (или к сопровождающим их обрядам). И с тех пор было уже не редкостью, когда авторы ссылались одновременно на Роланда, Ланселота и на римскую дисциплину и тем самым, нагромождая лестные выдумки, приписывали «рыцарству» черты, которые противоречили одна другой.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В начале этого эссе, около сотого года, римлянин Тацит отметил у германских варваров доблесть, и она вызвала у него невольное восхищение, хоть и не заставила закрыть глаза на ограничения и оборотные стороны не слишком статичной социальной организации, с которой была связана. И эта первая форма рыцарства мало-помалу стала господствующей, не обязательно, конечно, противясь любой дисциплине, но часто одерживая над ней верх в ходе франкской истории.
В конце эссе, напротив, англичанин Иоанн Солсберийский уже взирает с ностальгией на римскую дисциплину. Он приравнивает ее к доблести – возможно, несколько поспешно, но не то чтобы заведомо необоснованно. Близилось время, когда вместе с городской, культурной, административной мутациями государство вновь обретет некий «римский» характер, а самостоятельности рыцарей придет конец, когда на них станут возлагать строго определенную миссию либо, в качестве паллиативного средства от социального упадка, предлагать им мечтания.
Тем самым оба автора, Тацит и Иоанн Солсберийский, вполне могут, соответственно, предварить и заключить эссе о «рыцарстве», в котором даты рождения и упадка последнего несколько расходятся с обычными представлениями историков.
В самом деле, если на древнюю Германию часто ссылаются как на место, куда уходит корнями посвящение в рыцари, то видеть в ней рыцарский мир желают редко – напротив, месть и кровь, воинственные кличи придают ей брутальный облик. Однако вот уже несколько десятков лет как историческая критика обнаружила у франков и даже у германцев сотого года некое подобие аристократии. И, соединив эту идею с выводами антропологии, касающимися ограничений и норм «архаической» мести, я в самом деле сумел даже в древней Германии увидеть первые проявления у знатных воинов тенденции щадить друг друга, быть воинственными больше на словах, чем на деле. И «германская» свобода показалась мне более подходящим источником «рыцарства» в моем определении, чем римская дисциплина.
Древние германцы принадлежали к «варварскому» обществу, где, как и в других обществах с доминированием знатных воинов, можно выявить «подобие рыцарства». Там ощущается присутствие героического идеала, и порой германцы выбирали такую тактику и такие аргументы, чтобы ни в мести, ни в смертельной борьбе не доходить до крайности. Уже давало о себе знать презрение к простому крестьянину, характерное для аристократии, которая, с другой стороны, хорошо умела требовать от «герцогов» и королей соблюдать некую этику и навязывала им самые настоящие соглашения, добиваясь уважения к своей «вольности» – которую то хвалит, то обличает Тацит.
Черты этого первого рыцарства, должно быть, несколько стерлись, когда германцы, объединившись во франкский и аламаннский союзы, проникли на территорию Римской империи и в ее армию. Тем не менее упадок (или мутация, если угодно) этой империи позволил им сохранить многие из своих манер и социальных привычек, которые смогла усвоить и галло-римская аристократия. Разве аристократия Северной Галлии не сделалась франкской, после того как Хлодвиг принял христианство? И настолько, что «франкские» короли и лейды VI в., часто (но не всегда) критикуемые Григорием Турским, не обязательно отказывались от всего «германского»; к тому же христианство определенного рода, ориентированное на псалмы и на святилища с реликвиями, позволяло им оставаться умеренно-мстительными. Те гнусные поступки, о которых иногда писал епископ Григорий, не помешали им официально сохранять в рамках франкской монархии культуру чести.
В каролингском мире «вассалы» уже были всадниками с благородными манерами, и их этики было бы достаточно, чтобы мы признали в них «рыцарей», если делать акцент по преимуществу на долге верности королю, Богу, сеньорам. Собственно, не существовало такой эпохи, когда бы воплощенной этикой знати было рыцарство и только оно, и если в XII в. внимание к хорошим манерам при контактах «равных» друг с другом возрастет, это вовсе не будет означать забвения идеала вассальной верности, уравновешиваемого мстительным представлением о чести. Хорошие манеры займут более важное место, но ведь упоминания о них можно обнаружить еще во многих сборниках документов IX в. Если говорить о рыцарстве во франкском мире и в первом феодальном веке, то под этим словом надо понимать рыцарское сообщество, нормы взаимоотношений между рыцарями, а также такие обычаи, как вызов на поединок, прощение в обмен за публичное покаяние, а также заключение союзов между противниками, в частности, между тюремщиками и пленниками, непохоже, встречавшееся все чаще. Особенно часто такое случалось бо время междоусобных войн – но не исключительно. Для этого периода Пьер Бурдье уже мог бы говорить о появлении некой рыцарской манеры поведения (habitus), настолько тесного взаимопонимания знатные воины достигли меж собой и так решительно отгородились от своих сервов.
В то же самое время, без сомнения, возник и укоренился идеал или, скорее, идеология христианского «рыцарства» как защитников слабых и поборников справедливости, а значит, потенциальных реформаторов общества и даже врагов феодалов. Мало того, что библейское христианство могло взять на себя задачу осуществления «германской» мести (потому что она в конечном счете была не столь варварской, как судебная лютость римлян), – при Карле Великом и Людовике Благочестивом расцвело то, что Жан Флори называет идеологией меча: «верные» короля разделили с ним обязанности по защите вдов и сирот, женщин, безоружных крестьян. В какой-то мере это был обман, маска рыцарской функции как прикрытие феодального гнета, утверждение, которому противоречило реальное поведение этих «верных». Эта христианская идеология скорей оправдывала и прощала рыцарей, чем улучшала их нравы, а с другой стороны – представляла собой символическое насилие, освящавшее слабость как статусную характеристику тех, кому покровительствуют. Не отражает ли «Житие Геральда Орильякского» всю двойственность такой идеологии? И все-таки в мире, где царил настоящий социальный контроль, где пенитенциарная система исходила, по выражению Питера Брауна, из «презумпции греха» (monde peccatise), эта идеология могла некоторым образом цивилизовать нравы. По крайней мере тут есть что обсуждать.
Пусть в каролингских школах твердили немного наивные максимы о верности, особо не задумываясь, насколько эти формулы имеют отношение к реальной жизни, – франкский мир IX в. уже кажется нам чрезвычайно изощренным. Потому что шел технический прогресс, развилась черная металлургия, благодаря которой создавались прочные мечи и еще более прочные доспехи, так что знатным противникам при столкновениях приходилось прибегать к хитрости шли к вероломству!). И потому что существовали социоюридические процедуры, от судебного поединка до обмена заложниками, организаторы которых практиковали и демонстрировали настоящее искусство обуздывать насилие и проявлять либо милосердие, либо суровость в зависимости от конкретного случая, под эгидой Права и Милости, – если можно говорить о рыцарском искусстве, то это оно и есть!
Эту изощренность (относительную) унаследовал первый феодальный век, как и всю каролингскую культуру, и произошло это еще на фоне аграрного роста. Позже тысячный год страшно оклеветали, драматизировали, извратили, и намерение разоблачить эти домыслы, как здесь, так и в других публикациях, одновременно помогало мне работать и поощряло переосмыслять социальную историю, пытаться кое-что в ней прояснять. А ведь посткаролингский период (900–1030) во многих отношениях был веком активного взаимодействия в среде рыцарства. Наличие замков умеряло активность феодальной войны (между сеньорами), и ее участники всё больше настраивались на мирное общение и на зрелище (которое можно было видеть со стен замков). Эпические идеалы давали о себе знать, когда речь шла о предках или о походах на язычников и неверных, но французская глубинка прежде всего совершенствовала феодальную казуистику – краеугольным камнем ее морали оставалась верность сеньору. Если еще сохранялся риск соскользнуть в насилие, то в конечном счете скорей для войн князей, чем для войн между сеньорами соседних замков, ограничиваемых в том числе и «Божьим миром».
Вот главный тезис этого эссе: классическое рыцарство, состоящее из организованных, традиционных подвигов, игр, зрелищ и хороших манер в общении между рыцарями всех стран, зародилось и понемногу сформировалось в остах и при дворах региональных князей. Его черты едва брезжат на некоторых страницах Рихера Реймского, написанных в 990-х гг., но более отчетливо и явно обнаруживаются в «Истории Вильгельма Завоевателя», в том месте, где Гильом Пуатевинский в 1070-х гг. рассказывает об осаде Мулиэрна в 1048 г. Еще ярче они проявляются на многих страницах книги великолепного Ордерика Виталия. Никто лучше него не рассказал об усилиях князей выглядеть справедливыми и изысканными (на самом деле не ограничивая свою власть над знатью), о том, как рыцари во время сражения старались щадить друг друга, взаимно избегать убийства или пожизненного пленения. У обоих авторов, Гильома Пуатевинского и Ордерика Виталия, также без прикрас показано, как самые) почитаемые рыцари одновременно с заботой о чести пеклись и о материальной выгоде. В то же время тот и другой славят или по крайней мере описывают зарождение настоящего княжеского правления, опирающегося на новое богатство городов, на Церковь, отделяющую себя от мира. Князь XII в. поддерживал со знатью отношения двойственного характера: он претендовал на то, что путем торжественного посвящения вводит ее представителей в состав рыцарства, но тут же подчеркивал, что этот факт делает их его должниками, порождает вассальную зависимость.
В этот период «рыцарской мутации» как в текстах, так и в жизни реально проявляется представление о том, что принадлежность к рыцарству (не только как статус) крайне важна для знатного человека независимо от страны, от народа («франкского», «аквитанского», «нормандского»), к которому он принадлежит по рождению и наследуемым владениям. Рыцарство делокализовано. Оно по-настоящему усваивает нечто вроде сеньориального универсализма, выраженного в готовности принять в свое лоно турок и сарацин, что у тех вызывает определенный отклик, и в еще более твердом намерении распространиться из французских дворов на все дворы христианской Европы.
Так что идея, что рыцарство зародилось около тысяча сотого года во Франции, сама по себе не ошибочна! Авторы XIX в. были неправы лишь в том, что усматривали антагонизм между тогдашним рыцарством и откровенным варварством – недостаточно христианским и недостаточно благородным – вассалов прежних веков. Они также переоценивали роль крестового похода в укреплении влияния Церкви на рыцарей. Ведь в крестовом походе мы могли видеть удивительное смешение священной, жестокой, войны и рыцарской войны между прагматичными противниками, уважающими друг друга. Стиль поведения рыцарей тысяча сотого года был прямым продолжением раннего франкского Средневековья и его «германского» характера (в социологическом, а не этническом смысле) и по-прежнему неоднозначно сочетался с рассуждениями о защите церквей и слабых.
Рыцари не стали к тому моменту большими христианами, чем прежде; они испрашивали благословение оружия еще с X в., домогались этого и вне церемониала своего феодального и куртуазного посвящения. И если влияние Церкви на них обрело другой характер, то оно обрело таковой и по отношению ко всем классам общества.