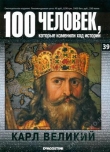Текст книги "Рыцарство от древней Германии до Франции XII века"
Автор книги: Доминик Бартелеми
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 47 страниц)
В этом месте Германия выглядит землей утопии, местом, где живет общество-созданное-для-войны[7]7
Хищничество и отказ от земледелия критикуются в разделе III, 17.
[Закрыть]. Оно всячески поощряет доблесть, которой отныне недостает Галлии. Цезарь, во всяком случае, всё здесь одобряет. Так, «разбои вне пределов собственной страны [той территории, где живет данный народ] у них не считаются позорными», потому что германцы «хвалят их как лучшее средство для упражнения молодежи и для устранения праздности». Разве не так же поступают хищники? Цезарь считает, что у них нет внутренних раздоров, князья (principes) вершат суд и улаживают споры, каждый в своем секторе (в то время как «магистраты» есть только в военное время).
Термины «город» и «магистратура» в сочетании с воинственностью придают этой Германии нечто спартанское. Но я подозреваю, что в реальности это было скорей слабое государство (в смысле политической власти). «И когда какой-нибудь князь (princeps) предлагает себя в народном собрании в вожди (dux) [подобного набега] и вызывает желающих за ним последовать, тогда поднимаются все, кто сочувствует предприятию и личности вождя, и при одобрениях народной массы обещают свою помощь. Но те из них, кто на самом деле не пойдет, считаются дезертирами и изменниками, и после этого им ни в чем не верят»{18}. Вот что, как считается, демонстрирует престиж воина в Германии как в обществе чести. В то же время, если перечитать эту страницу из «Истории галльской войны» внимательно, разве она не показывает, с какими институтами прежде всего связывается доблесть – или ее отсутствие? Военный вождь может повести за собой только добровольцев, людей, которые ему симпатизируют, которым он, несомненно, обещает добычу или чьему честолюбию льстит. Никто не обязан за ним следовать: некоторые довольствуются тем, что возносят хвалу войне и возвращаются домой. Что же до тех, кто отказывается от своего обещания, нарушает его, на их долю, безусловно, выпадают бесчестие, недоверие, но разве они не могут восстановить свое доброе имя? Ни Рим, ни Спарта не сохраняли жизни своим дезертирам – и даже некоторые галльские «города»{19}.
Иначе говоря, эти воины не обязаны строгим, автоматическим повиновением вождю, государству, достойному этого названия. Конечно, их мобилизации способствовало сильное социальное давление – и скудость некоторых благ как его следствие. Но выступать и воевать они всегда должны были по собственному почину, движимые доблестью, которая целиком является их заслугой и делает им честь. Доблесть воина – идеология обществ, где вожди имеют не то чтобы незначительную, но среднюю власть. И для средневекового «рыцарства», в конечном счете, было более характерно такое германское соперничество в «доблести», чем гражданская или военная дисциплина по образцу римской – когда функция важнее функционера. Разве такое рыцарство – не собирательный идеал аристократии, избегающей гнета строгого закона?
Между тем Цезарь сильно идеализирует Германию. Другие греко-римские авторы все-таки используют стереотип непостоянного и гневливого германца – как самого яркого воплощения варварства. Страбон говорит о роли жриц в разжигании войн. Они следуют за германскими воинами, перерезают горло их пленникам и гадают по вытекающим потокам крови, как авгуры. Германцы ничуть не уступали в жестокости древним галлам. Гневливость равно присуща обеим группам народов: у Страбона она галльская, у Сенеки – германская. Эти авторы верят, что такова природная предрасположенность. Однако мы вправе задаться вопросом: может быть, это скорей неизбежный признак враждебности, и если она приводит к опрометчивым нападениям, то из-за отсутствия дисциплины римского типа, а если быстро утихает, то потому, что варвар устает, и после того, как он захватил какую-то добычу, его ничто не побуждает к дальнейшим действиям.
Наконец, не преуменьшает ли распри среди германцев Цезарь, который завоевал Галлию благодаря раздорам в ней и столкновению по меньшей мере двух больших группировок народов и знати? Тацит, рассказывая в «Анналах» и «Истории» о том, что предпринимал Рим в течение I в. н. э., напротив, показывает, что римские полководцы умели использовать междоусобные войны в Германии и недисциплинированность германцев как преимущество, позволявшее брать добычу.
ГЕРМАНСКИЙ ИДЕАЛ ПО ТАЦИТУ
Через сто пятьдесят лет после Цезаря, создавая книгу «Германия» (около 99 г.), Тацит сдержанней говорил о ее сходстве с Галлией. Последняя была романизирована. Император Клавдий в 47 г. открыл ее видным гражданам доступ ко всем магистратурам Рима, и вскоре появились галльские семейства сенаторов, а также римских «всадников» – не исключено, что из одного из этих семейств и происходил Тацит, мысли которого были заняты лишь судьбой империи и римского мира. В 69 г. элита Галлии в массе своей отказалась примкнуть к восстанию одного германца, батава Цивилиса, друга, а потом врага Рима: она не увидела в этом выгоды{20}. После этого Рим смог дополнительно закрепиться на юге современной Германии, создав там провинцию Верхняя Германия.
На одной из страниц «Германии» Тацит замечает, что гражданские войны в этой стране – спасение для империи. Разве бруктеры не перебили друг друга на виду у римлян и словно «ради услаждения их глаз», как гладиаторы? «Самое большее, чем может порадовать нас судьба, – это распри между врагами»{21}. Современные комментаторы знают, что позже все закончилось «германским вторжением» в империю, и делают из этого вывод, что он этого опасался уже тогда – и что, увы, эти разлады лишь отсрочили вторжение. Но Пьер Грималь отметил, что, возможно, Тацит думал, скорей, о возможной аннексии Римом всей Германии. Во всяком случае Тацит, чередуя в этой неоднозначной книге хвалу и хулу, задавался как этим вопросом, так и другими. И в самом деле, по Германии I в. ездили римские купцы, а все вожди (duces) или цари пытались заручиться поддержкой Рима, чтобы утвердиться на своем уровне и расширить свою власть. Все это немного похоже на Галлию, какой она была за век до Цезаря. Не напоминала ли Верхняя Германия, где население соседних земель было раздроблено на группировки, тот плацдарм, каким когда-то стала Нарбоннская провинция?
Но Тацит в 99 г. начал с описания германского характера, близкого к тому, каким его изобразил Цезарь, и надо дойти до второй части «Германии», где поочередно представлены разные народы, чтобы обнаружить оттенки. «Ближайшие к нам знают цену золоту и серебру из-за применения их в торговле и разбираются в некоторых наших монетах, отдавая иным из них предпочтение»{22}. Что касается воинственных херусков, победивших в 9 г. Квинтилия Вара, они в настоящее время весьма миролюбивы{23}. Можно было бы сказать, что германский идеал у них в какой-то мере выродился. Он жив, скорей, среди хаттов, недавно побежденных Домицианом (83 и 88 гг.). Остается увидеть, до какой степени он внушил тем кровожадность (как жестокие привычки – свебам).
В целом Тацит как будто подтверждает взгляд Цезаря на германцев. Он даже подчеркивает их контраст с галлами, насмехаясь над двумя из галльских народов, их соседями за Рейном, тревирами и нервиями, которые хвалятся «германским происхождением». «Как будто похвальба подобным родством может избавить их от сходства с галлами и присущей тем вялости!»{24} Если во времена Цезаря соседство с германцами, война с ними на самом деле способствовали сохранению доблести, теперь в Галлии последняя пришла в крайний упадок. Германия Тацита еще более чурается внешних контактов, чем Германия Цезаря{25}, и почти столь же вынослива, по крайней мере если говорить об основных народах и не иметь в виду труд и стойкость к жаре{26}…
Германцев воспитывают в строгости, между свободными и рабами в это время различия почти не делается, и приближаться к девушкам им не позволяют. Они привычны к войне, целомудренны, гостеприимны и предпочитают жить в гордой изоляции{27}. «Возможности для <…> расточительства доставляют им лишь войны и грабежи. И гораздо труднее убедить их распахать поле и ждать целый год урожая, чем склонить сразиться с врагом и претерпеть раны; больше того, по их представлениям, потом добывать то, что может быть приобретено кровью, – леность и малодушие»{28}. Иными словами, они низко ставят тех, кто в поте лица на них работает, как рабы, посаженные на землю, данники, о которых речь пойдет ниже{29}, а собственно домашнюю работу предоставляют женщинам и детям{30}.
Тацит идеализирует их немного меньше, чем Цезарь. Разве он не замечает, очень к месту, что ведут войны они далеко не «всю жизнь»? Когда они не готовятся к войнам, они «много охотятся, а еще больше проводят время в полнейшей праздности, предаваясь сну и чревоугодию». Они, так сказать, впадают в спячку. Так что в них можно отметить «противоречивость природы»: одни и те же люди «так любят безделье и так ненавидят покой»{31}. Речь идет прежде всего о вождях (principes), которым «города» (народы) платят дань, чтобы удовлетворять их нужды. Но нет никаких сомнений, что имеется в виду целый класс воинов, то есть «свободнорожденных». Они растут вместе с рабами в умеренности, пока их не отделит «возраст», «пока их доблесть не получит признания»{32}. Очевидно, имеется в виду возраст получения оружия.
С этого момента они заняты делами, главные из которых – не только войны и даже не собрания, но не в меньшей степени пиршества, куда они приходят при оружии и где напиваются! В самом деле, вот еще одна черточка, ускользнувшая от внимания Цезаря: «потворствуя их страсти к бражничанью и доставляя им столько хмельного, сколько они пожелают, сломить их пороками было бы не трудней, чем оружием»{33}.
Таким образом, в страну воинской доблести проникают пьянство и леность. На самом деле, вопреки тому, что утверждал Цезарь, альтернативой были не земледелие и война, а земледелие и праздность в перерыве между войнами. Ведь в эти периоды, как мы видели, эти благородные воины сидели на шее у своих жен, детей и рабов. А проливали пот они только в теплых банях{34}.
«Германия» Тацита, рисуя гораздо более полную картину, чем труд Цезаря, подтверждает, что воинская доблесть, которую здесь проповедуют как альтернативу строгому послушанию, нуждается в некоторых стимулах.
Цезарь в шестой книге своей «Галльской войны» произносит похвальную речь германцам, сколь горячую, столь и краткую, из которой читатель в конечном итоге не может извлечь по-настоящему ярких образов или запоминающихся описаний. Тацит, напротив, – художник, который умеет добиться всего этого: ему по душе не только лапидарные формулировки, концептуальные противопоставления, но также броские картины и неожиданные повороты.
Например, в войне. Германцы почитают героя и бога, которого римляне интерпретируют как Геркулеса и Марса, «есть у них и такие заклятия, возглашением которых, называемым ими “бардит”, они распаляют боевой пыл, и по его звучанию судят о том, каков будет исход предстоящей битвы; ведь они устрашают врага или, напротив, сами трепещут перед ним, смотря по тому, как звучит песнь их войска, причем принимают в расчет не столько голоса воинов, сколько показали ли они себя единодушными в доблести. Стремятся же они больше всего к резкости звука и при этом ко ртам приближают щиты, дабы голоса, отразившись от них, набирались силы и обретали полнозвучность и мощь»{35}. Виконт де Шатобриан в 1809 г. заставил трепетать сердца французов, отправив своего героя Эвдора (одного из будущих мучеников) слушать в IV в. бардит франков в устье Рейна. И пророчить их будущую победу при Аустерлице (1805 г.)… не зная о Ватерлоо (1815 г.)!
Далее, «они берут с собой в битву некоторые извлеченные из священных рощ изображения и святыни; но больше всего побуждает их к храбрости то, что конные отряды и боевые клинья составляются у них не по прихоти обстоятельств и не представляют собою случайных скопищ, но состоят из связанных семейными узами и кровным родством; к тому же их близкие находятся рядом с ними, так что им слышны вопли женщин и плач младенцев, и для каждого эти свидетели – самое святое, что у него есть, и их похвала дороже всякой другой; к матерям, к женам несут они свои раны, и те не страшатся считать и осматривать их, и они же доставляют им, дерущимся с неприятелем, пищу и ободрение». И, «как рассказывают, неоднократно бывало, что их уже дрогнувшему и пришедшему в смятение войску не давали рассеяться женщины, неотступно молившие, ударяя себя в обнаженную грудь, не обрекать их на плен»{36}. Их мужья ни в коем случае не хотели, чтобы те попали в руки врага…
Многое здесь сказано или изображено с той восхитительной лаконичностью, которая столько раз встречается в произведении Тацита. Он противопоставляет армию как таковую типа римской, где боевые части некоторым образом «составляются по прихоти обстоятельств» – и скреплены дисциплиной и жалованьем, – германской армии-народу, где приходит в движение все общество, где сражаются из доблести, которую укрепляют мольбы близких. Присутствие женщин, побуждающих к бою, отмечено и другими греко-римскими авторами (прежде всего Страбоном). Даже если в малых междоусобных войнах между германскими народами женщины таким образом не присутствуют, в этих войнах все равно действуют настоящие социальные группы, которые Тацит описывает то как сборные отряды из ста человек от «округа» (общественный институт), то как дружины военных вождей, где царит дух здорового соперничества в храбрости. Мне кажется, что требуется название, специфический концепт, чтобы противопоставлять такую группу профессиональной или постоянной армии; и поскольку это явление в Средние века часто обнаруживается вновь под названием ост, я далее и буду использовать этот термин.
В самом деле, идет ли речь об общественном осте{37} или о дружине вождя (princeps){38}, смелость воинам внушают лишь чувство чести и страх бесчестия.
И однако мы видим, как на этой большой сцене, где присутствуют женщины и дети, эти гордые воины приходят в замешательство и нужен голос женщин, чтобы укрепить их мужество. Что касается демонстрации ран, она снова доказывает роль женщин – но в конечном счете имеет неоднозначный характер, ведь матери и супруги тоже вполне могут счесть, что уже довольно сражаться. И так бывало – например, в «Песни о Рауле Камбрейском», сочиненной во Франции в XII в., когда Готье и Бернье достаточно истекли кровью, чтобы героиня, призывавшая к мести, сменила тон и стала проповедовать мир{39}.
Умение выдержать столько мучительных зрелищ было добродетелью этих свирепых женщин, которые распаляли смелость мужчин. Впрочем, разве в приданое германской супруги не входило оружие? Это мужское приданое, то, что мы называем douaire, «и недопустимо, чтобы эти подарки состояли из женских украшений и уборов для новобрачной, но то должны быть быки, взнузданный конь и щит с фрамеей и мечом». Оружие для молодой жены! Не то чтобы она носила его сама, как воительница, достойная амазонок. Эти священные знаки напоминают ей, что она должна жить одной душой с мужем, с вооруженными сыновьями, побуждать их проявлять воинскую доблесть. «Так подобает жить, так подобает погибнуть; она получает то, что в целости и сохранности отдаст сыновьям, что впоследствии получат ее невестки и что будет отдано, в свою очередь, ее внукам»{40}.
А если сыновья и внуки при этом не будут иметь очень сильного характера, женщин в этом упрекнуть будет нельзя. Тацит неопределенно говорит о происхождении оружия, передаваемого во время «посвящения в воины». Когда «в народном собрании (concilium) кто-нибудь из старейшин, или отец, или родичи вручают юноше щит и фрамею»[8]8
Фрамея – вид копья.
[Закрыть],{41}, происходит ли это оружие из приданого матери? По меньшей мере в некоторых случаях, если не всегда? Тацит настаивает, что таким образом юношу допускают не только к войне, но вместе с тем и к общественной жизни, ко всем делам. По его словам, это как тога для (знатного) римлянина: «до этого в них видят частицу семьи, после этого – племени». Выше я указывал на сходство этой ситуации с тем, что говорил Цезарь об отцовской власти у галлов, контрастирующей прежде всего с греко-римской системой воспитания. Нужно, чтобы «племя», «город» признали молодого человека способным носить оружие, без которого не ведутся «любые дела – и частные, и общественные».
А во время войны это оружие потерять нельзя. Бросить щит – «величайший позор», и виновный в этом не допускается к религиозным церемониям и даже на «народные собрания»{42}.
Итак, вручение оружия побуждает юношу отличиться на войне. Нет явственного следа какого-либо предварительного испытания, тем более «инициации». Если нужны испытания, они происходят после вручения оружия, в последовательности, характерной и для средневекового посвящения в рыцари, – и обратной инициационным обычаям. Кстати, очень симптоматично, что Тацит, описав, что отныне молодой человек принадлежит племени, как римлянин, предназначенный в магистраты, сразу же изображает, как этот молодой человек вступает в дружину, которая поразительно напоминает дружину средневековых вассалов.
«Выдающаяся знатность и значительные заслуги предков даже еще совсем юным доставляют достоинство вождя» – или, может быть, «милость вождя»?{43} «Все прочие собираются возле отличающихся телесной силой и уже проявивших себя на деле, и никому не зазорно состоять их дружинниками».
Точно та же проблема встанет в связи с мешаниной зависимостей и понятий о чести в «феодальном» оммаже. Здесь, правда, ритуала оммажа нет, но есть некое подобие «присяги»{44}, а также «звания» в дружине, которые дает вождь. Только это и помогает нам не спутать сотый год с тысячным[9]9
В «феодальном обществе» если и есть звания, они связаны с размером владений (то есть честь имеет очень материальный характер).
[Закрыть].
Отмечено также, что в эти элитные отряды кого попало не допускают. Престиж предков, заслуги отца, то есть признанные достоинства, репутация в обществе – вот критерий отбора. И, несомненно, память о предках в то же время побуждает искать возможности блеснуть. Так что во мнении общества знатность и доблесть должны ассоциироваться друг с другом[10]10
Несмотря на нюанс, указанный в главе 7 (с. 461): «Царей они выбирают из наиболее знатных, вождей – из наиболее доблестных».
[Закрыть]. По крайней мере всё рассчитано на то, чтобы эта ассоциация выглядела естественной либо ее «обнаруживали» в большинстве случаев.
«И если дружинники упорно соревнуются между собой, добиваясь преимущественного благоволения вождя, то вожди – стремясь, чтобы их дружина была наиболее многочисленной и самой отважною»{45}.
Далее, в сражении – или, скорее, в «схватке»{46}: «Постыдно вождю уступать кому-либо в доблести (virtus), постыдно дружине не уподобляться доблестью своему вождю. А выйти живым из боя, в котором пал вождь, – бесчестье и позор на всю жизнь; защищать его, оберегать, совершать доблестные деяния, помышляя только о его славе, – первейшая их обязанность»{47}. Такой подход сосредоточивает все внимание на вожде (princeps) в ходе схваток, во время которых, видимо, их участники успевают замечать и некоторым образом подсчитывать подвиги. Особо отметим, что этот институт дружины, превознося доблесть вождя, предъявляет к нему строго те же самые требования, что и к его «дружинникам». Он выдерживает испытание в глазах общества и состязается с другими вождями. Именно в этом германское общество особенно отличается от Римской империи, сближается со всеми «ранними» воинскими культурами Америки, Африки и Евразии и предвосхищает средневековое рыцарство.
Итак, стимул для всех – честь. Тем не менее нужны и ощутимые компенсации, чтобы конкретизировать честь или обеспечить получение некоторого удовольствия после совершённых усилий. «Содержать большую дружину можно не иначе, как только насилием и войной; ведь от щедрости своего вождя они требуют боевого коня, той же жаждущей крови и победоносной фрамеи; что же касается их пропитания и хоть простого, но обильного угощения на пирах, то они у них вместо жалованья». В конечном счете «возможности для подобного расточительства доставляют им лишь войны и грабежи»{48}. Бывает ли, чтобы воинская честь предполагала полное безразличие к материальным благам? Существует ли чистая духовность воина?
Простодушные и грубые, если верить Тациту, эти германцы сотого года были ограничены в вооружении. Защита слабая: никакого панциря, кроме щита. Никакого изощренного оружия, кроме копья, которое называли фрамеей, и дротика. И конница у них не имеет решающего значения и чрезмерной мощи – она смешивается с пехотой. Фактически Тацит не говорит ни о каком превосходстве конного над пешим. Оба соседствуют и взаимодействуют в бою. Некоторые народы Германии лучше проявляют себя как кавалеристы, другие – как пехотинцы, и это не прибавляет гордости и славы первым в ущерб вторым{49}. Конница не имеет столько старших козырей, сколько получит в Средние века: у нее нет стремян, и кони посредственного качества{50}.
Однако находится ли она в небрежении? И не стоит ли особо подчеркнуть, прежде всего для древних галлов (до эпохи Цезаря, когда они еще имели германские черты), а также для их германских кузенов, ее роль и еще в большей мере символическое значение коня, его важность для престижа? Разве знатные «дружинники» вождя, возвращаясь с почетной службы, то есть из боя, не требовали «от щедрости своего вождя <…> боевого коня», а кроме того, «той же жаждущей крови и победоносной фрамеи»{51}?Это сказано намеками – тем не менее сказано.
Есть, конечно, различия и между народами Германии, и между сведениями Тацита о них. Таким образом, аристократические тенденции могут быть выражены сильней или слабей. Но было ли время, когда бы они вообще отсутствовали? И с германцами Тацита, и со многими воинственными «варварскими» народами в изображении греко-римских историков, такими как галлы Страбона или, позже, аланы и гунны Аммиана Марцеллина, дело обстоит одинаково: все горят боевым пылом, все воспитаны для войны, то яростные, то доблестные воины, всегда имеющие какой-то зрелищный воинственный обряд или обычай, они всякий раз с первого взгляда кажутся единым социальным телом. А ведь в этом, несомненно, сказывается их идеология, которая превозносит солидарность как принцип или сводит общество к его элите, не замечая тех, кто по преимуществу прислуживает или трудится. И это, бесспорно, общество, где доминирует более или менее многочисленная элита (как точно оценить ее долю?).
Во всяком случае один германский институт имеет откровенно аристократический характер, – это дружина, рассмотренная Тацитом. Многими чертами она напоминает сборный отряд добровольцев, о наборе которых у германцев писал еще Цезарь{52}. Тем не менее складывается впечатление, что здесь имеются в виду более институциональные и формализованные узы, не столь зависящие от собраний отдельных народов. Есть соблазн предположить, что это связано с неким новым развитием функций германских вождей, возможно, особо ощутимым у восточных германцев, «князья» которых богатеют на торговле янтарем{53}.
«Германия» Тацита упоминает о наборе дружинников из разных народов («общин»). Это межэтническая элитарность. «Если община, в которой они родились, закосневает в длительном мире и праздности», – значит, в этой стране, помешанной на войне, бывает и такое, – «множество знатных юношей отправляется к племенам, вовлеченным в какую-нибудь войну»{54}. Поэтому Тацит снова повторяет: «Потому что покой этому народу не по душе, и <…> среди превратностей битв им легче прославиться». Но, может быть, это прежде всего господствующий класс испытывает или афиширует такую неприязнь к покою?
Особенно для вождей «их величие, их могущество состоит в том, чтобы быть всегда окруженными большой толпой отборных юношей, в мирное время – их гордостью, на войне – опорою. Чья дружина выделяется численностью и доблестью, тому это приносит известность, и он прославляется не только у себя в племени, но и у соседних народов». Самые знаменитые вожди принимают посольства и дары, и молва о них «чаще всего сама по себе предотвращает войны»{55}.
На основе данных этой страницы можно задаться вопросом, насколько жесткими были этнические границы между разными германскими «народами». Когда эти юноши стекаются к вождям, переходят ли они из одного народа в другой? Народы, без сомнения, не напрасно состязались меж собой в смелости: речь шла об их судьбе, об их привлекательности для отборных благородных воинов.
Такая мобильность тем правдоподобней, что, в конечном счете, общественные институты каждой из этих «общин», которые Тацит называет также «народами», не в полной мере достигают могущества институтов средиземноморских городов, греческих и римских. Они, в сущности, выглядят больше похожими на институты Галлии, где, на взгляд Цезаря, патроны клиентов гораздо важней должностных лиц и соединяют один город с другим функциональными связями. И, однако, обладают ли они стабильностью этих галльских городов, организующих всю жизнь на своей территории, руководящих сложным комплексом с наличием торговли, ремесла и крепостей, чего в Германии еще нет?
Однако сродство между германским народным собранием (concilium) и собранием в Галлии времен Цезаря очевидно. «Когда толпа сочтет, что пора начинать, они рассаживаются вооруженными. Жрецы велят им соблюдать тишину, располагая при этом правом наказывать непокорных. Затем выслушиваются царь и старейшины в зависимости от их возраста, в зависимости от знатности, в зависимости от боевой славы, в зависимости от красноречия, больше воздействуя убеждением, чем располагая властью приказывать». Решения отвергаются ропотом либо санкционируются звоном оружия{56}.
Точно так же принимается решение о выступлении армии или, скорее, оста на войну, которую решило объявить собрание такого рода[11]11
Там действительно обсуждаются «значительные дела».
[Закрыть]. Вожди воздействуют примером, а не настоящим приказом, они не имеют imperium'a типа римского{57}. Чтобы вести за собой воинов, нужно, чтобы они сражались впереди сами, «скорей увлекая примером и вызывая их восхищение». «Впрочем, ни карать смертью, ни налагать оковы, ни даже подвергать бичеванию не дозволено никому, кроме жрецов, да и они это делают как бы в наказание и не по распоряжению вождя, а якобы по повелению бога, который, как они верят, присутствует среди сражающихся»{58}. Помимо того, в осте нужны святыни и голоса женщин.
Нельзя сказать, чтобы германские вожди вместе с теми, кто примкнул к ним из-за их достоинств – и, может быть, также благодаря раздаче предметов роскоши, – образовали частные клики, подрывая единство «общины». Напротив, они, похоже, представляют собой становой хребет таких «общин», чья стабильность и судьба должны во многом зависеть от них[12]12
Далее мы увидим, что даже для Средних веков противоречие между «частным» вассалитетом и «общественными» институтами историческая схоластика преувеличила.
[Закрыть].
На «народные собрания» собирался народ, организованный в «области и паги» (Цезарь) или в «округа и селения» (Тацит)[13]13
Записки Юлия Цезаря... VI, 23: «principes regionum aut pagorum» (старейшины областей и пагов); Германия, 12 (с. 464): «per pagos vicosque» (в округах и селениях). [Переводчик Цезаря слово pagus перевел как «паг», переводчик Тацита – как «округ»; у Д. Бартелеми это pays (страна) – Прим. перев.)
[Закрыть]. По мнению Цезаря, эта местная организация имела даже первостепенную важность: в мирное время не было общего магистрата, а только суд старейшин (principes) на этом местном уровне. У Тацита народное собрание выглядит уже более сильным, ведь оно вершит суд как по тяжелым обвинениям, так и за мелкие проступки. Это собрание назначает также старейшин и их помощников в количестве ста человек, «из простого народа», чтобы творить правосудие на местном уровне. Несомненно, эти же люди, сто человек, представляют собой базовое подразделение германского оста, которое сражается пешим{59}. «Сотня» позже появится у народов раннего Средневековья.
Иначе говоря, одни и те же институты и одни и те же люди использовались и для войны, и для суда. Эта особенность будет встречаться также в истории раннего и среднего Средневековья, во всяком случае по XII в., и я думаю, это позволяет мне во всем тексте эссе использовать слово «ост» вместо «армии» и plaid вместо того, что было одновременно «собранием» и «судом», – но безо всяких современных коннотаций этих двух терминов.
Оба этих института взаимно дополняют друг друга. С другой стороны, оба они представляют собой не более чем отростки – или, скорей, центры, сильные доли такта – социальной жизни, ведь не было ни профессиональных воинов, ни профессиональных юристов, ни постоянных и замкнутых военных и судебных институтов. Система взаимосвязанных оста и plaid'a{60} образует именно рамку, где формируется германский идеал, который позже будет воспроизведен и развит в виде рыцарского идеала. Или, если угодно, скажем так: эти идеалы могут и должны воплотиться, чтобы выполнить всю свою социальную функцию. Воин – это всегда правитель, и в этом аспекте наглядней всего соединяются война и правосудие, а значит, сила и право.
Но следует ли говорить о настоящем правосудии в отношении общества, которое допускает и поощряет месть?