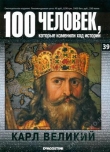Текст книги "Рыцарство от древней Германии до Франции XII века"
Автор книги: Доминик Бартелеми
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 47 страниц)
Раймон явно не предпринимал ничего, чтобы вернуться на родину. Его привела туда цепочка событий. Попав в плен к сарацинам Берберии (западной ее части), он поступил на службу к ним. Его снова захватили кордовские сарацины и снова нашли ему дело. Всех поражала его отвага, но всегда ли он боролся до конца? Он искусно владел щитом и, несомненно, столь же искусно вел переговоры о переходах с места на место. Стоило одному кастильскому графу взять его в плен, как он вернулся в свою страну. Раймону осталось только соединиться с Гуго Эскафредом и воззвать к святой Вере Конкской, чтобы изгнать узурпатора и прожить остаток дней в мире. Ему все-таки повезло найти такую поддержку, хотя он был на волосок от того, чтобы убить христианского героя вроде графа Эрменголя (даже если бы потом стал почитать его реликвию). Но его снова приняли в общество, после того как он признался во всем этом, слегка обелив себя сказкой о периодическом покровительстве святой Веры, сказкой, последовавшей за пересказом истории, которая была шита белыми нитками, однако, расцвечена многочисленными признаниями его доблести со стороны сарацин… во время сомнительных сражений!{323}
Достоинство таких рассказов, как «Чудеса святой Веры» и некоторые другие, состоит в том, что они местами высвечивают целые теневые зоны в жизни мелкой аквитанской знати. Ведь в них показаны очень конкретные заботы мелких и средних рыцарей. Одного обманул сеньор, дав в долг сокола в надежде, что тот потеряет птицу и в результате будет лишен фьефа; другой облысел и из-за этого лишился уважения представителей своего класса{324}. У некоторых не хватило денег, чтобы расплатиться за лошадей и мулов, которых им ссудили и которые околели по дороге. Каждого из них святая Вера Конкская выручает из беды, спасает ему честь и, следовательно, жизнь, по-настоящему не отчитывая их и не ставя под сомнение классовые обычаи. Нередко рыцарей к ней посылают жены, и важно, что здесь отмечена их социальная роль.
Зато мельком поминается, что некоторые рыцари грабили церковные земли, а также говорится о поместном соборе Божьего мира{325}. Пробил ли на этом соборе час большого пересмотра ценностей? Мы увидим, что такого пересмотра не произошло – или почти не произошло. То, что мы называем «Божьим миром», ни в Аквитании, ни в других местах не привело к установлению всеобщего мира между христианами, который позволил бы им отправиться завоевывать Испанию или Иерусалим под водительством короля Роберта и герцога Гильома, с головой святого Геральда Орильякского и под знаменем святой Веры Конкской. Вассалы по-прежнему подстерегали друг друга и конфликтовали на глазах у сеньоров и святых. Посмотрим же, что такое «Божий мир»[89]89
Который современники называли не так – были только «Божьи plaid'bxo и «мирные договоры»; «Божье перемирие» (treve de Dieu), зародившееся в 1030-х гг. в Каталонии, распространившееся к 1040-м гг. в Бургундии и, может быть, раньше 1060 г. во Франции, тоже называют «Божьим миром».
[Закрыть].
«БОЖИЙ МИР» И ВОЙНА КНЯЗЕЙ
Клятвы тысячного года, называемые клятвами «Божьего мира», известны, особенно после 1860 г. С тех пор часто полагали, что в условиях полной феодальной анархии или феодального варварства Церковь, передовым отрядом которой был Клюни и которая реформировала жизнь монахов, а вскоре и священников, внезапно вознамерилась реформировать также «мирскую службу». Якобы последней она дала за образец доброго графа Геральда, никогда не грабившего, и заставила, под священным страхом перед реликвиями святых, принести клятвы, из которых сформируется первый рыцарский кодекс.
Однако это представление, возникшее в Новое время, чрезмерно драматизирует и беспорядок, и обращение к сакральному. Рыцари тысячного года соблюдали, как мы только что видели, определенный набор правил, и они умели вести сложные переговоры. Клятвы, которые они давали, никогда не были просты. Они всегда содержали важные оговорки, они подразумевали казуистику – правда, это были клятвы верности сеньорам, но то же можно сказать и о клятвах «Божьего мира».
Средства давления у Церкви были точно такими же, какие, как мы только что видели, она использовала против «расхитителей» или «угнетателей» церковных сеньорий, и совершенно естественно, что на «мирные» соборы привлекали рассказами о чудесах, поскольку по приказу епископов и с согласия графов туда в форме процессий приносили реликвии святой Веры, или святого Бенедикта, или многих других святых. Это был важный социальный и религиозный акт в каролингской традиции, ведь тогда существовал обычай, чтобы на региональных (или епархиальных) соборах присутствовали также миряне и прежде всего власть имущие: они выслушивали наказы епископов и обсуждали частные вопросы, вели переговоры. Для князя тысячного года, как уже для меровингских королей, было важно, чтобы его увидели рядом с епископами. Собирание реликвий упоминает в одном месте еще Григорий Турский{326}.
Таким образом, те, кто воображает, что соборы «Божьего мира» вызвали широкое народное и антифеодальное движение, полностью искажают картину – особенно если добавляют к ней неуместный штрих «милленаризма». Эти соборы, начиная с соборов 989 г. в Пуату (в Шарру) и на границах Оверни (в Пюи-ан-Веле), а потом в других областях, к сожалению, известны нам лишь по обрывочным сведениям, по неполной документации; неоспоримо, что епископы пытались там оказать усиленное давление на рыцарей, так же как на весь клир и народ, с реформаторскими намерениями. Их декреты предписывали одновременно реформу духовенства, защиту права собственности от расхищений, охрану невооруженных лиц и священных мест (церквей). Все это не ново, все это можно найти в каком-нибудь каролингском капитулярии (и еще в решениях собора 919 г. в Трозли, в Реймской провинции). Однако на сей раз явственно отдали приоритет вопросу злоупотреблений, «побочного ущерба» от феодальной войны, сделав на них особый акцент.
В 989 г. на соборе в Шарру повелели: «Если кто-то захватит баранов, быков, ослов, коров, коз, козлов или свиней у земледельцев и прочих бедняков, да будет он предан анафеме – если только это не совершено из-за провинности самого бедняка и если только захватчик ничего не сделал, чтобы загладить свою вину»{327}. Это обращение явственно адресовано классу знати: собор стремится запретить ему косвенную месть. В самом деле, первая оговорка относится к прямой мести этого класса или к его суду. Вторая предполагает, что до применения столь тяжелой меры, как анафема, будет сделано несколько суровых предупреждений.
Мы знаем от Адемара Шабаннского (по сообщению, датированному самое позднее 1021 г.), что аквитанские рыцари, кроме того, давали клятвы. Тексты таких клятв до нас дошли, но это клятвы, которые принесли в Бургундии и во Франции по примеру аквитанцев. От Вьенна и Вердена-сюр-ле-Ду в Суассоне до самого Дуэ, несомненно, использовался один образец текста, отдельные поправки к которому высшее духовенство и сеньоры обсуждали в каждом диоцезе. Например, иногда епископ требовал такой клятвы только от рыцарей (caballarii), «носителей мирского оружия»[90]90
Собор во Вьенне: ibid. P. 439.
[Закрыть], иногда желал придать ей более общий характер и приносил ее сам.
Дававший подобные клятвы полностью исключал для себя те поступки, которые осуждали соборы: нарушение права убежища в церкви, какой бы они ни была, нападение на клириков и сопровождающих их лиц и захват их в плен (с тех пор, как они более не носили ни копья, ни щита, сообразно теории двух служб{328}), расхищение и обложение налогом имущества Церкви и особенно любые акты косвенной мести – захват скота, овса, нападение на крестьян и пленение их, разрушение домов и уничтожение инвентаря. Однако, как часто отмечали, здесь красноречивы оговорки; они рассчитаны на то, чтобы в негативной форме отметить те военные и судебные действия, которые допустимы – или, во всяком случае регулируются другими нормами, вероятно, другими клятвами, помимо тех, что предписали бургундские епископы. «Я не сожгу дом, – клянется рыцарь, – если только не узнаю, что там находится рыцарь – мой враг, или же вор, либо если этот дом не примыкает к замку»{329}. Дающему клятву не запрещены наказания и разрушения в своей сеньории (аллоде или фьефе). Это кажется почти нормальным, правда, формула упоминает «землю, о которой я знаю, что она по праву принадлежит мне». Иными словами, землю, на которую он претендует, землю, на его взгляд, несправедливо отнятую у него самого. Кроме того, война, которую ведет граф, епископ, король, временно отменяет все обязательства или часть их. Наконец, статьи об убежище в церквах, безопасности безоружных путников недействительны в отношении «нарушителей мира» – того самого, соблюдать который дается клятва и для которого по необходимости будет существовать собственная юрисдикция (епископская).
В целом ни право феодальной собственности, ни право мести, никакое из самых общих оправданий феодальной войны под сомнение не поставлены. Явно выраженная феодальная идеология, выдающееся место знатного воина в схеме трех сословий[91]91
Как ее воспроизвел тогда епископ Адальберон Ланский: Adalberon de Laon. Poeme au roi Robert... V. 275-305.
[Закрыть] ничуть не пошатнулись, а, скорей, укрепились. В крайнем случае можно почувствовать, что те, кто вдохновлял авторов этих текстов (бесспорно, клирики, заинтересованные в реформе), хотели уязвить феодальный порядок в том месте, где была «мертвая зона» его идеологии, принципиально важная для них: ведь на практике сеньоры – «защитники» церквей и их крестьян могли нападать на последних под предлогом, что те связаны с другими сеньорами. Но, может быть, и этого было достаточно, чтобы дать выход недовольству простонародья знатными воинами, поддержать его?
Есть ощущение, что такое иногда происходило.
Но ни по форме, ни по принципу действия, равно как и по сути, «договоры» и «клятвы», как называли их современники, в Аквитании, а потом в Бургундии не порывали напрочь с феодальной практикой. Они приспосабливались к ней. В самом деле, они, как всякий мирный договор, одновременно объявляли мир между теми, кто к нему присоединился, и давали повод к войне с теми, кто отказался его подписать, либо с теми, кого обвиняют в его несоблюдении. Несомненно, войну никто не начинал внезапно (как сразу же не провозглашали анафему): этому предшествовали угрозы и попытки оказать давление. Адемар Шабаннский изображает Лиможский собор 994 г. как мирный договор между сеньорами страны, заключенный под эгидой герцога Гильома. А постановление собора в Пуатье, несомненно, состоявшегося в 1000 г., предписывает всем поклявшимся более не разрешать свои конфликты из-за собственности вооруженной силой и добиваться, чтобы все прибегали к суду. Эта статья заходила дальше обычного (позже ее редко будут воспроизводить), потому что лишала феодальную войну самого привычного мотива. Но она же давала слишком много прав и мало-мальски амбициозным поборникам мира, поскольку предполагала создание военных коалиций против упорствующих.
Адемар Шабаннский – твердый сторонник этих договоров в Лимузене, но проповеди, которые он произносил о них, проникнутые заботой о справедливости и пересыпанные призывами к святому Марциалу и к Богу, удивительно не соответствуют тому скромному месту, которое он отводит им в своей «Хронике» Аквитании. Он упоминает только лиможские договоры, начиная с договора 994 г. «В те времена Лимузен объяла огненная чума [отравление спорыньей]. Тела бесчисленных мужчин и женщин пожирал незримый огонь, и повсюду земля содрогалась от плача»{330}. Это знак гнева Божия, в духе библейского Второзакония, предостережение людям – которое можно было бы счесть близким к косвенной мести, когда серва убивают за провинности знати.
Аббат Сен-Марсьяля и епископ Хильдуин Лиможский «по совету герцога Гильома» наложили наказание и созвали собор епископов и реликвий. И эпидемия прекратилась, вернулась радость, и «мирный договор, со справедливостью [правосудием], объединил во взаимном согласии герцога и вельмож»{331}.
Жаль, что Адемар Шабаннский обошелся без подробностей. Он только пишет, что впоследствии Хильдуин часто старался не допускать «рыцарских грабежей, ущерба, наносимого беднякам», накладывая духовные санкции («отлучение», а, скорей, интердикт, на землю первых). Но тем не менее этот епископ в качестве владельца церковной сеньории сам был поджигателем войны. Мы уже читали, что он с одобрения герцога и при поддержке своего брата, виконта Ги, возвел замок Боже для борьбы с сеньором Шабане. Лучший ли это способ добиться, чтобы ни один бедняк области не страдал от грабежей, учиняемых всадниками?
И можно ли исключить, что эта «война Боже», происходившая с 1010 по 1015 г. и не без драматических перипетий выигранная братьями Шабане, в которой последние со своим «элитным отрядом» столкнулись с «массой»{332}, набранной в Лиможе и окрестностях благодаря епископу, велась во имя мирного договора?
Эта история предварила «войны во имя мира» (guerres de la paix) 1030-х гг. в Берри, о которых рассказывает Андрей Флерийскии – сначала восторженно, а потом озадаченно. Институт, о котором он повествует, – «мир, основанный на клятве» и предписанный собором: несомненно, имеется в виду то, что мы называем Божьим миром. Андрей сразу же описывает этот мир как мобилизацию: «все мужчины от пятнадцати лет и старше» должны были подняться против нарушителя мира, прежде всего посредством уплаты налога, а при надобности и «с оружием в руках». То есть на войну отправятся не только всадники, но и многочисленный ост, состоящий из пехотинцев и включающий даже священников, несущих хоругви святых на их реликвиях, что немного напоминает войну с маврами.
Так вот, в описании Андрея Флерийского этот «институт мира» выглядит разрушительным. Архиепископ Аймон уже не говорит, что чудесные кары избавляют бедняков от необходимости вооружаться против рыцарей-грабителей: пробил час народного ополчения, и Андрей Флерийскии какое-то время, в обилии подкрепляя свои слова библейскими стихами, славит тот час, когда смиренные обращают в бегство гордых. А ведь враг, названный в тексте клятвы Аймона, – только расхититель церковного имущества и утеснитель клира. И в ост мира входит определенное число рыцарей, начиная с самого виконта Буржского, союзника архиепископа.
Этот ост мира выступает в поход на замки, откуда их сеньоры и обитатели бегут. Однако в одном замке, Бенециануме, воины мира находят укрывшихся там крестьян, а также жену и детей сеньора, который сам бежал. Так вот, они не принимают капитуляции и устраивают резню. После этого потрясенный Андрей Флерийский уже не ждет ничего иного, кроме как Божьей кары за Божий мир. Она совершается 18 января 1038 г., когда этот кровожадный ост неосмотрительно переходит реку Шер, вступив в земли могущественного Эда Деольского. Этому сеньору недостает рыцарей, но, чтобы обмануть врага, «он додумывается на лошадей, каких придется, посадить пехотинцев и разместить их среди рыцарей». Ост мира пугается, несмотря на хоругви, которыми размахивают священники, разбегается и во время переправы через Шер терпит сокрушительный разгром{333}.
Получается, что мирный договор здесь был только способом ужесточить феодальную войну. Или, точнее, утвердить верховенство сеньоров города над остом, расширенным за счет пехоты, в которой, возможно, надо усматривать уже поднимающуюся буржуазию – во всяком случае по аналогии с «коммуной» Ле-Мана 1070 г., история которой немного напоминает описанную{334}.
До тех пор феодальные войны, следуя очень старым нормам посткаролингских вассалитета и христианства, должно быть, щадили жизнь и потомство не только знати, но и крестьянского класса, а также богатство страны. Следствием этого был рост сельского населения, а благодаря этому начался рост и городского населения вместе с бургами, разраставшимися перед внешней стеной всех городов, которые война всегда лишь слегка задевала.
Но если силы, базирующиеся в городах и при необходимости присоединявшиеся к силам региональных князей, в XI в. действовали заодно, не вело ли это к ужесточению войн?
Так называемые правила и клятвы «Божьего мира» и даже «Божьего перемирия», которое будет упомянуто далее, не слишком стремились сдерживать князей в их войнах. Действительно, в них несколько раз делалась оговорка, касающаяся войны короля, графа или епископа, как верно отметил Филипп Контамин{335}. Клятва в Вердене-сюр-ле-Ду (1019/1021) – одна из самых знаменитых. А ведь там открытым текстом упоминается незаконный замок, который вместе с королем, епископом или графом надо идти и осаждать. В этом случае реквизиции у вилланов не запрещаются, и даже, уточняет рыцарь в клятве, «находясь в рядах такого оста, я не нарушу иммунитета церквей [огороженных мест, где действует право убежища], если только мне не откажутся продать или предоставить провизию»{336}.
Прежде всего, как хорошо видно на примере Аквитании, эти мирные договоры, применявшиеся в принципе ради блага Церкви в течение двух веков (XI и XII вв.) своего периодического или локального действия, укрепляли короля и князей в роли покровителей, правда, кроме как в Центральном массиве, где князя больше не было. Там политической властью обладали епископы, которые в основном и помогали друг другу, пока в самом начале XII в. не призвали на помощь капетингского короля. Но Церковь чаще всего имела склонность одобрять, поддерживать действия князей, она была в этом заинтересована. Она была терпимей к их войнам, чем к любой другой, с меньшими колебаниями способствовала им, даже оправдывала их, а то и провоцировала…
Не сводился ли «рост насилия», которого следовало опасаться с тех пор, в XI и XII вв., в основном к разрастанию этих самых княжеских и королевских «войн»?
В самом деле, многих хронистов смущало число жертв, к которым порой приводили сражения между королями и князьями. Почему соборы «Божьего мира» не объявляли анафему организаторам этих сражений? Разве не это следовало сделать в первую очередь в случае войны между христианами?
СРАЖЕНИЯ МЕЖДУ КНЯЗЬЯМИ
Надо сказать, что эти сражения происходили редко и что они не раз давали повод для покаяния из-за убийства христиан христианами. Если соборы тысячного года не упоминали это преступление открытым текстом, если они предпочитали негодовать по поводу косвенной мести, то есть грабежей крестьян, совершаемых воинами, то потому, что такое случалось гораздо чаще и встречало в обществе гораздо меньше осуждения.
Феодальная война была по сути сезонной, и ее содержание сводилось, как мы видели, к набегу на земли противника и осаде одного из его замков. Эти операции, направленные против конкретного противника, перемежались общими разглагольствованиями, и отряды, осты, «обмениваясь» враждебными акциями, избегали прямых столкновений – либо уклоняясь от них, либо вступая в более или менее искренние переговоры{337}.
Тем не менее за первый феодальный век у нас есть пять-шесть рассказов о сражениях королей и князей, которые историк войны и рыцарства должен отчасти принимать во внимание и может широко использовать.
Можно предположить, что до нас дошли отголоски именно самых громких и прославленных битв, о которых больше всего спорили. В таком случае досье сражений первого феодального века включало бы два различных и показательных аспекта.
Вот прежде всего рассказы и мнения о сражении при Суассоне. 15 июня 923 г. короли-соперники, Карл Простоватый и Роберт I (брат Эда, дед Гуго Капета), сошлись в кровавом бою; Роберт был убит, но поле сражения осталось за его сыном Гуго Великим, прибывшим с подкреплениями. После этого короля выбрали из третьего семейства – герцогов Бургундских. Собор епископов в Реймсе потребовал покаяния за эту битву; Филипп Контамин обоснованно настаивает, что такой собор имел место{338}. Таким образом, войны между каролингскими королями подверглись некоему подобию церковного осуждения. Одно послание монаха Рабана Мавра воспроизведено в рейнских пенитенциалиях X и XI вв. и утверждает, что даже в войне, ведущейся по велению князей и рассматриваемой как Божий суд, проявляется слишком много алчности{339}.
С другой стороны, прецедент этого кровавого сражения, данного в воскресенье и имевшего крайне неоднозначный исход, возможно, объясняет, почему больше не было боев между Каролингами и Робер-тинами или с участием трех первых Капетингов. На рубеже тысячного года монахи Рихер Реймский и Адемар Шабаннский пересказывают интересные легенды о Суассонском воскресенье 923 г.{340} Даже если они были придуманы или, может быть, подправлены к тому времени, это все-таки свидетельства некой психической травмы ив то же время существования героического идеала, о котором уже шла речь.
Другие битвы из досье первого феодального века – это победы графов Анжуйских. По мере этих побед графы усиливались за счет соседей из Бретани, Блуа и Аквитании. При Конкерéе 27 июня 992 г. Фулька Нерра не привела в смятение гибель его конницы, в самом начале боя попавшей в ямы-ловушки, и к концу этого кровавого дня его противник, бретонский граф Конан, был убит. Эта история наделала шуму, и рассказы Рихера, Рауля Глабера{341}, а также нантская и анжуйская хроники равно сообщают о западне в начале боя, даже если расходятся в сведениях о Конане и Фульке. Последний, искупая убийства, вину за которые возложили на него, сделал дары монастырям и даже сходил в паломничество в Иерусалим. Однако 6 июля 1016 г. он совершил рецидив, дав графу Эду II Блуаскому сражение при Понлевуа, на реке Шер, в ходе которого погибли сотни бойцов. Эта резня упоминается немцем Титмаром Мерзебургским, до которого дошли слухи о трех тысячах погибших. Однако единственный подробный рассказ об этом бое, имеющий анжуйское происхождение и позднейший, приписывает инициативу сражения графу Блуаскому и признает заслугу победы за графом Ле-Мана Гербертом Разбуди-Собаку (будущим узником Сента, по Адемару Шабаннскому!{342}), чья поддержка имела решающее значение. Это впоследствии сын Фуль-ка Нерра, Жоффруа Мартелл, граф Анжуйский с 1040 по 1060 гг., оправдал свое прозвище[92]92
Martel – на старофранцузском «молот» Прим. пер..
[Закрыть] серией побед над аквитанцами (с 1033 г.) и решительным успехом 21 августа 1044 г. в бою с графами Блуаскими при Нуи, в Сен-Мартен-ле-Бо. Там он взял в плен Тибо Блуаского и вынудил его отдать Турень, за которую оба рода боролись уже не один век. Об этом сражении у нас есть два рассказа, которые вызывали бы очень сильные подозрения в приукрашивании событий (в пользу того или иного персонажа), если бы не сходились в том, что эта битва была менее кровавой, чем все предыдущие, и имела более решающий характер, чем Суассон и Понлевуа. В самом деле, она, похоже, стала венцом всей деятельности анжуйцев, принесшей Фульку Нерра и Жоффруа Мартеллу, как в свою эпоху, так и в книгах Нового времени, репутацию людей храбрых и стойких. В самый период «Божьего мира», который они никогда не позволяли ввести в своих «государствах», они воплощали грубость в сочетании с откровенным неуважением к Церкви, снисходительность которой покупали дарами и паломничествами. Историки 1900-х гг., склонные к гиперкритицизму, обвиняли анжуйских хронистов в выдумках всякий раз, когда те сообщали что-нибудь, говорящее об утонченности их героев и о пределах, которые те ставили своему насилию. Например, по мнению Робера Латуша, Рихер, рассказывая о Конкерéе (992 г.), «уступает склонности без нужды усложнять ситуации и приписывать своим героям утонченные мысли», и это – «досадный результат подражания Саллюстию»{343}. А ведь Рихер был современником этого события, к тому же устройство бретонцами ловушек подтверждают и другие авторы. Что же говорить об «Истории графов Анжуйских» в трех последовательных вариантах, которые все датируются двенадцатым веком? Это книга, начиненная Луканом и все тем же Саллюстием. Прежде всего это книга в куртуазном вкусе, который анахронически пропитал изложенную в ней версию боя при Конкерéе и приверженцы которого ничего так не любят, рассказывая о каждой битве, как сначала описать самомнение или преимущество неприятеля, чтобы ярче выделить перелом в пользу анжуйцев. Чего еще можно ожидать в отношении как Суассона (923 г.), так и серии анжуйских побед, кроме как реконструированных или придуманных рассказов об этих феодальных битвах?
Правду сказать, эту дилемму мы датируем не периодом феодальной мутации. Она возникла с древних времен, и тем явственней, что многие страницы Тацита, Григория Турского, Эрмольда Нигелла еще более изобилуют внушениями. Но на сей раз проблема оказывается еще острей, потому что все три крупных хрониста тысячного года, Рихер, Рауль и Адемар, каждый на свой лад, в рассказах о сражениях показывают появление зачатков рыцарства. Таким образом, всё, что они пишут на страницах своих работ о Суассоне, Конкерéе или Нуи, необходимо принимать всерьез. Надо только видеть здесь представления тысячного года о благородном и христианском сражении в целом и не отвергать то или иное в случае, если оно противоречит фактам. Разве не самое важное – внимательно читать, выявлять скрытую стратегию рассказчиков, коль скоро они считаются носителями или свидетелями настоящих пред– или проторыцарских ценностей? Если магнаты испытывали потребность в оправдании своих войн, обращались за помощью к святым, проявляли смелость, а еще чуть больше афишировали ее, то всё это было вполне свойственно и всем мелким и средним рыцарям, которые вышли на сцену в ходе данной главы. Сравнение с Раулем Глабером в отношении рассказа о Нуи служит даже к выгоде «Истории графов Анжуйских», несмотря на расхождения. В отношении этой «Истории» надо делать оговорки (или приберечь ее для главы о двенадцатом веке), но не отбрасывать ее напрочь.
Впрочем, какой рассказ об историческом сражении верен, то есть точен и полон? Это слишком значительные события, они волнуют или шокируют, а также достаточно запутаны и для позднейших рассказчиков важны слишком во многих отношениях… Исследования Ксавье Элари о XIII и XIV вв. дают и другие примеры расхождений в рассказах{344}. Перечитайте реконструкции битвы при Ватерлоо у Стендаля и Виктора Гюго, чтобы убедиться в пристрастности «свидетельств романа»{345}, а хроники тысячного года в конечном счете отчасти выполняли функцию романов.
Пусть сражения феодальной эпохи были не наполеоновскими, но тем не менее организованными. Они не сводились к набору «схваток», как у описанных Тацитом германцев. Применялось настоящее развертывание кавалерии в две линии – как при Суассоне, так и при Конкерéе. Тем не менее решающее значение имела судьба командующих, претендентов на победу. Гибель Роберта I при Суассоне не дала возможности понять, что именно решил Божий суд, потому что сын Роберта впоследствии выиграл, а гибель графа Конана изменила исход боя при Конкерéе, упорство анжуйцев было вознаграждено, может быть, и неожиданно для них самих. Наконец, при Нуи пленение Тибо Блуаского, вероятно, объясняет, почему битва приняла несколько неожиданный оборот – и позволило Раулю Глаберу, не исключено, что вполне обоснованно, порадоваться чудесному отсутствию убитых и раненых.
Априори эти сражения не должны бы выглядеть слишком «рыцарскими» постольку, поскольку они все-таки были эксцессами феодальной войны. Разве они не были обусловлены весомыми ставками, неким всплеском ненависти? Всякий раз кто-то хотел решить проблему насильственным путем – и это, кроме как для Жоффруа Мартелла при Нуи, оборачивалось для него конфузом и кровопролитием. В этих рассказах бесполезно искать примирений с красивыми жестами вечером после большой битвы. Рихер и Рауль Глабер, оправдывая одного из противников, порицают несправедливость другого. Авторы «Истории графов Анжуйских» тоже насмехаются над побежденными.
Впрочем, в этих сражениях одно вероломство сменялось другим, и, на первый взгляд, ничего честного там не было. Одно из двух: либо никакого кодекса правил, даже негласного, в войне князей не существовало, либо они постоянно нарушали его. На 15 июня 923 г. выпало воскресенье, и король Роберт I не ожидал нападения вражеского оста; это стоило ему жизни, ведь его сторонникам пришлось облачаться в доспехи спешно, и противник имел численное превосходство – до подхода Гуго [сына Роберта] и подкреплений{346}. Таким образом, Карл Простоватый напал на него внезапно, он, разумеется, не предложил Божьего суда в виде поединка и даже не шел во главе или в рядах своих войск. Далее, при Конкерéе, 27 июня 992 г., граф Конан, вероятно, по наущению и при помощи своих норманнских союзников, устроил западню, в которую попала анжуйская конница, после чего не пощадили и его жизни.
Но Карл Простоватый был Каролингом, которого беззаконно свергли и власть которого оспаривали, а Конан – бретонцем. При Понлевуа и Нуи никаких коварных поступков, сравнимых с их поступками, не произошло.
И все-таки, правду сказать, даже самые рыцарские сражения (как Бремюль 20 августа 1119 г.), даже турниры XII в. будут допускать военные хитрости – или как минимум элементы притворства.
Впрочем, что касается битвы при Суассоне 923 г., Рихер и Адемар Шабаннский приписывают Роберту I, хоть и считают его узурпатором, настоящий благородный поступок. Он обнаружил себя для противника, выставив развевающуюся седую бороду: она сыграла роль «стяга», отмечает Адемар. Оба рассказа идентифицируют того, кто его убил (и погиб вместе с ним): это был граф Фульберт, которого Карл Простоватый назначил командовать первой линией – по Рихеру, предупредил об опасности – по Адемару. Таким образом, в обоих рассказах битва сосредоточена в этом смертельном поединке, волнующем и героическом.
Для авторов тысячного года в сражениях существовали некие правила. Так, бой при Конкерéе, согласно Раулю Глабер{347}, состоялся в том месте, о котором договорились противники – и где, кстати, за одиннадцать лет до того произошел другой бой, так что, похоже, это было чем-то вроде традиционного места сражений, как позже традиционным местом турниров сделают пограничную зону между «странами».
Я совсем не считаю, что все речи Конана и Фулька перед сражением Рихер придумал. Конан велит своим людям не двигаться с места; он ссылается на негласное положение, согласно которому атакующий первым показывает свою неправоту. Это предлог, чтобы заманить анжуйцев в ямы-ловушки, которые он велел вырыть и прикрыть соломой, – но для феодальной войны в те времена был как раз очень характерен демонстративный или показной пацифизм. Фульк Нерра призывает своих людей атаковать: «Ведь мужи могут питать наилучшие надежды, если Бог от них не отвернется»{348}. Это мог бы сказать даже какой-нибудь Геральд Орильякский. Рихер выстраивает свой рассказ, учитывая систему ценностей, зная, что в войнах князей присутствовали речи и хитрость, которые он воспроизводит, скорее всего, достоверно. И, кстати, нельзя пропустить один важный новый факт, который впервые отмечается в феодальной Франции: Фульк Нерра набирает наемников, во всяком случае наемных рыцарей. До Конкерéя, как пишет автор? А может быть, это происходило в основном после битвы, непосредственно среди противников, которые внезапно лишились своего графа? В борьбе задело анжуйцев, начиная с 992 г., мог участвовать не один бретонский рыцарь – хартии земель на Луаре периодически свидетельствуют об их присутствии. А ведь мы скоро увидим, что наемные рыцари сыграли очень важную роль в истории рыцарства!