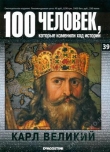Текст книги "Рыцарство от древней Германии до Франции XII века"
Автор книги: Доминик Бартелеми
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 29 (всего у книги 47 страниц)
Здесь, правда, рыцарство думает только о самом себе. Посвящение Жоффруа Плантагенета выглядит не чем иным, как предложением заслужить уважение других рыцарей – подвигами, милосердием, щедростью. И никаких рассуждений о его социальной полезности для защиты тех, кто в нем нуждается, или о служении государству – вопреки желаниям других клириков двора Плантагенетов, современников Жана де Мармутье, выраженным с беспрецедентной силой{687}.
Спустя недолгое время после посвящения граф Жоффруа отправился на турнир между бретонцами и нормандцами – слишком кровавый для реального и откровенно вымышленный, потому что Жан из Мармутье описывает участие в нем несчастного Вильгельма Клитона, который как раз тогда вел во Фландрии свой последний бой. Во всяком случае, Жоффруа сделал красивый жест. Как зять герцога Генриха он должен был сражаться на стороне нормандцев вместе с племянниками последнего; пусть даже они были его соперниками в качестве претендентов на наследство, тем более нельзя было позволить, чтобы только они выглядели защитниками чести Нормандии. Но Жоффруа заметил, что бретонцы в меньшинстве, и стремление к некой fair-play побудило его примкнуть к ним, чтобы уравновесить силы. После этого он принес им победу, выиграв смертельную схватку с великаном, отчасти благодаря сверхмощной броне своего доспеха и в духе своего предка, графа Жоффруа Серого Плаща, как о том рассказывает «История графов Анжуйских»[174]174
Составленная и несколько раз переработанная в XII в.: Histoire des comtes d'Anjou. P. 38. В этом произведении отважные князья чередуются с мудрыми, графы-воины – с графами-судьями (как Морис после Жоффруа Серого Плаща: ibid. P. 45), в соответствии с системой, уже отмеченной у Ламберта Ардрского.
[Закрыть].
Согласно Жану из Мармутье, в его герое сочетались достоинства храбрости и мудрости, каковым сочетанием обладали не все его предки. Однако девиз его правления был взят не из Библии[175]175
Не то чтобы этот монах в своем сочинении совсем забыл о Священном писании и христианских добродетелях, но они упоминаются лишь кое-где мимоходом, не бросаясь в глаза.
[Закрыть]. Он проистекал из «философии», в данном случае из «Энеиды» Вергилия, и имел совершенно римский характер: «Parcere subjectis et debellare superbos» (щадить покорных и усмирять гордых). Правду сказать, он не был ни слишком ясным, потому что все дело в интерпретации и дозировке, ни слишком новым, потому что соответствовал практике общества мести, как и Библия после Хлодвига. По сути он был выбран из некоего снобизма, так как в XII в. на Луаре все, включая рыцарей, любили считать свою эпоху возрождением Рима. Отныне этот девиз в качестве лейтмотива сопутствовал сугубо рыцарским поступкам Жоффруа Плантагенета. Или, скорей, сделался его лозунгом, чтобы своей внушительностью компенсировать отсутствие таких случаев, когда бы граф полностью усмирил гордых!
Это красивое милосердие проявлялось прежде всего в отношении пуатевинцев, то есть противников из соседней провинции, что, как мы знаем, было совершенно обычным делом. Эти люди в основном были «довольно свирепы, но более смелы, чем упорны», и здесь монах Жан перенимает анжуйское высокомерие у авторов «Истории графов Анжуйских», проявленное в рассказе о битвах XI в., в котором эти противники выглядят самонадеянными фанфаронами{688}. Здесь речь идет всего лишь о заурядной феодальной войне, с набегами и стычками. Пуатевинцы заняты нападениями «на него» (на графа Жоффруа или, скорее, на его крестьян), и он отвечает им тем же – или, вернее, отплачивает в двойном размере, потому что наносит им поражение и при этом по-настоящему мстит (их крестьянам). И вскоре для одного пуатевинского отряда дело оборачивается плохо: четыре рыцаря попадают в плен. Жослен Турский, захвативший их, – сенешаль Анжу. Он запрашивает у графа Жоффруа инструкции. «Надо ли отпустить их временно, но в обмен на заложников, или же, назначив точный выкуп, положиться на их честное слово?»{689} В первом случае еще следовало провести переговоры о сумме выкупа, во втором сделка была бы заключена и оставалось довериться их слову рыцарей. Но граф Жоффруа ни под каким предлогом не хочет выпускать их на свободу, потому что война тогда затянется. В результате Жослен остается в очень затруднительном положении с пленниками на руках. И он придумывает «ложь во спасение». Тут читатель настоящего труда, любитель чудес тысячного года, возможно, станет ожидать, что какой-нибудь святой Божий «устроит» им побег. Но нет, здесь этот читатель получит возможность присутствовать при небольшой игре, которую ведут меж собой джентльмены XII в., слушать отточенные диалоги с нюансами обращения на «ты» и «вы», видеть мизансцену, которая, как и на других страницах, придает «Истории» Жана де Мармутье нечто театральное. Ее, несомненно, можно было бы инсценировать.
Жослен Турский обращается к пленным рыцарям. Хотят ли они вновь обрести свободу, да или нет? Они сначала не торопятся отвечать и вступать в беседу, полагая, что он насмехается, и опасаясь графа Анжуйского. Наконец они понимают его план, рассчитанный на то, чтобы сыграть на тщеславии, сострадании или классовом сознании Жоффруа Плантагенета. «Вы сочините небольшое стихотворение о доблестях графа; для людей вашего края это легко, совершенно естественно для вас». Действительно, кто этого не знает? В Пуату со времен графа Гильома IX (1086–1126) вся знать – трубадуры, искушенные в плачах и сирвентах, причем больше, чем во владении оружием, как со своим комплексом превосходства считали анжуйцы. «Что до меня, – продолжает Жослен, – я приму его здесь, когда будет уместно. И в тот момент я найду повод, чтобы он выслушал вашу песнь. Я возлагаю надежду на своего сеньора, он добр, думаю, он сжалится над вами»{690}.
И в самом деле, Жослен устраивает Жоффруа в своем замке Фонтен-Милон превосходную трапезу, с изысканными блюдами, «доставленными Церерой и Вакхом», со всеми видами мяса и пряностей. В нужный момент он исчезает, чтобы вывести пленников из их тюрьмы и отправить их на этаж (помост) большого зала, в то время как граф проходит внизу. Услышав стих, в котором поют ему хвалу, тот поднимает глаза и осведомляется: кто это там наверху? Жослен объясняет: в честь такого радостного события, как приезд графа, он позволил пленным пуатевинцам увидеть немного света. Эта красивая инициатива как будто приводит Жоффруа в доброе настроение, и ему остается только расчувствоваться при виде этих рыцарей, грязных и неухоженных – такова судьба пленников – и совершенно отощавших. «Кто не испытывает сострадания к собратьям по занятию, – говорит недавно посвященный граф, – у того слишком бесчувственное сердце. Если ты рыцарь, ты должен жалеть рыцарей, особенно когда они покорились. Пойдите к ним, снимите с них оковы; пусть они умоются и облачатся в новые одежды, чтобы могли усесться за стол вместе со мной»{691}. Так что они присоединяются к Жоффруа и после этого слышат от него, что поступили дурно, напав на него и разорив его земли – за что Бог и предал их в его руки. Но он прощает их и как великодушный государь в конечном счете посвящает их заново, возвращает им коней и оружие, берет на себя расходы по их возвращению на родину. О выкупе больше нет и речи, тем более о возмещении убытков ограбленным крестьянам. Можно только восхититься щедростью Жоффруа Плантагенета и отметить, что, похоже, она окупилась, так как вчерашние пленники вызываются стать его вассалами под присягой. Он как добрый государь довольствуется обещанием, что на него больше не нападут[176]176
Сравните с королем Людовиком VII, который при Тальмоне, в отношении, правда, мятежных вассалов, выказал крайнюю жестокость и бестактность: Histoire du glorieux roi Louis. 7.
[Закрыть].
Этот красивый жест в Фонтен-Милоне приносит пользу и всегдашним противникам Анжуйца: нанося урон графу, они поступали неправильно, но слишком испорченными рыцарями не были. Более того – даже в отношении собственных вассалов, когда они строптивы и позорят его, Жоффруа Красивый дает красивый пример великодушия. Вот рыцари, отступившие в свой замок Сент-Эньян, откуда постоянно нападают на «него». Даже за трапезой один из них поносит на словах графа Жоффруа, произносит почти что феодальное кощунство, заявляя, что наденет графу на шею раскаленное железное ожерелье и не снимет, пока оно не остынет от его жира… Предложение столь дикое, что другой вассал его осуждает. Он читает нотацию о том, что к сеньору надо питать уважение: «Наша ненависть справедлива, но разить врага мечом слова – недостойная месть»{692} (возможно, кроме как – заметим мимоходом – в Пуату, у трубадуров). И потом, графу Жоффруа «нет равного среди земных князей»: этот обиженный рыцарь не лишил его своего уважения.
Поскольку этот диалог слышали на кухнях Сент-Эньяна, граф Анжуйский вскоре был извещен о нем. Он не сказал ни слова тем, кто передал ему эти речи. Но через некоторое время те, кто их произнес, во время нового набега были захвачены людьми графа. Он вызвал пленных к себе по очереди, начав с рыцаря, отчитывавшего своего собрата, чтобы заставить ругателя помаяться ожиданием.
«Ты причинил мне беспокойство, опустошая мою землю, как мог. И это неправильно, если я не ошибаюсь [отметим-таки эту оговорку!]. Теперь, когда ты у меня в руках, скажи, в чем я неправ перед тобой. Что я тебе сделал?»
Собеседник трепещет, потому что он в плену. «Сам по себе я не гожусь для защитных речей, – говорит он, – и прошу у тебя только милосердия». И он получает его, в полной мере и даже с избытком, так как Жоффруа Плантагенет возвращает ему коней, оружие, все захваченное добро и даже велит своим прево вновь соблюдать его права. Граф также предлагает позже снова вернуться под его начало, чтобы стать причастным к его щедротам, его тайнам. Разве этот человек чести не «сохранил свою веру и мир в среде “ненависти”» (видимо, это слово – технический термин, означающий бесстрастную, контролируемую месть)? Он заслуживает, чтобы князь, им почитаемый, обошелся с ним как с гостем.
Очередь ругателя. Граф сразу же мечет на него «грозные взгляды». И тому не по себе. Возможно, он знает, и получше нас, что не один только Людовик VII способен калечить предателей. Он успокаивает себя лишь тем, что Жоффруа не накажет его дважды! Граф бросает ему в лицо оскорбление, которое тот произнес за глаза в своем замке. Тому грозит гибель, и он выдавливает из себя минимальное оправдание: «Я отозвался о тебе чрезвычайно грубо, но в моем сердце проклятия не было. Тем не менее делай со мной, что сочтешь нужным»{693}. Душа у Жоффруа Красивого – красива, и он прощает, произнося благородные слова. Рыцарь сможет даже вернуться, чтобы потребовать суда, – но тогда он будет иметь дело со специалистами по феодальному праву, которые подарка ему не сделают. Как я уже отмечал в отношении Фландрии, отныне, в XII в., рыцари вполне могли быть взаимно вежливыми вне судебной сферы как таковой, четко выделившейся в то время. Было можно и нужно проявлять учтивость, не предвосхищая решений суда.
Жан из Мармутье явно не пытается искать христианских побуждений для милосердия графа, довольствуясь тем, что со всех сторон рассматривает вергилиевскую максиму. Он славит «благородный гнев льва», сочетающийся с «прекрасным милосердием слона». Итак, в плане милосердия идеал князя секуляризируется. Однако эти сцены и диалоги можно сопоставить со сценами и диалогами из «Чудес Богоматери», записанными около середины XII в. в Рокама-Дуре, Шартре и разных других местах. В обоих случаях христианин, оказавшись в опасности, уже не ссылается, как в тысячном году, на какие-то свои права, прочные или зыбкие, которыми он всегда пользуется совместно с кем-нибудь еще: он предпочитает (или догадывается, что так будет лучше) принять позу просителя, молящего о пощаде. Он больше не взывает к закону, а полагается на милость. И в этом смысле Жоффруа Плантагенет – Дева Мария! По крайней мере так воссоздает его образ Жан из Мармутье.
Историки Нового времени часто соотносили быстрый рост популярности поклонения Деве Марии и возвышение куртуазной Дамы в сентиментальном XII в. Не слишком ли все-таки избито это сравнение? И, кстати, разве дам XII в. почитали больше, чем их прабабок тысячного года? Они всегда обладали властными полномочиями (власть их была очень относительной, но вполне реальной) благодаря системе родства по женской линии, укрепленной Каролингами, и феодальной мутации девятисотого года. И тот факт, что авторитет ученого права (римского) вырос, давал дамам возможность столько же потерять, сколько и приобрести{694}. В «Истории Жоффруа Плантагенета», где посвящение играет намного более важную роль, чем свадьба, как раз можно отметить редкостное отсутствие женщин: они не выступают ни в ролях посредниц, ни в ролях вдохновительниц. Их не упоминают даже пуатевинские трубадуры!
Зато есть нечто общее между представлениями о роли Марии на небесах и куртуазного князя на французской земле. И мы только что затронули это общее, пролистнув страницу книги Жана из Мармутье. Обе этих власти несколько вольно относятся к закону, легко прощая тех, кто искренне, из сердечного порыва доверяется им. Им присущ некий произвол, их решения свободней, если посмею сказать, чем решения самого Бога – того самого Бога справедливой мести и обоснованного прощения, который в представлении людей раннего Средневековья надзирал за ними и карал их и чью роль на земле отчасти принимали на себя христианнейшие капетингские короли, вроде Людовика VI или Людовика VII.
Однако красивое милосердие графа Анжуйского не осуществляется однозначно по примеру Девы Марии. В целом рыцарство Плантагенетов имеет намного более профанные черты, чем королевское. Ни Бог, ни женщина-госпожа (Матильда или какая-либо другая) не оказывают решающего влияния на культуру политических нравов, которую восхваляет и идеализирует в своем герое Жан из Мармутье.
Период правления графа Жоффруа в Анжу изобилует конфликтами с вассалами, и соблазнительно{695} сопоставить их с походами Людовика VI по своей королевской Франции (своему «домену»). Несмотря на бросающееся в глаза различие между монахами Жаном и Сугерием, здесь можно также заметить, что для распрей, как и для мести, у Людовика были юридически обоснованные поводы и что в осты кое-как набирали всадников и пехотинцев, в неравной мере горящих желанием рушить замки. Наконец, государь, объявляемый «победителем», щадил побежденного: в самом деле, не раз бывало, что оба договаривались сохранить лицо друг другу и не посягать на коренные интересы противника – в доброй традиции файды, которую здесь обнаружил Брюно Лемель{696}. Тем не менее манера подачи и отбор материала у Жана из Мармутье существенно отличаются от таковых у Сугерия, даром что оба были монахами. Первый гораздо меньше говорит о причинах каждого конфликта. У него нет ни одной сцены обращения, например, обиженного вассала с прошением к князю, который в качестве судьи, равно как и Людовик VI, был здесь светской рукой Бога, а значит, никаких настоящих обличений «тиранства» сеньоров-шателенов – за единственным исключением Сюльписа Амбуазского, один раз заклейменного автором за разбой в манере, немного напоминающей сугериевскую{697}. Только постоянное повторение вергилиевского лозунга, «debellare superbos» [смирять гордых], наводит нас на мысль, что имеются в виду неправые противники, мятежные вассалы. А те, вероятно, в свою очередь могли бы пожаловаться на нарушения своих прав князем, сходные с теми, какие допускает «Карл Мартелл» в «Жираре Руссильонском»{698}. Вот почему, несомненно, их восстания были во многих отношениях простительными. Так что, хотя автор, говоря о мятежах, использует для красоты стиля отдельные слова из римской лексики, действительность обычно была крайне далека от тех репрессий, которые соответствовали бы этим словам в Античности.
В таком случае милосердие графа Жоффруа можно было бы считать некой формой восстановления справедливости. Но Жан из Мармутье откровенно не желает развивать эту тему – он изображает такое милосердие как проявление принципиальной солидарности рыцарей.
Этот граф сохраняет свирепый облик только благодаря пылу в битвах. Он не король, но как будто сражается еще более рьяно, чем в свое время Людовик VI. Его неистовство несет смерть{699} и побуждает его все больше рисковать – его пытаются выбить из седла, ему чудесным образом удается удержаться на коне{700}, несомненно, благодаря луке по последней моде. Это настоящий боец: он бьется, можно было бы сказать, как лев, которого он сделал своей эмблемой и который вскоре превратится в леопарда.
Тем лучше, поскольку именно это нужно и, может быть, даже несколько в большей мере, чтобы отринуть всякую снисходительность по отношению к врагу, всякие опасения нанести излишний вред, всякие сомнения перед тем, как покарать по-настоящему. Когда при осаде замка Ги де Лаваля (Мерле) в 1129 г. «плебейский отряд», проявляя «жажду мести», «врывается, убивает гарнизон и устраивает пожар», что делает Жоффруа? Он держит совет со своей свитой (mesnie, приближенными), возможно, с некоторыми из тех, кого посвятили вместе с ним, «баронами», которые дважды упоминаются как находящиеся у него на службе (никто из них мятежей не поднимал). Наконец граф вступает в бой, но лишь потому, что «заботится о спасении рыцарей» (вражеских) и хочет «вырвать их из рук крестьян» (из собственного лагеря){701}. Так же он ведет себя в Монтрёй-Белле в 1151 г.{702} Точно так же, повторим, поступал Людовик VI во время первой осады Ле-Пюизе весной 1111 г.{703}
По сути мы имеем дело с феодальными войнами, в которых Жоффруа Плантагенет ведет себя достаточно традиционно, в духе Людовика VI, Вильгельма Завоевателя, всех региональных князей. Всякий раз его ост выдвигается и ведет разведку территории. Его продвижение замедляют соглашения, порой прекращающие конфликт, как в Партенé{704}. Следующий этап – осада или скорее блокада. Иногда она выливается в конный бой, если осажденные делают вылазку и попадают в ловушку{705}. Нередко «замок», в широком смысле слова, берут штурмом: так, люди графа захватывают городок Монтрёй-Белле. Но потом остается еще цитадель сеньора, нередко «чудесная башня»{706}, какие из камня, все выше и выше и со знанием дела, возводит тогдашняя архитектура, переживающая быстрый прогресс (вспомните «романские» церкви) и финансируемая благодаря экономическому росту{707}. Чтобы подорвать ее оборону, графу требуются мощные осадные орудия – требюше, камнеметы, мангонно, которые не установить без масштабных земляных работ. Решение дела путем переговоров могло бы сберечь время, деньги и человеческие жизни (не только простолюдинов). Поэтому крупным сеньорам, которых приходится осаждать уже в донжонах (несомненно потому, что раньше к соглашению прийти не удалось), как было в Туаре (1129 г.) или Монтрёй-Белле (1151 г.), ставят более жесткие условия, чем в случае быстрой сдачи: замок подлежит частичному сносу, одну из стен башни повреждают «в назидание» (но надолго ли?). Тем не менее обездоленным не становится никто: ни один из «мятежных баронов» никогда не падает столь низко, как Жирар Руссильонский, ставший угольщиком в лесу, и даже не подвергается временному изгнанию. Жоффруа Плантагенет проявляет неумолимость только по отношению к своему брату Эли, отбирая у него Мэн, хотя тот явно предназначался ему, судя по его имени – он был назван в честь Эли, деда по матери («белого башелье», дорогого для Ордерика Виталия). Этой темы Жан из Мармутье, возможно, несколько избегает{708}.
Итак, если Жоффруа Плантагенет часто показывал себя снисходительным, это объяснялось также соотношением сил. Что касается вергилиевской максимы, «debellare superbos», то Жан из Мармутье, по сути, искажает ее смысл. В реальности его государь не делал никакого различия между смиренными и «гордыми»: последних он в конечном счете всегда прощал на условиях, конечно, разных, но никогда не кабальных. Анжуйское баронство отделывалось «царапинами», спесь с него не сбивали[177]177
Кстати, не всегда доволен бывал и Жан из Мармутье. Граф Жоффруа помиловал Ги де Лаваля, «хотя легкое прощение поощряет проступки» (Р. 202)... Все дело в дозировке, не так ли?
[Закрыть].
В нормандском походе с 1142 по 1144 г. ведущая нота – «гуманность» Жоффруа, он изначально{709} – еще более явственно, чем имея дело с анжуйскими «мятежниками», – был настроен не причинять серьезного ущерба рыцарям короля-соперника (Стефана Блуаского). Это напоминает не столько войну, сколько операцию по переманиванию знати и духовенства на свою сторону. То есть здесь действовала норма, выявленная Мэтью Стриклендом: гарнизон не обязан держаться до последнего, если его сеньор или кто-либо другой достаточно быстро не придет на помощь{710}.
Вслед за Жоффруа и его сын Генрих Плантагенет не упускал случая расширить владения. Присоединив к Англии, чьим королем он был с 1154 г., четыре французских княжества{711}, он должен был создать настоящую администрацию, чтобы править с ее помощью. Он брал сыновей и дочерей сеньоров под опеку, якобы затем, чтобы они росли при дворе; тем самым он покровительствовал им и в то же время старался как можно дольше взимать доходы с их фьефов – это злоупотребление обличал Гислеберт Монский{712}.[178]178
Те же права (и злоупотребления ими) распространялись на вакантные епископства.
[Закрыть] Благодаря своим доходам Генрих мог устраивать большие и пышные придворные праздники, как на Рождество 1182 г.[179]179
Его размах хвалит «История Вильгельма Маршала»: Histoire de Guillaume le Marechal. P. 73.
[Закрыть] в Кане, и привлекал на службу к себе или к сыновьям многих рыцарей, служивших из чести, и наемников, организованных в «руты», которые обычно вели жестокую войну.
Но мог ли Генрих Плантагенет расточать без счета? Расходы его старшего сына Генриха Молодого на турниры в 1170-е гг. вынудили его прекратить эту практику! И мог ли он удовлетворить всех? Его прево, юстициарии, сенешали и бальи расширяли свои права и вызвали такое недовольство, что в 1172 г. вспыхнуло восстание с участием всех его сыновей и жены Алиеноры Аквитанской, которых поддержали многие бароны, – а также добрый король Людовик VII. Однако от сражения эти мятежники уклонялись{713}. Генрих Молодой не мог принять никакого решения, получая от своего окружения противоречивые советы, и в конечном счете Генрих-отец расколол единый фронт противников, использовав то же вергилиевское сочетание суровости и милости, без которого доброму государю не обойтись. Верной их дозировке, конечно, приходилось учиться не столько по книгам, сколько из жизненного опыта, и он выбирал ее интуитивно. Все-таки случайно ли «История Жоффруа Плантагенета» была написана именно в тот период? Жан из Мармутье как будто предлагает Генриху взять за образец отца, который был милосерден, – так же как Сугерий, преследуя противоположные цели, около 1144 г. создавал для Людовика VII образ его отца, более энергичного, чем сын.